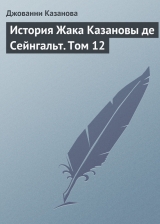
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 1"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава I
История Жака Казановы де Сейнгальт, венецианца, написанная им самим в замке Дукс, Богемия.
В году 1428 дон Джакопо Казанова, родившийся в Сарагосе, столице Арагона, побочный сын дона Франческо, выкрал из монастыря донью Анну Палафокс в день, когда она уступила его желаниям. Он был секретарем короля дона Альфонсо. Он бежал с ней в Рим, где, после года в тюрьме, папа Мартин III, по рекомендации дона Жуана Казанова, магистра святого престола, дяди дона Джакопо, дал донне Анне освобождение от её обетов и благословение на брак. Все, произошедшие от этого брака, умерли в раннем возрасте, кроме дона Жуана, который женился в 1470 на Элеоноре Альбини, от которой имел сына по имени Марк-Антонио.
В 1481 году дон Жуан был вынужден покинуть Рим из-за убийства офицера короля Неаполя. Он бежал в Комо со своей женой и сыном, а затем отправился искать счастья. Он умер во время путешествия с Христофором Колумбом в 1493 году. Марк-Антонио стал хорошим поэтом, в духе Марциала, и был секретарем кардинала Помпео Колонна. Сатира против Джулио Медичи, которую мы читаем среди его стихов, вынудила его покинуть Рим, он вернулся в Комо, где женился на Абондии Реццонико.
Этот Жюль де Медичи, став папой Климентом VI, простил его и вернул с женой в Рим, где, после взятия и разграбления города имперцами в 1526 году, он умер от чумы. В противном случае он бы умер от нищеты, поскольку солдаты Карла V забрали у него все, чем он владел. Пьер Валериан говорит достаточно об этом в своей книге De inleticitat litteratorum.
Через три месяца после его смерти его вдова родила Жака Казанову, который умер в старости во Франции, в чине полковника армии Фарнезе, воевавшего против Генриха, короля Наварры, затем – Франции. Он оставил сына в Парме, который взял в жены Терезу Конти, от которой имел Жака, который женился в году 1680 на Анне Роли. Жак имел двух сыновей, из которых Ж. Батист, старший, уехал из Пармы в 1712 году и неизвестно, что с ним сталось. Младший Гаэтан Жозеф Жак оставил также свою семью в 1715 году в возрасте девятнадцати лет. Это все, что я нашел в капитулярии моего отца.
Из уст моей матери я узнал следующее: Гаэтан Жозеф Жак оставил свою семью, очарованный прелестями актрисы по имени Фраголетта, которая играла роли субреток. Влюбленный, не имея средств существования, он решился зарабатывать на жизнь собственной персоной. Он посвятил себя танцу и, спустя пять лет, играл в комедии, отличаясь своими манерами даже больше, чем талантом.
То ли из-за непостоянства, то ли по мотивам ревности, он покинул Фраголетту и отправился в Венецию в труппе комедиантов, которые играли на сцене театра С. Самуил. Напротив дома, где он жил, был сапожник по имени Джером Фарусси с женой Марсией и Занеттой, их единственной дочерью, совершенной красоты, шестнадцати лет от роду. Молодой актер влюбился в эту девушку, смог воздействовать на её чувства и уговорить с ним бежать.
Будучи актером, он не мог надеяться на согласие ее матери Марсии и, тем более, отца Жеронимо, в котором актер подозревал ужасный характер. Молодые влюблённые с необходимыми документами и в сопровождении двух свидетелей предстали перед патриархом Венеции, который соединил их в браке. Марсия, мать девушки, разразилась воплями, а отец умер от горя. Я родился от этого брака по истечении девяти месяцев, 2 апреля года 1725.
В следующем году моя мать оставила меня на руках у своей, которая простила её, потребовав сначала, чтобы мой отец пообещал никогда не допускать ее на сцену. Это то обещание, которое все комедианты дают дочерям буржуа, с которыми вступают в брак, и которое они никогда не соблюдают, потому что те не очень заботятся о соблюдении этих слов. Моя мать была очень рада, что научилась играть в комедии, поскольку без этого, овдовев после девяти лет брака, с шестью детьми, она не имела бы средств, чтобы их вырастить.
Мне был год, когда мой отец оставил меня в Венеции, чтобы ехать играть комедии в Лондоне. В этом великом городе моя мама в первый раз вышла на сцену и там родила в 1727 году моего брата Франсуа, известного художника-баталиста, который с 1783 года живет в Вене, занимаясь там своим ремеслом. Моя мать вернулась в Венецию со своим мужем в конце 1728 года, и, поскольку она стала актрисой, она продолжала ею быть. В 1730 году родился мой брат Жан, который умер в Дрездене в конце 1795 года, на службе у курфюрста, директором Академии живописи. В течение следующих трёх лет она родила двух дочерей, из которых одна умерла в младенчестве, а другая была замужем в Дрездене, где в этом, 1798 году, она еще живет. У меня был другой брат, родившийся после смерти отца, который стал священником и умер в Риме пятнадцать лет назад.
Вернёмся теперь к началу моего существования как мыслящего существа. Орган моей памяти стал действовать к началу августа 1733 года. Мне тогда было восемь лет и четыре месяца. Я ничего не помню, что случалось со мной до этого времени. Вот факт.
Я стоял в углу комнаты, наклонившись к стене, поддерживая голову и не спуская глаз с текущей обильно из моего носа на пол крови. Марсия, моя бабушка, у которой я был любимчик, пришла ко мне, вымыла мне лицо холодной водой и без ведома всего дома взяла с собой в гондолу и отвезла на Мурано.
Это густонаселенный остров, отстоящий от Венеции в получасе. Выйдя из гондолы, мы входим в лачугу, где находим старуху, сидящую на убогой лежанке, держащую на руках черного кота, и пять или шесть других кошек вокруг неё. Две старые женщины завели длинную беседу, предметом которой был я. В конце своего диалога на фриульском диалекте ведьма, получив от моей бабушки серебряный дукат, открыла ящик, взяла меня на руки, положила туда и закрыла, велев мне не бояться. Это был бы способ как раз внушить мне страх, если бы я немного соображал, но я был ошеломлен. Я оставался спокоен, держа платок у носа, потому что кровотечение продолжалось, весьма равнодушный к грохоту, который слышался снаружи. Я слышал смех, плач, время от времени крики, пение и удары по ящику. Всё это было мне безразлично. Наконец, меня вытащили наружу, моя кровь утихла. Эта необыкновенная женщина, дав мне сотню поцелуев, раздела меня, положила на кровать, стала жечь снадобья, собирая дым в полотенце, пеленая меня в него, читая заклинания, после чего развернула меня и дала мне пять пилюль, очень приятных на вкус. Затем она тут же натирает мне виски и шею мазью со сладким запахом и одевает меня. Она сказала мне, что мои кровотечения будут постепенно уменьшаться, если я не расскажу никому, что она сделала, чтобы вылечить меня, и пообещала, наоборот, потерю всей крови и смерть, если осмелюсь кому-нибудь поведать эти тайны. После этого наказа она поведала мне о милой даме, которая придет ко мне в гости на следующую ночь, что мое счастье зависит от того, смогу ли я никому не говорить об этом визите. Мы вышли и вернулись домой. Едва улегшись спать, я уснул, даже не помня о прекрасном визите, который мне должны были нанести; но, проснувшись через несколько часов, я увидел, или подумал, что увидел, спустившуюся из дымохода в большой корзине ослепительную женщину, окутанную в превосходную ткань, с надетой на голове короной, усыпанной драгоценными камнями, казалось, сверкающими огнем. Она подошла медленно, с величественным и добрым видом, и села на мою постель. Она достала из своего кармана маленькие коробки, которые приложила к моей голове, бормоча слова. Проведя со мной длинную беседу, из которой я ничего не понял, и поцеловав меня, она ушла туда, откуда пришла, и я заснул. На следующий день моя бабушка, прежде, чем подойти к моей кровати, чтобы меня одеть, велела мне молчать. Она предсказала мне смерть, если я осмелюсь повторить то, что должно было случиться со мной ночью. Это указание, данное женщиной, бывшей для меня абсолютным авторитетом, кому я привык подчиняться слепо во всем, было причиной, по которой я запомнил видение и, запечатлев его, поместил в самом укромном уголке моей детской памяти. Кроме того, я не чувствовал искушения передавать кому-то этот факт. Я не знал, кому бы это могло быть интересно, ни кому бы это можно было рассказать. Моя болезнь делала меня хмурым и совсем не веселым; мне хотелось, чтобы все оставили меня в покое; я просто существовал. Мои отец и мать никогда со мной не говорили. После поездки на остров Мурано и ночного визита феи, у меня ещё бывали кровотечения, но все же меньше, и моя память постепенно развивалась; менее чем через месяц я научился читать. Смешно было бы отнести мое исцеление к этим двум странным происшествиям, но было бы также ошибкой сказать, что они не могли на него повлиять. Что касается появления прекрасной королевы, я всегда считал его сном, если только эта шарада не была специально проделана для меня; но средства лечения самых тяжких болезней не всегда находятся в аптеке. Каждый день какие-то феномены демонстрируют нам наше невежество. Я полагаю, что именно по этой причине нет ничего столь редкого, как ученый с умом, полностью свободным от предрассудков. В мире никогда не было волшебников, но их власть всегда существовала в отношении тех, кого они своим талантом смогли убедить в своём существовании. Somnio, nocturnos, lémures, ponentaque Thessala rides [13] 13
Ты смеялся над ночными духами и фессалийскими чудовищами. Неточная цитата из Горация
[Закрыть]
Многие вещи, которые ранее существовали только в воображении, становятся реальными, и, следовательно, некоторые эффекты, связанные с верой, могут не всегда быть чудесными. Они – для тех, кто придает вере безграничную власть.
Второй факт из тех, что я помню и о котором хочется сказать, произошел со мной через три месяца после поездки на Мурано, за шесть недель до смерти моего отца. Я скажу о нём читателю, чтобы дать представление о том, как развивался мой характер.
Однажды, где-то в середине ноября, я находился с братом Франсуа, моложе меня на два года, в комнате моего отца, осторожно рассматривая, как он работает в очках. Заметив на столе большой ограненный блестящий круглый кристалл, я был очарован, поднеся его к глазам и видя все объекты увеличенными. Видя, что на меня никто не смотрит, я улучил момент, чтобы положить его в карман. Три или четыре минуты спустя мой отец встал, чтобы взять кристалл и, не найдя его, говорит нам, что один из нас его, должно быть, забрал. Мой брат заверил его, что он ничего об этом не знает, и, будучи виновным, я, однако же, сказал то же самое. Он пригрозил нас разоблачить и обещал розог лжецу. Полагая, что будет обследован каждый уголок комнаты, я ловко положил кристалл в карман одежды моего брата. Мой отец, озабоченный нашими бесплодными поисками, нас обыскивает, находит кристалл в кармане невинного и налагает на него обещанное наказание. Три или четыре года спустя я имел глупость похвастаться брату, что проделал такую штуку. Он не простил меня за это и пользовался любой возможностью, чтобы мне отомстить. На общей исповеди, сообщив исповеднику об этом преступлении со всеми его обстоятельствами, я обогатился эрудицией, доставившей мне удовольствие. Это был иезуит. Он сказал мне, что, зовясь Жаком, я подтвердил этим действием смысл своего имени, так как Иаков по древнееврейски означает Утеснитель. По этой причине Бог изменил имя бывшего патриарха Якова на имя Израиль, которое означает Видящий, поскольку тот обманул своего брата Исава. Через шесть недель после этого приключения моего отца сразил абсцесс от уха в голову, что за восемь дней свело его в могилу. Врач Замбелли, после того, как прописал пациенту закрепляющее снадобье, вознамерился исправить свою ошибку с помощью бобровой струи, от чего тот и умер в конвульсиях. Абсцесс прорвался через ухо через минуту после его смерти; врач удалился после убийства, как если бы не имел ничего с этим общего. Отец был в прекрасном возрасте тридцати шести лет. Он умер, оплакиваемый обществом, и, прежде всего, благородным сословием, которое воздавало ему похвалы как в отношении его поведения, так и его познаниям в механике. За два дня до смерти он захотел видеть всех нас около своей постели, в присутствии своей жены и господ Гримани, венецианских нобилей, призывая их быть нашими защитниками.
После того, как он дал нам свое благословение, он заставил нашу мать, заливавшуюся слезами, обещать ему, что она не направит никого из своих детей в театр, куда он бы сам никогда не пришел, если бы его не заставила несчастная страсть. Она поклялась ему в этом, и три патриция гарантировали ему нерушимость этой клятвы. Обстоятельства помогли ей исполнить свое обещание.
Моя мать, будучи на сносях на шестом месяце, была вынуждена играть в комедии вплоть до Пасхи. Молодая и красивая, она отказывала в своей руке всем претендентам. Не теряя мужества, она считала себя способной нас вырастить. Она полагала своим долгом позаботиться сначала обо мне, не столько из-за предпочтения, сколько из-за моей болезни, которая стала такова, что никто не знал, как со мной быть. Я был очень слаб, без аппетита, не в состоянии что-либо делать, выглядел бессмысленным тупицей. Врачи обсуждали между собою причину моей болезни. Он теряет, говорили они, по два фунта крови в неделю, а её не может быть больше шестнадцати – восемнадцати. Откуда же может происходить кроветворение в таком изобилии? Один из них говорил, что весь мой хилус [14] 14
лимфа – лат.
[Закрыть]стал кровью; другой заявил, что воздух, которым я дышу, с каждым вдохом должен увеличиваться в объеме в моих легких, и именно по этой причине я всегда держал рот открытым. Вот что узнал я через шесть лет от г-на Баффо, большого друга моего отца.
Он проконсультировался в Падуе с известным врачом Мако, который высказал свое мнение в письменном виде. Это письмо, которое я сохранил, говорит, что наша кровь являет собой эластичную жидкость, которая может сжиматься и растягиваться в своей плотности, а никак не в количестве, и что мои кровотечения могут проистекать только из-за разжижения крови. Она разжижается естественным образом для облегчения циркуляции. Он сказал, что я был бы уже мертв, если бы природа, которая хочет жить, не помогла сама себе. Он пришел к выводу, что причина этого разжижения может быть найдена только в паре, которым я дышал, надо изменить его, или готовиться меня потерять.По его мнению, плотность моей крови была причиной тупости, что проявлялась на моем лице.
Г-н Баффо, высокий гений, поэт в самом похотливом из всех жанров, но великий и уникальный, стал человеком, благодаря которому решено было поместить меня в пансион в Падуе, и которому, соответственно, я обязан жизнью. Он умер двадцать лет спустя, последним из древней патрицианской семьи, но его стихи, хотя и грязные, сделают бессмертным его имя. Венецианские государственные инквизиторы своим духом благочестия внесли вклад в его славу. Преследуя его рукописные книги, они придали им цену: они должны были бы знать, что spreta exolescunt. [15] 15
То, что презирается, забывается с течением времени. Тацит: Анналы, IV
[Закрыть]Как только оракул профессора Мако был одобрен, аббат Гримани озаботился найти мне хороший пансион в Падуе, с помощью химика, своего знакомого, жившего в этом городе. Того звали Оттавиани и он был также антиквар. Через несколько дней пансион был найден, и 2 апреля 1734, в день, когда мне исполнилось девять лет, я был отправлен в Падую на барке «Бурчиелло», по Бренте. Мы сели на барку за два часа до полуночи, после ужина. «Бурчиелло» представлял собой небольшой плавучий дом. В нём имелась зала, в которой были кабинеты с каждого конца, и жилье для служащих на носу и корме; длинная площадка на империале с застекленными окнами со ставнями; мы совершили маленькое путешествие за восемь часов. Сопровождали меня, кроме моей матери, аббат Гримани, и г-н Байо. Мать взяла меня спать с собой в зале, а два друга спали в кабинете. С началом дня она встала и открыла окно, которое было напротив кровати; лучи восходящего солнца били мне в лицо, заставив меня открыть глаза. Кровать была низкой. Я не мог видеть землю. Я видел через это окно только верхушки деревьев, растущих по краям реки. Барка движется, но движение такое плавное, что я не могу его заметить; то, что деревья быстро прячутся из глаз, вызывает мое удивление. Ах, дорогая моя мама, закричал я, что это такое? Деревья идут! В этот момент входят два сеньора и, увидев меня пораженного, спрашивают меня, что меня так заняло. Почему, сказал я им, деревья идут? Они стали смеяться; но моя мать, вздохнув, сказала мне жалостливым голосом: это барка движется, а не деревья. Одевайся. Я мгновенно понял причину явления, продвигаясь дальше со своим зарождающимся здравомыслием и вовсе не беспокоясь. Поэтому возможно, сказал я, что солнце тоже не движется, и что это мы движемся с Запада на Восток. Моя добрая мать восклицает, что это глупости, г-н Гримани сожалеет о моей тупости, и я остаюсь потрясенный, озабоченный, и готовый плакать. Тот, кто возвращает мне душу, это г-н Баффо. Он бросается ко мне, целует меня нежно, говоря: ты прав, мое дитя, Солнце не движется, будь смелее, всегда рассуждай о причинах и пусть они смеются. Моя мать спросила, не сошел ли он с ума, давая мне подобные уроки; но философ не только не отвечает ей, но продолжает втолковывать мне теорию, делая её чистой и простой для моего разума. Это было первое реальное удовольствие, которое я ощутил в моей жизни. Без г-на Байо этого раза было бы достаточно, чтобы ухудшить мою способность рассуждения: отсюда проистекло бы малодушие легковерия. Глупость двух других, безусловно, притупила у меня остроту восприятия, из-за чего я не знаю, пошел бы я дальше, но я знаю, что только этой способности я обязан всем счастьем, которым я наслаждаюсь, пребывая с самим собой.
Мы приехали рано в Падую к Оттавиани, чья жена осыпала меня ласками. Я увидел пятерых или шестерых детей, среди них дочь восьми лет по имени Мария и другую – семи лет, по имени Роза, прекрасную, как ангел. Мария десять лет спустя стала женой маклера Колонда; Роза через несколько лет стала женой патриция Пьетро Марчелло, который имел от нее сына и двух дочерей, одна из которых вышла замуж за г-на Пьера Мочениго, а другая – за знатного сеньора из семьи Корраро; этот брак был признан впоследствии недействительным. Иногда мне приходится говорить обо всех этих людях. Оттавиани отвел нас сначала к дому, где я должен был остановиться в пансионе. Это было в пятидесяти шагах от его дома, близ Санта-Мария де Авансе, в приходе Святого Михаила, у старой славонки [16] 16
народность в Далмации.
[Закрыть], которая сдавала свой первый этаж мадам Мида, жене полковника славонцев. Ей открыли мою маленькую дорожную суму, представив реестр всего, что в ней содержится. После этого ей отсчитали шесть цехинов авансом, за шесть месяцев моего пансиона. Она должна была за эту небольшую сумму кормить меня, содержать в чистоте и учить меня в школе. Надо сказать, что этого было недостаточно. Меня поцеловали, мне было приказано быть всегда послушным её приказам, и меня там оставили. Так от меня избавились.
Глава II
Моя бабушка приезжает, чтобы отдать меня в пансион доктора Гоцци. Моё первое нежное чувство.
Славонка сначала поднялась со мной на чердак, где показала мне мою постель, рядом стояли четыре других. Три из них принадлежали трем мальчикам моего возраста, они в тот момент были в школе, а четвертая – служанке, которая должна была заставлять нас молиться Богу и присматривать за нами, удерживая от обычных шалостей, присущих школьникам. После этого она спустилась со мной в сад, где, как она сказала, я могу гулять до обеда. Я не был ни счастливым, ни несчастным, я ничего не говорил, у меня не было ни опасения, ни надежды, ни капли любопытства, я не был ни весел, ни грустен. Единственное, что меня потрясло, была сама персона хозяйки. Хотя я не имел никаких представлений о красоте и уродстве, её лицо, её взгляд, тон и язык отталкивали меня: её мужские черты сбивали меня с толку всякий раз, когда я поднимал глаза на ее лицо, чтобы слушать то, что она мне говорила.
Она была высокого роста и крупная, как солдат, с лицом желтого цвета, черными волосами, бровями длинными и густыми. У нее было некоторое количество длинных волос на подбородке, уродливая наполовину открытая грудь, которая моталась, спускаясь до половины её толстой талии, и возраст около пятидесяти лет. Служанка – крестьянская девушка, которая все делала по дому. Место, называемое садом, было квадратным участком размером тридцать на сорок шагов, единственным привлекательным качеством которого был зеленый цвет. Около полудня я увидел подходящих ко мне троих детей, которые, как будто мы старые знакомые, наговорили мне кучу вещей, предполагая во мне предубеждения, которых у меня не было. Я ничего им не отвечал, но это их не смутило: они заставили меня принимать участие в их невинных забавах. Надо было бегать, носить друг друга на плечах и кувыркаться. Я принимал участие во всём этом с достаточно большой благодарностью, пока нас не позвали обедать. Я сел за стол и, видя перед собой деревянную ложку, отодвинул её, спросив мой серебряный прибор, который я ценил как подарок от дорогой бабушки. Служанка сказала мне, что, поскольку хозяйка желает равенства, я должен пользоваться общими приборами. Это меня огорчило, но я покорился. Уяснив, что все должно быть поровну, я ел, как и другие, суп из миски, не жалуясь на скорость, с которой ели мои сотоварищи, очень удивленный тем, что это допускалось. После очень плохого супа нам дали небольшую порцию сушеной трески и по одному яблоку, и обед на этом закончился. Был Великий пост. У нас не было ни стаканов, ни кружек, и мы все пили из одного глиняного бокала гнусный напиток под названием граспия. Он состоял из воды, в которой кипятили выжатые кисти винограда. В последующие дни я пил только простую воду. Этот стол меня поразил, поскольку я не знал, позволено ли мне находить его плохим. После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику по имени доктор Гоцци. Славонка договорилась платить ему сорок су в месяц, что составляет одиннадцатую часть цехина. Прежде всего, я должен был научиться читать. Поэтому меня посадили с детьми пятилетнего возраста, которые поначалу издевались надо мной. Ужин был еще хуже, чем обед. Я был удивлен, что мне не позволили на него пожаловаться. Я лежал в постели, где три весьма известных вида насекомых не дали мне сомкнуть глаз. Кроме того, крысы бегали по всему чердаку и прыгали на мою кровать, внушая страх, от которого у меня холодела кровь. Вот откуда я стал чувствовать несчастье и научился терпеливо переносить его. Однако, насекомые, что пожирали меня, уменьшали страх, который внушали мне крысы, а этот страх, в свою очередь, делал меня менее чувствительным к укусам. Моя душа выигрывала от борьбы моих недугов. Служанка же была глуха к моим крикам. При первом свете дня я вышел из этого гнезда паразитов. После того, как я пожаловался на казни, что пережил, я попросил у нее рубашку, поскольку пятна от укусов на той, что была у меня на теле, делали её отвратительной. Она ответила, что переодеваются только в воскресенье, и рассмеялась, когда я пригрозил пожаловаться хозяйке. Я заплакал в первый раз от горя и гнева, слыша издевательства моих сотоварищей. Они пребывали в тех же условия, но они привыкли. Это говорит само за себя. Охваченный грустью, я провел все утро в школе, постоянно в полусне. Один из моих одноклассников рассказал о причине доктору, с целью сделать меня смешным.
Этот добрый священник, которого послало мне провидение, пожалел меня, заставил пойти с ним в кабинет, где, выслушав меня и увидев все, был потрясен видом волдырей, покрывавших мою невинную кожу. Он быстро взял свой плащ, отвел меня в мой пансион и продемонстрировал лестригонке состояние, в котором я находился. Притворившись удивленной, она свалила вину на служанку. Она была вынуждена удовлетворить любопытство, которое священник проявил к моей кровати, и я был не менее его удивлен, когда увидел грязь простыней, в которых провел ужасную ночь. Проклятая женщина, перекладывая во всем вину на служанку, заверила его, что она её прогонит, но служанка, возвратившись в этот момент и не желая перенести выговор, сказала ей в лицо, что это ее вина, раскрывая постели трех моих товарищей, грязь которых была равна моей. Хозяйка на это отвесила ей удар, на который та ответила более мощным, обратившим первую в бегство. После этого доктор ушел, оставив меня там и сказав ей, что не пустит меня в свою школу, пока она не сделает меня таким же чистым, как другие ученики. После чего я должен был вынести весьма сильный выговор, который она закончила, говоря мне, что в случае другого подобного беспокойства она выставит меня за дверь.
Я ничего не понимал, я только родился, я представлял себе только дом, подобный тому, где я родился и вырос, где соблюдались чистота и добропорядочность; я увидел грубость и ругань: мне казалось невозможным, чтобы меня в чем-то обвиняли. Она сунула мне в нос рубашку, и час спустя я увидел новую служанку, которая сменила простыни, и мы пообедали.
Мой учитель проявлял особое старание, чтобы обучить меня. Он посадил меня за свой собственный стол, где, чтобы убедить его, что я заслужил эту награду, я приложил все свои силы к учёбе. Через месяц я писал так хорошо, что он начал заниматься со мной грамматикой. Новая жизнь, которую я вел, голод, что заставлял меня страдать, и, прежде всего, воздух Падуи дали мне здоровье, о котором я понятия не имел раньше, но это же здоровье сделало для меня еще сильнее муки голода: он стал воистину собачьим. Я рос на глазах, я спал девять часов глубоким сном, который ничто не беспокоило, кроме видений, когда я видел себя сидящим за большим столом и старающимся насытить мой жестокий аппетит. Приятные мечты хуже, чем неприятные.
Бешеный голод, в конце концов, полностью бы меня истощил, если бы я не решился красть и поглощать все, что находил съедобного вокруг, когда был уверен, что никто не видит. Я съел в несколько дней пятьдесят копченых селёдок, лежавших в шкафу на кухне, куда я спускался ночью в темноте, и все колбасы, подвешенные к крышке дымохода на случай наводнений и во избежание несварения желудка, и все яйца, которые я смог подобрать на заднем дворе, которые были только снесены и были еще тёплые; мой голод находил их превосходными. Я крал съестное даже на кухне доктора, моего учителя. Славонка, в отчаянии, что не в состоянии обнаружить воров, поставила сторожить дверь служанок. Несмотря на мои старания, возможность воровать не представлялась ежедневно, я был тощий как скелет, настоящий остов.
В четыре или пять месяцев мои успехи стали настолько быстрыми, что доктор назначил меня декурионом школы. Моей обязанностью было проверять уроки моих тридцати товарищей, исправлять их ошибки и сообщать о них мэтру с определением порицания или его применением, которого они заслуживали; но моя строгость не длилась долго. Ленивцы легко смогли найти секрет меня смягчить. Когда их латинский бывал выполнен с ошибками, они мне платили жареными котлетами, курами и часто давали мне денег; но я не удовлетворялся принятием от невежд контрибуции; жадность толкала меня стать тираном. Я лишал моего одобрения также тех, кто его заслужил, когда они претендовали освободить себя от контрибуции, которую я требовал. Не желая больше терпеть мою несправедливость, они обвинили меня перед мэтром, который, осудив за вымогательство, отправил меня в отставку. Но моя судьба уже должна была завершить свое жестокое испытание. Доктор, пригласив меня в один прекрасный день в свой кабинет, спросил, как я посмотрю на то, чтобы он забрал меня из пансиона славонки и поселил к себе; увидев, что я пришел в восторг от этого предложения, он сделал мне копии трех писем, которые я послал одно аббату Гримани, другое моему другу г-ну Баффо и третье моей дорогой бабушке. Моя мать не была в это время в Венеции, а мой семестр кончался; нельзя было терять времени. В этих письмах я описывал все мои страдания, и объявлял о своей неминуемой смерти, если меня не заберут из рук славонки и не передадут моему директору школы, который был готов принять меня, но который хотел два цехина в месяц. Г-н Гримани, вместо того, чтобы ответить мне, приказал своему другу Оттавиани сделать мне выговор за то, что я дал себя уговорить, но г-н Баффо пошел поговорить с моей бабушкой, которая не умела писать, и написал мне, что через несколько дней я окажусь в более счастливом положении.
Восемь дней спустя я увидел эту прекрасную женщину, которая любила меня всегда, до самой смерти; она появилась передо мной как раз в то время, когда я сел обедать. Она вошла вместе с хозяйкой. Она села, взяв меня между колен. Став теперь храбрым, я поведал ей подробно все мои жалобы в присутствии славонки, а после того, как она обозрела нищенский стол, за которым я должен был питаться, я повел ее показать мою постель. Я кончил тем, что просил ее отвести меня с ней пообедать, после шести месяцев терзаний от голода. Неустрашимая славонка не сказала ничего, кроме того, что она не могла бы делать больше за те деньги, которые ей давали. Она была права, но кто заставлял её держать пансион так, чтобы становиться палачом молодых людей и кормить их так, как диктовала ей алчность? Моя бабушка очень тихо сказала ей, чтобы положили в мою сумку всю мою одежду, поскольку она меня забирает. Обрадованный тем, что увидел снова мой кошелёк с деньгами, я быстро положил его в карман. Моя радость была неописуема. Я впервые почувствовал силу удовлетворения, ту, которую испытав, сердцем прощаешь обиду и умом – забываешь все случившиеся неприятности.
Моя бабушка повела меня в гостиницу, где остановилась, и где она почти ничего не ела, пребывая в изумлении от той прожорливости, с которой я набросился на еду. Доктор Гоцци, которого она известила о своем приезде, явился, и его присутствие расположило её в его пользу. Это был красивый священник двадцати шести лет, полный, скромный и обходительный. В четверть часа они договорились обо всем, и он, получив двадцать четыре цехина, вручил ей квитанцию об оплате авансом за год вперёд, а она удержала меня на три дня, чтобы одеть в платье священника и заказать мне парик, грубость которого принудила меня остричься. Через три дня она сама пожелала вселить меня в дом доктора, где представила меня его матери; та сказала ему, чтобы отправился сначала купить мне кровать, но доктор возразил, что я мог бы спать с ним в его собственной постели, которая была очень широка, на что бабушка выразила благодарность за проявленную доброту. Она ушла, и мы проводили её на Бурчиелло, на котором она вернулась в Венецию. Семья доктора Гоцци состояла из его матери, которая относилась к нему с большим уважением, потому что, родившись крестьянкой, не чувствовала себя достойной иметь сыном священника, и к тому же доктора. Она была уродлива, стара и сварлива. Его отец был сапожником, работал весь день, никогда не разговаривая, даже за столом. Он становился общительным только по праздникам, которые проводил в таверне с друзьями, возвращаясь домой в полночь пьяным, не в состоянии стоять на ногах, и распевая Тассо; в этом состоянии он не мог заставить себя лечь в кровать, и становился грубым, когда пытались его утихомирить. Он не имел ни другого разума, ни другого духа, кроме того, что давало ему вино, до такой степени, что сызмальства был не в состоянии выполнять ничего по дому. Его жена говорила, что он никогда бы не женился, если бы не необходимость получать хороший завтрак перед тем, как идти в церковь.








