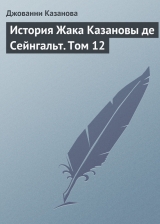
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 1"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Обязанность поступить в Падуанский университет, называемый Бо, чтобы слушать лекции профессоров, поставила меня перед необходимостью ходить везде самостоятельно, и я был этому рад, потому что до того времени никогда не встречал свободного человека. Желая воспользоваться полной свободой, которую получил в свое распоряжение, я завёл все возможные дурные знакомства с известными студентами. Самые известные должны были быть самыми распутными, игроками, посетителями дурных мест, пьяницами, дебоширами, совратителями честных девушек, насильниками, лжецами и неспособными соответствовать малейшему чувству добродетели. Будучи в компании людей такого сорта, я начал познавать мир, изучая его по благородной книге опыта.
Теория нравов приносит такую же пользу в жизни человека, как та, что возникает, когда перед чтением книги просматривают её оглавление; когда её изучают, жизнь оказывается не столь бесформенной, как в природе. Такова школа морали, которую преподают нам поучения, наставления и истории, рассказываемые нам теми, кто нас воспитывает. Мы внимательно прислушиваемся ко всему, но когда дело доходит до того, чтобы использовать данные нам советы, мы просто хотим посмотреть, будет ли дело таким, как нам было предсказано; мы отдаемся ему, и часто бываем наказаны раскаянием. Нас немного утешает то, что благодаря таким моментам мы становимся учеными и получаем право поучать других. Те, кого мы наставляем, получают ни больше ни меньше, чем то, что мы уже делали, в результате чего мир существует прежним или становится всё хуже. – Etas parcntum. pejor avis, tulit nos nequiores mox daturos progeniem vitiosiorem, Horace«Поколение наших родителей еще хуже, чем наших предков, мы созданы более злополучными, и предназначены, чтобы в ближайшее время создать поколение, еще более порочное» Гораций.
Благодаря тому, что доктор Гоцци разрешил мне выходить самостоятельно, я познал многие истины, которые до этого времени не только мне не были известны, но я даже не предполагал их существование. При моем появлении наиболее опытные завладели мной и прощупали меня. Найдя меня новичком во всем, они вознамерились просветить меня, столкнув со всех опор. Они заставили меня играть, и после того, как я проиграл те немногие деньги, что у меня были, они заставили меня проигрывать на слово, и они научили меня творить плохие дела, чтобы расплатиться. Я начал учиться этим вещам и нажил неприятности. Я научился не доверять всем тем, кто лжет в лицо, и тем более не полагаться на любые предложения тех, кто льстит. Я научился жить с теми, кто ищет ссоры, узнал, когда нужно покинуть компанию, либо окажешься в любой момент на краю пропасти. Что касается продажных женщин, я не попал в их сети, потому что не видел среди них ни одной такой красивой, как Беттина, но не мог защититься от желания такого рода славы, происходящего от смелости, в сущности являющейся пренебрежением к жизни. Студенты Падуи пользовались в те времена большими привилегиями. Это были злоупотребления, которые для старших сословий считаются законными: таков примитивный характер почти всех привилегий. Они отличаются от прерогатив. Дело в том, что студенты, чтобы утвердить свои привилегии, шли на преступления. Виновные не подвергались строгому наказанию, потому что не в интересах государства было уменьшать суровостью наказания приток учеников, которые съезжались в этот известный университет со всей Европы. Правилом венецианского правительства было платить очень большое жалованье знаменитым учителям, и давать жить тем, кто приезжал, чтобы слушать их уроки в условиях наибольшей свободы. Студенты зависели только от своего начальника, называемого Синдик. Это был дворянин-иностранец, который должен был представлять государство и отвечать перед правительством за поведение учеников. Он должен был привлекать их к ответственности за нарушение законов, и студенты подчинялись его приговорам, потому что, когда они были, по-видимому, правы, он их защищал. Они не желали, например, терпеть, чтобы местные служащие заглядывали в их почту, и обычные сбиры не смели арестовывать студента; они носили любое оружие, которое им хотелось, запрещенное для других, они обманывали безнаказанно дочерей в семьях, которых их родственники не держали взаперти; они часто нарушали общественное спокойствие ночными безобразиями; это была необузданная молодежь, которая хотела только тешить свои капризы, веселиться и смеяться. В те дни случилось однажды, что сбир вошел в кафе, где находились два студента. Один из них велел ему выйти, сбир этим пренебрег, студент выстрелил в него из пистолета и промахнулся, но сбир дал отпор и ранил студента, а после убежал. Студенты собрались на Бо и направились, разделившись на несколько отрядов, разыскивать сбиров, чтобы отомстить за полученное оскорбление, растерзав их; но при столкновении два студента остались мертвыми. Вся толпа студентов объединилась, и они поклялись не складывать оружия, пока не останется больше сбиров в Падуе. Правительство вмешалось, и Синдика обязали заставить студентов сложить оружие, после получения ими удовлетворения, потому что сбиры были неправы. Сбир, который ранил студента, был повешен, и мир был заключен, но в течение восьми дней, пока не установили этот мир, все студенты из Падуи разделились на патрули, и я, не желая быть менее смелым, чем другие, поступил так же, как советовал мне доктор. Вооружившись пистолетами и карабином, я ходил каждый день с моими компаньонами искать врага. Я был весьма огорчен, что компания, в которую я входил, ни разу не встретила ни одного сбира. Доктор по окончании этой войны насмехался надо мной, но Беттина восхищалась моей смелостью.
На этом новом отрезке жизни, не желая казаться менее богатым, чем мои новые друзья, я позволил себе расходы, которые не мог поддерживать. Я продал или обменял все, что имел, и влез в долги, которые не мог оплатить. Это были мои первые огорчения, и самые мучительные, из тех, что мог бы перенести молодой человек. Я написал моей дорогой бабушке, прося ее о помощи, но вместо того, чтобы ее мне направить, она приехала сама в Падую, чтобы поблагодарить доктора Гоцци, и взяла Беттину и меня с собой в Венецию 1 октября 1739 года.
Доктор в момент моего отъезда подарил мне, роняя слезы, самое дорогое. Он надел мне на шею образок, я уже не помню какого, святого, который, возможно, до сих пор был бы со мной, если бы он не был из золота. Чудом, которое он сотворил, явилось то, что он послужил мне для удовлетворения одной из моих насущных потребностей. Всякий раз, когда я возвращался в Падую, чтобы завершить свою учебу по праву, я останавливался у него, но всегда с сожалением видел около Беттины этого мерзавца, который должен был на ней жениться, и который ее, как мне казалось, не был достоин. Я был огорчен, что не смог ее сберечь. Это было предубеждение, но мне не удалось его разрушить.
Глава IV
Патриарх Венеции дает мне мелкие заказы. Мое знакомство с сенатором Малипьеро, с Терезой Имер, с племянницей кюре, с мадам Орио, с Нанеттой и Мартон, с Кавамаччи, я становлюсь проповедником. Мое приключение в Пасеан с Люси. Рандеву втроем.
«Он приехал из Падуи, где обучался в университете», – заявляли обо мне обычно повсюду, и эта формула, будучи произнесенной, привлекала ко мне внимание равных мне по возрасту и положению, похвалы отцов семейства и ласки старых женщин, многие из которых, не будучи старыми, хотели сойти за таковых, чтобы иметь законное право меня целовать. Кюре прихода Сан-Самуэле по имени Тоселло, приписав меня к своей церкви, представил монсеньору Корреру, патриарху Венеции, который тонзуровал меня, а спустя четыре месяца, по особой милости, даровал мне сразу четыре младших ранга клира. Моя бабушка была утешена сверх меры. Прежде всего, мне нашли хороших учителей, чтобы продолжить учебу, и г-н Баффо выбрал аббата Чиаво, чтобы тот учил меня писать чисто на итальянском языке и, особенно, изучить язык поэзии, к которому решительно у меня имелись наклонности. Я нашел себе отличное жилье, вместе с братом Франсуа, который начал изучать театральную архитектуру. Моя сестра и мой младший брат, родившийся после смерти отца, жили с бабушкой в другом доме, принадлежавшем ей, и где она хотела умереть, потому что ее муж умер там же. Квартира, где я жил, была та самая, где я потерял моего отца, потому что моя мать продолжала платить за нее, квартира была большая и очень хорошо меблирована.
Хотя аббат де Гримани должен был быть моим главным покровителем, я видел его крайне редко. Я был отдан под покровительство г-на де Малипьеро, которому отец Тоселло меня представил. Это был сенатор, который, будучи в возрасте семидесяти лет и не желая более вмешиваться в государственные дела, вел счастливую жизнь в своем дворце, хорошо кушал и устраивал каждый вечер встречи в очень избранном кругу, с дамами свободных взглядов и мыслящими мужчинами, бывшими в курсе всего, что происходило нового в городе. Этот старый сеньор был холост и богат, но три или четыре раза в год испытывал весьма болезненные приступы подагры, после которых каждый раз оказывался хромым то на одну, то на другую конечность, так, что становился полным калекой. Только голова, легкие и желудок у него оставались в порядке. Он был красив, гурман, лакомка, у него был тонкий ум, большое знание света, красноречие венецианца и проницательность, оставшаяся у сенатора, ушедшего в отставку после сорока лет управления республикой, и он перестал добиваться внимания прекрасного пола лишь теперь, имея в прошлом двадцать любовниц и отвергнув претензии каждой из них на звание самой любимой. Этот человек, почти калека, не казался таким, когда сидел, когда говорил, и когда был за столом. Он ел только один раз в день и в одиночку, потому что, не имея зубов, тратил на еду двойное время, по сравнению с другим сотрапезником, и не хотел ни торопиться, из любезности по отношению к своим гостям, ни видеть их вынужденными ждать, как он прожует своими деснами то, что хотел проглотить. По одной этой причине он принужден был есть в одиночку, что очень огорчало его превосходного повара.
Первый раз, когда кюре оказал мне честь представить Его Превосходительству, я очень уважительно этому воспротивился, назвав причину, которую каждый нашел бы не стоящей внимания. Я сказал, что он должен приглашать к своему столу только тех, кто, по своей природе, ест за двоих.
– Как найти таких?
– Дело деликатное. Ваше Превосходительство должны испытать сотрапезников, и после того, как нашли их отвечающими вашим желаниям, суметь их сохранить, не сообщая им причины, потому что нет в мире ни одного воспитанного человека, который хотел бы, чтобы о нем говорили, что он имеет честь обедать с Вашим Превосходительством потому лишь, что ест в два раза больше других.
Уяснив всю силу моих слов, Его Превосходительство сказал священнику взять меня с собой к обеду на следующий день. Согласились, что если бы я дал хороший рецепт или привел пример еще лучший, он сделал бы меня своим ежедневным сотрапезником.
Этот сенатор, который отрекся от всего, кроме себя самого, питал, несмотря на свой возраст и свою подагру, любовную склонность. Он любил Терезу, дочь актера Имера, что жил в доме, соседнем со своим дворцом, откуда окна выходили на помещение, которое тот занимал. Эта девушка, тогда в возрасте семнадцати лет, красивая, забавная, кокетливая, которая училась музыке, чтобы выступать в театрах, держала постоянно открытыми свои окна, и ее прелести опьяняли старика, но она была к нему жестокой. Она приходила почти ежедневно отдавать ему визиты вежливости, но всегда в сопровождении своей матери, старой актрисы, которая вышла из театра, чтобы спасать свою душу, и, несомненно, лелеяла планы объединить Бога с дьяволом. Она водила дочь к мессе каждый день, она хотела, чтобы та ходила на исповедь каждое воскресенье, но днем она отводила ее к влюбленному старику, и меня ужасала ярость, в которую тот впадал, когда она отказывала ему в поцелуе, приводя тот довод, что, совершив свои молитвы утром, она не может согласиться согрешить перед этим Богом, которого она съела, и который может быть по-прежнему в ее желудке. Какая картина для меня, тогда пятнадцатилетнего, как старик соглашался быть всего лишь молчаливым свидетелем этих сцен. Коварная мать аплодировала сопротивлению своей дочери и осмеливалась проповедовать сладострастнику, который, в свою очередь, не смел опровергнуть ее максимы, слишком, или вообще не христианские, и который должен был устоять перед искушением бросить ей в лицо все, что окажется в руках. Он не находил, что ей сказать. Гнев занимал место вожделения, и после того как они уходили, он успокаивал себя со мной философскими размышлениями. Вынужденный ему отвечать и не зная, что сказать, я однажды предложил ему жениться. Он меня удивил, ответив, что она не хочет стать его женой.
Почему?
Потому, что она не хочет возбудить ненависть моей семьи.
Предложите ей большую сумму, состояние.
Она не хотела бы, как она говорит, совершить смертный грех, чтобы стать королевой мира.
Надо ее изнасиловать или прогнать, изгнать ее от вас.
Я не могу первого, и не могу заставить себя прибегнуть ко второму.
Убейте ее.
Это случится, если я не умру первый.
Ваше Превосходительство достойны сожаления.
Ты никогда не ходил к ней?
Нет, потому что я мог бы в нее влюбиться, и если бы она была по отношению ко мне такой же, какова она здесь, я бы стал несчастен.
Ты прав.
Став свидетелем этих сцен и удостоившись этих диалогов, я стал любимцем этого сеньора. Он допустил меня на вечернее собрание, состоящее, как я уже говорил, из женщин в возрасте и мужчин-остроумцев. Он сказал мне, что там я познаю науку гораздо более важную, чем философия Гассенди, которую я изучал тогда по его распоряжению, вместо перипатетиков, которых он высмеивал. Он дал мне наставления, соблюдения которых он от меня потребовал, чтобы я мог участвовать в его собраниях, где вызвало бы удивление появление мальчика моего возраста. Он приказал мне никогда не вступать в разговор, кроме как для того, чтобы ответить на вопросы о фактах, и особенно не высказывать никогда своего мнения по любому вопросу, потому что в пятнадцать лет я не смел его иметь. Строго соблюдая его приказы, я много выиграл в своем достоинстве, и вскоре стал домашним ребенком для всех дам, которые туда приходили. Видя во мне молодого аббата без прихода, они хотели, чтобы я их сопровождал, когда они шли проведать своих дочерей или племянниц в приемные монастырей, где те жили в пансионе, ходил к ним домой в любое время, никто меня не объявлял; меня ругали, когда я пропускал неделю, не повидавшись, и когда я входил в помещение девиц, я слышал, как они тревожно вскрикивали, но называли себя глупыми, когда видели, что это всего лишь я. Я находил их доверие очаровательным. Г-н де Малипьеро развлекался перед обедом, расспрашивая меня о преимуществах, которые доставлял мне прием, оказываемый респектабельными дамами, с которыми я знакомился у него, говоря мне, еще до того, как я ему отвечал, что они – сама мудрость и что все считали бы меня подлецом, если бы я сказал что-нибудь против их хорошей репутации, которой они пользуются в свете. Он этим дал мне мудрый намек о сдержанности. У него я познакомился с г-жой Манцони, женой государственного нотариуса, с которой у меня был случай поговорить. Эта достойная дама внушила мне самую большую привязанность. Она преподала мне уроки и очень мудрые советы, такие, что если бы я им следовал, моя жизнь не была бы бурной, и соответственно, со мной бы не случилось ничего, достойного сегодня быть описанным.
Большое количество прекрасных знакомств с женщинами, относящимися к кругу так называемых комильфо, внушило мне желание нравиться лицом и элегантностью манер, но мой кюре вознамерился унять это желание, в согласии с моей доброй бабушкой. Однажды, отозвав меня в сторону, он сказал мне медовым тоном, что в положении, которое я занимаю, я должен был бы думать о том, как угодить Богу своей душой, а не людям своим лицом: он осудил мою прическу, слишком сложную, и тонкий аромат моей помады: он сказал мне, что дьявол тащит меня за мои волосы, что я буду отлучен от церкви, если продолжу ухаживать за ними, процитировав слова экуменического совета: «Clericus qui nutrit comam anathema ail [24] 24
Анафема священнику, который отрастит волосы.
[Закрыть]».
Я ответил ему, сославшись на пример сотни аббатов, не выглядевших отлученными от церкви и казавшихся благополучными, которые пудрились в три раза чаще меня, которые душились амброй и пользовались помадой, которая убила бы беременную женщину, в то время как моя, пахнущая жасмином, вызвала комплименты во всех компаниях, где я бывал. Я, наконец, сказал ему, что если бы я захотел вонять, я стал бы капуцином, и что мне очень жаль, но я не подчинюсь ему. Через три или четыре дня он убедил бабушку позволить ему войти в мою комнату рано, так что я еще спал. Она клялась мне потом, что если бы она знала, что он хотел сделать, она не открыла бы ему дверь. Мой брат Франсуа, который был в другой комнате, увидел его и не помешал ему. Он даже радовался, потому что, пользуясь париком, завидовал красоте моих волос.
Он всю жизнь был завистником, сочетая, уж не знаю как, зависть с дружбой; этот его недостаток теперь должен был бы умереть от старости, как и все мои.
Я проснулся, когда дело было уже завершено. После сделанного, кюре удалился, как ни в чем не бывало. Мои руки открыли мне весь ужас этого невероятного наказания. Какой гнев! Какое возмущение! Какие планы мести, после того, как, с зеркалом в руке, я увидел, в какое состояние привел меня этот дерзкий священник! Моя бабушка прибежала на мои крики, мой брат смеялся. Старая женщина немного успокоила меня, согласившись, что кюре превысил допустимые пределы исправления. Решив отомстить, я оделся, вынашивая в душе сотню черных планов. Мне казалось, что по всем законам я имею право на месть. Когда театры открылись, я вышел в маске и пошел к адвокату Каррара, которого знал через г-на Мальтипьеро, чтобы спросить, могу ли я атаковать кюре с позиций закона. Он сказал мне, что некоторое время назад была разрушена семья, потому что глава ее отрезал усы у купца – славонца, что значительно меньше, чем вся шевелюра, и что, таким образом, стоит мне только приказать вызвать кюре в суд или затеять внесудебное разбирательство, чтобы заставить его дрожать от страха. Я приказал ему действовать и сказать вечером г-ну Малипьеро, почему он не увидит меня за ужином. Было очевидно, что я не могу выйти без маски, пока мои волосы не вернутся. Я пообедал с братом, весьма дурно. Эта беда ввергла меня в необходимость лишить себя тонкого стола, к которому меня приучил г-н Малипьеро, и эта проблема была не из наименьших, что я вынужден был вынести из-за поступка насильника кюре, моего крестного! Гнев, который меня охватывал, ввергал меня в слезы. Я был в отчаянии, что это оскорбление носило само по себе характер комический, который делал меня смешным, что я выглядел более опозоренным, чем жертвой преступления.
Я лег спать рано, и хороший десятичасовой сон остудил мой пыл, но не уменьшил решимость отомстить компетентным образом. Так что я оделся, чтобы идти готовить внесудебное постановление, к г-ну Каррара, когда увидел перед собой искусного парикмахера, которого знал через мадам Контарини. Он сказал мне, что г-н Малипьеро послал его мне, что он уберет мне волосы так, что я смогу выходить, потому что он хотел, чтобы я имел возможность прийти обедать к нему в тот же день. Рассмотрев нанесенный ущерб, он сказал со смехом, что я должен только предоставить ему возможность действовать, заверив, что он вернет мне возможность выходить, причесанным еще более элегантно, чем раньше. Этот умелый мальчик зачесал волосы спереди на место срезанных, сравняв их и пригладив щеткой так хорошо, что я был доволен, удовлетворен и отмщен. Я мгновенно забыл обиду; я пошел сказать адвокату, что больше не хочу мстить, и полетел к г-ну Малипьеро где случилось так, что я встретил кюре, которому, несмотря на мою радость, я послал взгляд, мечущий молнии. Никто не говорил об этом деле, г-н Малипьеро приглядывал за всем, и кюре ушел, безусловно, раскаиваясь в содеянном, потому что моя прическа была настолько популярна, что он счел за лучшее удалиться. После отъезда моего жестокого крестного, я не стал скрываться от г-на Малипьеро: я сказал ему прямо, что буду искать другую церковь, потому что абсолютно не желаю быть прихожанином той, где служит человек, способный на такие поступки. Мудрый старик мне сказал, что я прав. Это был способ поощрить меня сделать все так, как хотелось. Вечером весь народ, который уже знал историю, осыпал меня комплиментами, уверяя, что нет ничего более красивого, чем моя прическа. Я был счастливейшим из всех мальчиков, и еще больше рад тому, что прошло уже две недели после того, как это случилось, а г-н Малипьеро не заговаривал со мной о том, чтобы вернуться в церковь. Одна моя бабушка досаждала мне, постоянно твердя, что я должен туда возвратиться.
Но пока я думал, что этот сеньор больше не заговорит со мной на эту тему, я был очень удивлен, когда услышал от него, что представился случай вернуться в церковь, получив от самого кюре очень обильное возмещение. Как от президента братства Святого Причастия, продолжал он, от него зависит выбор оратора, который должен произнести панегирик в четвертое воскресенье этого месяца, что попадает как раз на следующий день после Рождества. Таким образом, – продолжил он, – я предложу ему именно тебя, и я уверен, что он не посмеет тебя отвергнуть. Что ты скажешь об этом триумфе? Не кажется ли тебе, что это прекрасно?
Я был в высшей степени удивлен таким предложением, потому что мне никогда в голову не приходило ни стать проповедником, ни быть в состоянии составить проповедь и с ней выступить. Я сказал ему, что я уверен, что он шутит, но он заверил меня, что говорит серьезно; понадобилась всего минута, чтобы убедить меня и внушить мне уверенность, что я родился, чтобы стать самым знаменитым проповедником века, еще прежде, чем стану толстым, так как в те дни я был очень худой. Я не сомневался ни в моем голосе, ни в моей жестикуляции, а в том, что касается композиции, я, безусловно, чувствовал себя достаточно сильным, чтобы произвести шедевр.
Я сказал ему, что готов, и что мне не терпится оказаться дома, чтобы начать писать панегирик. Хотя я не богослов, сказал я ему, я знаю материал. Я буду говорить удивительные вещи, и совершенно новые. На следующий день он сказал мне, что кюре был в восторге от его выбора и еще больше от моей готовности принять эту святую миссию, но он требует, чтобы я показал ему мою композицию до того, как ее завершу, потому что дело касается вопросов самой высокой теологии, и он может позволить мне подняться на кафедру, только будучи уверен, что я не произнесу ереси. Я с этим согласился, и в течение недели сочинил и переписал набело мой панегирик. Я его сохранил, и, более того, я нахожу его превосходным. Моя бедная бабушка просто плакала от умиления, видя, что ее внук стал апостолом. Она хотела, чтобы я его ей зачитал, она слушала его, молясь, и нашла его прекрасным. Г-н Малипьеро, который не слушал, так как читал молитвы, сказал мне, что кюре не понравится. Я выбрал темой Горация «Ploravere suis non respondere favorern speratum meritis» [25] 25
Они горько жаловались, что ожидаемая милость не отвечает их заслугам. Гораций
[Закрыть]. Я выразил сожаление по поводу злобы и неблагодарности рода человеческого, пренебрегающего замыслом, порожденным божественной мудростью, и направленным на то, чтобы его искупить. Г-н Малипьеро не хотел, чтобы я взял свою тему из этики, но был рад, что моя проповедь не была перегружена латинскими цитатами.
Я пошел к священнику, чтобы прочитать ее ему, но его не было и, ожидая его, я влюбился в его племянницу Анжелу, вышивавшую там на пяльцах, которая сказала, что она хотела со мной познакомиться, и заливалась смехом, упрашивая меня рассказать историю моей шевелюры, которую ее святой дядя мне отрезал. Эта любовь оказалась для меня роковой; она стала причиной двух других, которые явились причиной нескольких других причин, которые привели, наконец, к тому, чтобы заставить меня отказаться от духовного звания. Но будем двигаться постепенно. Прибывший священник, казалось, не рассердился, видя меня занятым его племянницей, которая была моего возраста. Прочитав мою проповедь, он сказал, что это вполне красивая академическая обличительная речь, но она не может быть оглашена с кафедры.
– Я вам дам одну из моих, которую никто не знает. Вы ее выучите наизусть, и я вам позволяю сказать, что она ваша.
– Я вам очень благодарен, преподобный, но я хотел бы читать свою или никакую.
– Но вы не произнесете это в моей церкви.
– Вы скажете это г-ну Малипьеро. А пока я отнесу мою композицию в цензуру, потом монсеньору патриарху, и если они ее не одобрят, я ее напечатаю.
– Идите, молодой человек. Патриарх согласится с моим мнением.
Вечером я рассказал при полной ассамблее у г-на Малипьеро о моем пререкании с кюре. Меня заставили прочитать мой панегирик, который получил всеобщее одобрение. Похвалили мою скромность в том, что я не цитировал никого из святых отцов, потому что, будучи молод, не мог их знать, и женщины нашли меня замечательным в том, что не было других латинских текстов, кроме Горация, который, хотя и большой вольнодумец, говорил, однако, очень толковые вещи. Племянница патриарха, которая была там, обещала, что предупредит своего дядю, к которому я решил апеллировать. Г-н Малипьеро сказал, чтобы я посоветовался с ним на следующее утро, прежде чем предпринять любой другой шаг. Я обещал, и он послал за кюре, который вскоре явился. Прежде, чем он заговорил, я опередил его, сказав, что, либо патриарх одобрит мою проповедь, и я прочитаю ее без всякого для него риска, либо не одобрит, и я покорюсь.
– Не ходите к нему, сказал он, я согласен: я только прошу вас изменить текст, так как Гораций был мерзавец».
– Почему вы цитируете Сенеку, Оригена, Тертуллиана, Боэция, которые, будучи все еретиками, должны вам казаться более мерзкими, чем Гораций, который, наконец, не мог быть христианином?
Но, в конце концов, я уступил, чтобы сделать приятное г-ну Малипьеро, и я выдал ему текст, который хотел кюре, хотя он и не согласился с моей проповедью. Я отдал ему ее, чтобы иметь повод, забирая ее на следующий день, поговорить с племянницей.
Но что меня развлекало, так это доктор Гоцци. Я послал ему свою проповедь из тщеславия. Он вернул ее мне, не одобрив и спрашивая, не сошел ли я с ума. Он сказал, что если мне разрешат читать ее с кафедры, я обесчещу себя вместе с ним, который меня воспитал.
Я прочел мою проповедь в церкви Сан-Самуэль перед очень изысканной аудиторией. После аплодисментов, мне предсказали большое будущее. Мне суждено было стать первым проповедником века, так как в возрасте пятнадцати лет никто еще не играл так хорошо эту роль. Опорожнив кружку для пожертвований, в которую принято класть милостыню для проповедника, служка нашел около пятидесяти цехинов и любовные письма, которые шокировали святош. Анонимная записка, внушившая мне желание узнать автора, призывала меня сделать неверный шаг, который, как я думаю, я должен был бы сделать, прочитав ее. Этот богатый урожай, при моей острой нужде в деньгах, заставил меня задуматься всерьез о том, чтобы стать проповедником, и я объяснил мое призвание кюре, попросив его о помощи. Благодаря этому я получил возможность каждый день бывать у него дома, где все больше влюблялся в Анжелу, которая хотела, чтобы я любил ее, но, проявляя стойкость дракона, не предоставляла мне ни малейших милостей. Она хотела заставить меня отказаться от священства и выйти за меня замуж. Я не мог на это решиться, но, надеясь заставить ее изменить свое решение, продолжал ее преследовать. Ее дядя дал мне поручение составить панегирик святому Иосифу, чтобы я прочел его 19 марта 1741 года. Я написал его, и даже кюре говорил о нем с восторгом, но было свыше решено, что я не должен проповедовать на земле более чем один единственный раз. Вот эта несчастная история, но справедливо то, что даже в варварстве есть нечто комическое. Я полагал, что не будет стоить мне больших хлопот выучить мою проповедь наизусть. Я был ее автор, я ее знал, и несчастье забыть ее не представлялось мне возможным. Я мог забыть фразу, но я должен был оставаться хозяином положения и заменить ее другой, и поскольку я никогда не был краток, когда говорил в компании порядочных людей, я не считал правдоподобным, что можно вдруг онеметь перед аудиторией, где я никого не знаю, кто мог бы заставить меня оробеть и потерять способность рассуждения. Я развлекался, по привычке перечитывая вечером и утром свою композицию, чтобы она хорошо отпечаталась в моей памяти, на которую у меня никогда не было причин жаловаться.
В день 19 марта, в который я должен был в четыре часа дня подняться на кафедру, чтобы читать мою проповедь, у меня не хватило духу отказать себе в удовольствии пообедать с графом де Мон-Реал, который жил около меня и который пригласил патриция Бароцци, того, что после Пасхи должен был жениться на его дочери графине Люсии. Я был еще за столом со всей прекрасной компанией, когда пришел клерк сказать мне, что меня ждут в ризнице. С полным желудком и смутной головой, я иду, я бегу в церковь, я всхожу на кафедру. Я очень хорошо говорю вступление и перевожу дух. Но как только произносится первая сотня слов повествования, я уже не знаю, что говорю и что я должен сказать, и, пытаясь продолжить, я мелю ерунду, и единственное, чего мне удается достичь, это глухой шум обеспокоенной аудитории, ясно видящей мое поражение. Я ищу выход из церкви, мне кажется, что я слышу смех, я теряю голову и надежду получить профессию. Могу заверить моего читателя, что у меня так и нет уверенности, притворился ли я, что упал в обморок, или сделал это всерьез. Все, что я знаю, это что я упал на пол кафедры, сильно стукнувшись головой о стену и мечтая разбить лоб. Два клирика подхватили меня и отвели в ризницу, где, не сказав никому ни слова, я взял пальто и шляпу и пошел домой. Закрывшись в своей комнате и притворившись, что меня нет, я облачился в короткое пальто, такое, что носят аббаты в провинции, и, положив в чемодан свой несессер, пошел к бабушке попросить денег, и я отправился в Падую сдавать мои терцины. В полночь я туда приехал, поспал сначала у моего доброго доктора Гоцци, которому не потрудился рассказать о своих бедствиях. Проделав все, что нужно для моей докторантуры на следующий год, я после Пасхи вернулся в Венецию, где нашел свое несчастье забытым, но вопрос о том, чтобы стать проповедником, уже не стоял. Меня это вполне утешило. Я полностью отказался от этого ремесла.








