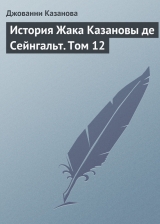
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава VII
Мой проезд через Феррару и комическое приключение. Прибытие в Париж в 1750 году.
Мне 25 лет.
Я сошел с пеоты в поддень у Моста Черного Озераи нанял коляску, чтобы побыстрее добраться до Феррары и там пообедать. Я сошел у гостиницы Сен-Марк и вошел в нее вслед за лакеем, который отвел меня в мою комнату. Веселый шум, доносящийся из одной из открытых зал, привлек мое внимание. Я вижу десять – двенадцать человек, сидящих за столом, и хочу проследовать дальше, но я остановлен одним из них: «Вот и он», – произносит красивая женщина, поднимается и направляется ко мне с распростертыми объятиями, обнимает меня и говорит:
– Быстро куверт для моего дорогого кузена, и поместите его сундук в комнату рядом с этой.
Молодой человек подходит ко мне, и она ему говорит:
– Не говорила ли я вам, что он должен приехать сегодня или завтра?
Она усаживает меня рядом с собой, и все, поднявшиеся было, чтобы меня приветствовать, усаживаются снова.
– У вас наверняка пробудился аппетит, – говорит она, наступив мне на ногу, – я представляю вам моего суженного, и вот мой свекор и моя свекровь. Эти дамы и господа – друзья дома. Почему моя мать не приехала с вами?
Наконец, настал момент, когда я должен был заговорить.
– Ваша мать, дорогая кузина, будет здесь через три-четыре дня.
Я внимательно вглядываюсь в плутовку и узнаю Каттинеллу, очень известную танцовщицу, с которой до того в жизни ни разу не разговаривал. Я вижу, что она назначает мне играть роль некоего фальшивого персонажа в пьесе собственного сочинения, в котором она нуждается для ее завершения. Заинтересовавшись узнать, обладаю ли я тем талантом, который она во мне предполагает, я с удовольствием принимаю роль, уверенный, что она мне ее компенсирует, по крайней мере, своими тайными милостями. От меня требуется хорошо сыграть роль, не скомпрометировав себя. Под предлогом того, что мне полагается проголодаться, я ем, воспользовавшись этим временем, чтобы согласовать наши действия. Она дает мне хороший образчик своего ума, объясняя всю суть интриги некими фразами, которые бросает, пока я ем, то одному, то другому из компании. Я узнаю, что ее свадьба может состояться только по приезде ее матери, которая должна привезти ее одежды и бриллианты, и что я – маэстро, который направляется в Турин, чтобы сочинить музыку для оперы в честь свадьбы герцога Савойского. В уверенности, что это не сможет мне помешать выехать завтра, я вижу, что ничем не рискую, играя этого персонажа. Если я не получу ночной компенсации, на которую рассчитываю, я смогу сказать компании, что она сошла с ума. Каттинелле могло быть лет тридцать, она была очень хорошенькая и славилась своими интригами.
Так называемая свекровь, сидящая против меня, наполняет мой стакан и, поскольку я должен протянуть руку, чтобы его взять, она видит, что я держу руку, как будто поврежденную.
– Что это? – спрашивает она.
– Маленькое растяжение, которое пройдет.
Каттинелла, усмехнувшись, говорит, что это досадно, потому что нельзя будет послушать меня за клавесином.
– Я в восторге, что это вызывает у вас смех.
– Я смеюсь, потому что вспоминаю фальшивое растяжение, которое я изобразила два года назад, чтобы не танцевать.
После кофе свекровь говорит, что мадемуазель Каттинелла должна поговорить со мной о семейных делах, и нужно нас оставить одних; наконец, я оказываюсь наедине с этой плутовкой в комнате, смежной с ее и предназначенной для меня.
Она бросилась на канапе, заливаясь смехом, который не могла унять. Она сказала мне, что была во мне уверена, хотя знала меня лишь по виду и по имени, и кончила, сказав, что было бы хорошо, если бы я уехал завтра.
– Я здесь, – сказала она, – уже два месяца без единого су: у меня несколько платьев и немного белья, которое я должна была бы продать, чтобы жить, если бы не влюбила в себя сына хозяина, которому внушила, что стану его женой и принесу ему в приданое двадцать тысяч экю в бриллиантах, которые у меня в Венеции и которые должна привезти моя мать. Моя мать ничего не имеет, не знает об этой интриге и не собирается выбираться из Венеции.
– Скажи мне, прошу тебя, каково будет завершение этого фарса: я предвижу, что оно будет трагическим.
– Ты ошибаешься. Очень комическим. Я жду здесь любовника – графа де Холстейн, брата Выборщика из Майнца. Он написал мне из Франкфурта, что выехал оттуда и должен сейчас быть уже в Венеции. Он приедет за мной, чтобы отвезти на ярмарку в Реджио. Если мой суженый вздумает проделать что-нибудь злое, он его наверняка поколотит, заплатив ему однако все, что я задолжала, но я не хочу, ни чтобы он платил, ни чтобы колотил. В момент отъезда я шепну ему на ушко, что я вернусь, и все пройдет спокойно, потому что я пообещаю выйти за него замуж по возвращении.
– Это замечательно, у тебя ангельский ум, но я не буду ждать твоего возвращения, чтобы жениться на тебе, это должно случиться сейчас.
– Какая глупость! Дождись хотя бы ночи.
– Нет уж, потому что мне кажется, что я слышу лошадей твоего графа, который подъезжает. Если он не приедет, мы ничего не потеряем и ночью.
– Но ты меня любишь?
– Безумно; ну что ж? Твоя пьеса заслуживает, чтобы я тебя обожал, и я тебя в этом уверяю. Давай быстрее.
– Подожди. Закрой дверь. Ты прав. Это эпизод, но он очень мил.
К вечеру весь дом поднялся к нам и предложили пойти подышать воздухом. Только собрались, как послышался шум экипажа, запряженного шестеркой лошадей, подъезжающего к почте. Каттинелла выглядывает в окно и говорит всем, чтобы уходили, потому что это принц, который приехал за ней, и что она в этом уверена. Все выходят, и она выгоняет меня в мою комнату и там запирает. Я отлично вижу берлину, останавливающуюся перед гостиницей, и вижу выходящего из нее сеньора, в четыре раза толще меня, поддерживаемого двумя слугами. Он входит, заходит к новобрачной, и мне из всех развлечений достается только удобство выслушивать все беседы и наблюдать через щель все, что проделывает Каттинелла с этой огромной машиной. Но это развлечение меня, в конце концов, утомляет, потому что длится пять часов. Они велели собрать все пакеты Каттинеллы, погрузить их на берлину, поужинали, опустошили кучу бутылок рейнского вина. В полночь граф де Холстейн отбыл, как и прибыл, и увез новобрачную от супруга. Никто не заходил в мою комнату за все это время, и я не осмелился позвать. Я боялся быть разоблаченным, и не знал, как немецкий принц воспримет случившееся, если узнает, что у него был скрытый наблюдатель его нежностей, что не доставило удовольствия никому из персонажей, которые в этом были замешаны. Я предавался размышлениям о ничтожности рода человеческого.
После отъезда героини я увидел в щель хозяйского сына; я постучал, чтобы он мне открыл, и он сказал мне жалобным голосом, что надо взломать замок, потому что мадемуазель увезла ключ. Я попросил его сделать это, потому что я голоден, и это было проделано. Он составил мне компанию за столом. Он сказал, что мадемуазель улучила момент, чтобы заверить его, что вернется через шесть недель, он сказал, что она плакала, давая ему это заверение, и что она его поцеловала.
– Принц оплатил ее расходы?
– Отнюдь нет. Мы бы не взяли, если бы он предложил. Мое будущее было бы оскорблено, потому что вы не можете себе представить, насколько благородно она мыслит.
– Что говорит ваш отец о ее отъезде?
– Мой отец всегда плохо думает о людях; он говорит, что она больше не вернется, и моя мать склоняется больше к его мнению, чем к моему. Но вы, синьор маэстро, что думаете вы?
– Что если она вам так сказала, то несомненно вернется.
– Если бы она не собиралась вернуться, она бы меня в этом не заверила.
– Точно. Вот что называется рассуждать.
Мой ужин состоял из остатков того, что готовил повар графа, и я выпил бутылку рейнского, которую Каттинелла припрятала от него для меня. После ужина я сел в почтовую карету и уехал, заверив беднягу, что уговорю кузину вернуться раньше, насколько это будет возможно. Я хотел заплатить, но он не захотел ничего брать. Я приехал в Болонью через четверть часа после Каттинеллы и остановился в той же гостинице. Я улучил момент, чтобы поведать ей о беседе, которую имел с ее дурнем – возлюбленным.
Прибыв в Реджио перед ней, я не смог с ней переговорить, потому что она не отлучалась от своего графа. Я провел всю ярмарку так, что ничего не произошло такого, о чем стоило бы написать. Я отъехал из Реджио вместе с Баллетти и приехал в Турин, который хотел посмотреть. Когда я проезжал там вместе с Генриеттой, я останавливался только, чтобы сменить лошадей.
Я нашел в Турине все равно красивым – город, двор, театр и женщин, всех прекрасных, начиная с герцогинь Савойских. Мне однако смешно, когда говорят, что там превосходная полиция, при том, что улицы полны нищих. Эта полиция, однако, была главным делом самого короля, очень умного, как это всем известно из истории. Но я был в достаточной мере ротозеем, чтобы не поглазеть на лицо этого монарха. Поскольку я в жизни никогда не видел короля, представление о бастарде заставляло меня думать, что король должен иметь в лице что-то редкое в смысле красоты или величия, не присущее другим людям. Для молодого думающего республиканца, мое представление не было совсем уж глупым, но я очень быстро отказался от него, когда увидел короля Сардинского, уродливого, горбатого, хмурого и подлого во всех своих проявлениях. Я прослушал пение Аструа и Кафарелло, увидел танец Леофруа, на которой в это время женился знаменитый танцовщик Бодэн. Ни одно любовное увлечение не всколыхнуло в Турине мир в моей душе, если не считать дочери прачки, с которой у меня произошел несчастный случай, о котором я пишу только из-за того, что он преподал мне пример из физики.
После того, как я употребил все свои возможности, чтобы организовать встречу с этой девушкой, у меня, у нее, или где-то еще, и не достиг успеха, я решился заиметь ее, употребив немного силы внизу у черной лестницы, которой она обычно спускалась, уходя от меня. Я спрятался внизу, и когда увидел ее выходящей из моей двери, прыгнул на нее и, начав с нежностей и продолжив прямым действием, овладел ею на последних маршах лестницы; но при первых же толчках единения сильный и необычный звук прозвучал из места, соседнего с тем, что я занял, замедлив момент моего экстаза, тем более, что подвергшаяся нападению закрыла свое лицо рукой, чтобы скрыть от меня стыд, который ощутила от своей бестактности.
Я успокоил ее поцелуем и хотел продолжить, – но вот, новый шум, еще более громкий, чем первый; я продолжаю, и вот – третий, затем четвертый, и с такой регулярностью, что это напоминает басы оркестра, которые отбивают такт по мере развития музыкальной пьесы. Этот звуковой феномен вдруг доходит до моей души, заставляя осознать затруднительное положение и конфуз, который испытывает моя жертва; Вся эта сцена предстает в моем уме столь комически, что я вынужден выпустить добычу из рук. Она пользуется этой ситуацией, чтобы скрыться. С этого дня она не осмеливалась больше показываться мне на глаза. Я остался сидеть на этой лестнице еще с четверть часа, прежде чем смог преодолеть комизм происшествия, которое заставляло меня смеяться всякий раз, когда я о нем вспоминал. Я подумал в дальнейшем, что девица, возможно, создала это неудобство намеренно. Оно могло также происходить из-за ее органического строения, и в этом случае она должна считать это даром Провидения, который ей из чувства неблагодарности, возможно, кажется дефектом. Я полагаю, что три четверти галантных женщин покончили бы с собой, если бы были подвержены этому явлению, по крайней мере, если они не были убеждены, что их любовники участвуют в этом тоже, потому что в таком случае странная симфония могла бы добавить приятности в счастливом совокуплении. Можно легко также представить себе устройство, действующее по принципу шлюза, действие которого состоит в том, чтобы производить ароматические взрывы, потому что одно чувство не должно страдать, когда другое радуется, и запахи играют немаловажную роль в забавах Венеры.
Игра в Турине шла не лучше, чем в Реджио, и я легко поддался на уговоры моего друга отправиться вместе с ним в Париж, где готовились грандиозные празднества в честь рождения герцога Бургундского. Все знали, что Мадам, жена дофина, была на последних сроках беременности. Мы выехали из Турина и на пятый день прибыли в Лион. Мы провели там восемь дней.
Лион очень красивый город, где нет и трех-четырех знатных домов, открытых для иностранцев, но зато есть сотня домов негоциантов, фабрикантов и комиссионеров, намного более богатых, чем фабриканты, где собирается вполне достойное общество. Тон намного ниже, чем в Париже, но общество собирается, и более регулярно. Что составляет богатство Лиона, – это вкус и дешевизна. Божеством, которому обязан этот город своим процветанием, является мода. Она меняется всякий год, и за ткань, за которую из-за ее нового рисунка платят тридцать, на следующий год платят лишь двадцать, и ее отправляют в другие страны, где покупатели платят за нее как за совсем новую. Лионцы дорого платят рисовальщикам, у которых есть вкус: у них свои секреты. Дешевизна происходит от конкуренции, душой которой является свобода. Правительство, желающее видеть в государстве процветание коммерции, предоставляет ей полную свободу, стараясь воспрепятствовать только мошенникам, частные интересы которых могут нанести ущерб общим. Правитель должен соблюдать равновесие и следить, чтобы подданные соблюдали его со своей стороны.
Я встретил в Лионе самую знаменитую из венецианских куртизанок. Ее звали Анчила. Красота ее была изумительна. Все говорили, что не видели никогда подобной. Кто ее видел, не мог удержаться от желания с ней сблизиться, и она никому не могла отказать, потому что если все мужчины, один за другим, любили ее, она любила вообще весь мужской пол. Те, кто не имел хоть немного денег, чтобы дать ей за право обладания ее прелестями, получали их даром, если могли объявить ей свои желания.
Во все времена Венеция поставляла куртизанок, знаменитых скорее своей красотой, чем своим умом; из них главные среди моих современниц были эта Анчила и другая, по имени Спина, та и другая дочери гондольеров, та и другая умерли молодыми, после того, как сообразили предаться профессии, благодаря которой, кажется, могли бы выйти в благородное сословие. Анчила в возрасте двадцати двух лет стала танцовщицей, а Спина захотела стать певицей. Тот, кто сделал Анчилу танцовщицей, был танцовщик по имени Кампиони, венецианец, который, занимаясь профессионально танцами, обучил ее всем приемам, на которые была способна ее прекрасная фигура, и женился на ней. Спина обучилась музыке у кастрата по имени Пепино де ла Мамана, который не мог на ней жениться; однако она оставалась всегда не более чем посредственностью и продолжала жить на доходы от своих чар. Анчила танцевала в Венеции два года, до своей смерти, о чем я еще скажу при случае.
Я встретил ее в Лионе с ее мужем. Они приехали из Англии, где им аплодировали в театре Хаймаркет. Она остановилась в Лионе вместе с мужем для собственного развлечения, и видела у своих ног всю красивую и богатую молодежь города, являвшуюся к ней по вечерам и делавшую все, чтобы ей понравиться. Днями увеселительные прогулки, вечерами – роскошные ужины и игра в фараон всю ночь. Банк держал человек по имени дон Джузеппе Маркати, которого я знал по испанской армии восемь лет назад как кадета дона Пепе, который через несколько лет объявился под именем д’Афилисио и который так плохо кончил. Этот банк достиг через несколько дней трехсот тысяч франков. В обычной стране такая сумма прошла бы без особого шума, но в городе торговцев она вызвала тревогу у всех отцов семейств, и итальянское сообщество надумало отчалить.
Респектабельная персона, с которой я познакомился у г-на де Рошбарон, доставила мне счастье быть быть допущенным в общество тех, кто видит свет. Я стал франк-масономв ранге подмастерья. Два месяца спустя я достиг в Париже второй ступени, и несколько месяцев спустя – третьей, магистра. Это высшая ступень. Все прочие звания, которых с течением времени я удостаивался, – лишь приятные изобретения, которые, хотя и являются символическими, ничего не добавляют к степени магистра.
В мире нет человека, который смог постичь все, но каждый человек должен стараться все узнать. Любой путешествующий молодой человек, который хочет познать большой мир, не желает оказаться ниже других и быть исключен из компании себе равных, в наше время должен быть посвящен в то, что зовется масонством, чтобы по крайней мере поверхностно знать, что это такое. Необходимо, однако, обратить особое внимание на выбор ложи, в которой он желает быть посвящен, Потому что, хотя плохая компания и не может действовать в ложе, она может там присутствовать, и кандидат должен избегать опасных связей. Те, кто решил стать масоном только для того, чтобы приобщиться тайн, могут ошибиться, потому что можно прожить пятьдесят лет, будучи магистром, и не проникнуть в секреты этого братства.
Тайна масонства нерушима по своей природе, потому что масон, который ее знает, может об этом лишь догадываться. Он никому не может ее сообщить. Он открывает ее в силу своего пребывания в ложе, наблюдая, размышляя и делая выводы. Когда он ее постиг, он остережется посвятить кого-то в свое открытие, даже своего лучшего друга-масона, потому что если у того нет способностей проникнуть в эту тайну, нельзя преподать ее ему изустно. Так что этот секрет всегда остается секретом.
Все, что делается в ложе, должно быть покрыто тайной, но те, кто по бесчестной нескромности выдаст частицу того, что там происходит, не выдадут ничего существенного. Как они могут выдать то, чего не знают? Если бы это знали, они не раскрыли бы церемонии. Самые большие сенсации, которые сегодня произвело братство масонов на тех, кто туда не посвящен, относятся к древним временам и к великим мистериям, которые праздновались в Элевсине в честь Цереры. Они занимали всю Грецию и первые люди того мира стремились в них участвовать. Эта инициация была гораздо более значительной, чем у современных франк-масонов, где участвуют распутники и отбросы человеческого общества. Длительное время сохранялось под непроницаемым покровом молчания все, что происходило при Элевсинских мистериях, из-за того почтения, которое они внушали. Например, осмелились раскрыть три слова, которые говорил иерофант [20] 20
верховный жрец
[Закрыть]посвященным, когда отпускал их в конце мистерий, но для чего это делалось? Для того лишь, чтобы опозорить того, кто их выдаст, и ни для чего другого, потому что эти три слова были из варварского языка, незнакомого никому из профанов. Я прочел одно из значений этих слов: «Бодрствуйте и не творите зла».Инициация длилась девять дней, церемонии были весьма величественные, компания была очень респектабельная. Мы читали у Плутарха, что Алкивиад был приговорен к смерти, и что все его имущество было конфисковано за то, что он осмелился, вместе с Политионом и Феодором, осмеять великие мистерии против воли Эвмолфидов. За это святотатство он был приговорен к проклятию жрецами и жрицами, но проклятие не было наложено, жрица воспротивилась этому, сославшись на то, что она жрица, предназначенная на то, чтобы благословлять, а не проклинать, – превосходный урок, которым наш святейший отец папа пренебрегает. Сегодня ничто не важно. Ботарелли публикует в брошюре все обычаи франк-масонов; довольствуются тем, что говорят, что он мошенник. Это и так известно наперед. Принц Неаполитанский и г-н Гамильтон устраивают у себя таинство Св. Жанвьера. Король закрывает на это глаза и забывает, что носит на своей королевской груди орденский знак, на котором выбиты эти слова, обрамляющие фигуру Св. Жанвьера: Hic est sanguis fœderis [21] 21
Это кровь Завета
[Закрыть]. Сегодня все стало безразличным, и нет ничего, что бы что-то означало. Они правы, они движутся вперед, но все пойдет от плохого к худшему, если они не остановятся на полпути.
Мы взяли два места в дилижансе, чтобы достичь через пять дней Парижа. Баллетти известил семью о времени своего отъезда, и, соответственно, они знали о часе нашего прибытия.
Нас было восьмеро в этом экипаже, названном по имени Дилижанта, мы все сидели, но все неудобно, он был овальной формы, никто не занимал угла, потому что в нем не было углов. Я счел это неразумным, но ничего не сказал, так как в качестве итальянца должен был находить все, существующее во Франции, восхитительным. Овальный экипаж! Я уважаю моду и проклинаю ее, потому что странное движение этого экипажа заставило меня вырвать. Он был слишком хорошо подвешен. Тряска беспокоила бы меня меньше. При быстром движении по хорошей дороге он колыхался; по этой причине его иногда называют гондолой, но настоящая венецианская гондола, ведомая двумя гребцами, идет ровно и не вызывает тошноты, от которой вздрагивает сердце. У меня кружилась голова. Это быстрое движение, которое сотрясало понемногу мое нутро, вынудило меня наконец отдать все, что у меня было в желудке. Меня нашли плохой компанией, но мне этого не сказали. Ограничились тем, что сказали, что я слишком обильно ужинал, и аббат парижанин в мою защиту сказал, что у меня слабый желудок, и кто-то с ним поспорил. Раздосадованный, я заставил их заткнуться, сказав:
– Вы оба ошибаетесь, потому что у меня превосходный желудок, и я не ужинал.
Мужчина среднего возраста, ехавший с мальчиком двенадцати-тринадцати лет, сказал мне слащавым тоном, что я не должен говорить этим месье, что они ошибаются, но что они неправы, подражая Цицерону, который не сказал римлянам, что Катилина и другие осужденные мертвы, но что они отжили свое.
– Разве это не одно и то же?
– Прошу прощения, месье, но первое – невежливо, а второе – вежливо.
Он произнес затем превосходную диссертацию о вежливости, которую завершил, сказав мне, смеясь:
– Держу пари, что месье итальянец.
Да, но осмелюсь вас спросить, как вы догадались?
– Ох! Ох! По вниманию, каким вы почтили мою долгую болтовню.
Вся компания расхохоталась, и я стал задабривать всячески этого оригинала, который был гувернером молодого человека, сидящего рядом. Я использовал его все пять дней, получая у него уроки французской вежливости, и когда мы должны были разъехаться, он отозвал меня в сторонку и сказал, что хочет сделать мне небольшой подарок.
– Какой?
– Надо забыть и выкинуть из лексикона частицу «Нет», которую вы используете немилосердно вдоль и поперек. Нет– это не французское слово. Говорите « Пардон», это будет означать то же самое, и не будет шокировать. Нет– это саморазоблачение. Оставьте его, месье, или приготовьтесь в Париже хватать поминутно шпагу в руку.
– Я благодарю вас, месье, и обещаю в жизни не говорить больше слова « Нет».
Мне показалось, в начале моего пребывания в Париже, что я стал самым виноватым из людей, потому что то и дело просил пардону. Мне показалось даже однажды, что я вызвал ссору, попросив его некстати. Это было в комедии, когда некий щеголь случайно наступил мне на ногу.
– Пардон, месье, – живо сказал я ему.
– Это вы меня простите.
– Нет, вы.
– Нет, вы.
– Ладно, месье, извинимся оба и обнимемся.
Так закончился наш диспут.
Однажды, когда я довольно неплохо дремал в вертикальном положении в быстро мчавшемся дилижансе-гондоле, меня встряхнул мой сосед, чтобы разбудить.
– Что вам надо?
– Ах, месье, пожалуйста, взгляните на этот замок.
– Я вижу его. Невелико дело. Что вы находите такого замечательного?
– Ничего, если не учитывать, что мы находимся в сорока лье от Парижа. Мои соотечественники сочтут меня зевакой, если я расскажу им, что видел такой прекрасный замок в сорока лье от столицы. Каким можно быть невеждой, если хоть немного не попутешествовать!
– Вы абсолютно правы.
Этот человек был парижанин, ротозей в душе, такой же, как галлы во времена Цезаря. Но если парижане глазеют по сторонам с утра до вечера, любуясь всем подряд, то иностранец, вроде меня, должен быть намного бо’льшим зевакой, чем они. Разница между мной и ими состояла в том, что, стараясь увидеть вещи такими, как они есть, я поражался, видя их в маске, изменяющей их природу, в то время как их удивление происходило часто от стремления разглядеть то, что под маской. Меня поразила красота магистралей – бессмертное творение Людовика XV, опрятность гостиниц, их стол, быстрота обслуживания, прекрасные постели, приличный вид прислуживающего за столом персонала, часто состоящего из домашних хозяина, вид, опрятность и манеры которого способны были обуздывать вольности гостей. Найдется ли у нас в Италии кто-нибудь, наблюдавший с удовольствием слуг в наших гостиницах, с их наглым видом и дерзостью? Все это в те времена было во Франции достойно похвалы. Франция была страной иностранцев. Стала ли она теперь страной французов? Было неприятно наблюдать часто проявлявшийся отвратительный деспотизм приговоров. Это был деспотизм короля. Мы видим теперь безудержный, кровожадный, неукротимый народный деспотизм, который собирает толпы, вешает, отрубает головы и убивает, деспотизм тех, кто, никогда не быв народом, смеет говорить от его имени.
Мы заночевали в Фонтенбло и, за час до прибытия в Париж, увидели берлину, приехавшую оттуда.
– Вот моя мать, – воскликнул Баллетти, остановитесь, остановитесь.
Мы вышли и, после обычных нежностей между матерью и сыном, он меня представил, и мать, знаменитая актриса комедии Сильвия, сказала мне приветливо:
– Надеюсь, месье, что друг моего сына соблаговолит отужинать с нами сегодня вечером.
Сказав это, она снова уселась в свою коляску вместе с сыном и дочерью, которой было девять лет. Я поднялся в свою гондолу.
По приезде в Париж, я встретил слугу Сильвии с фиакром, в который он все погрузил и отвез меня в жилье, которое я нашел весьма удобным. Перенеся туда мой багаж и все мое имущество, он отвел меня к хозяйке, обитавшей в полусотне шагов оттуда. Баллетти представил меня своему отцу, Марио, встающему после болезни. Имена Марио и Сильвия были их сценические имена, под которыми они выступали в комедиях. Французы никогда не дают итальянским комедиантам вне дома других имен, кроме тех, под которыми их знают по театру. «Добрый день, месье Арлекин, добрый день, месье Панталон», – говорят в Пале-Рояле тем, кто играет этих персонажей.








