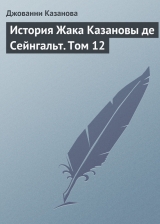
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Что он вам ответил?
– Что он будет счастлив оставить вас мне. Что означает ваша усмешка?
– Позвольте мне посмеяться, прошу вас, потому что я в жизни не сталкивалась с подобной декларацией страстной любви. Понимаете ли вы, что значит сказать женщине при объяснении в любви, по-видимому, самой нежной: «Мадам, один из двух, выбирайте сейчас же»?
– Я прекрасно это понимаю. Это не нежно и не патетично, как должно быть в романе, но это история, и из самых серьезных. Я никогда не испытывал подобного затруднения. Не чувствуете ли вы, в каком трудном положении оказывается влюбленный мужчина, когда он должен принять решение, которое может определить его жизнь? Подумайте, что, несмотря на то, что я горю, я не упрекаю вас ни в чем, и что в решении, которое готов принять, если вы будете упорно стоять на вашей идее, нет угрозы, но лишь героическое действие, которое я должен предпринять, при всем уважении к вам. Подумайте также о том, что нельзя терять времени. Слово «выбор» не должно казаться вам грубым, наоборот, оно оказывает вам честь, давая возможность решить мою и вашу судьбы. Чтобы увериться, что я вас люблю, нужно ли, чтобы я, как слабоумный, начал в слезах упрашивать вас проявить ко мне сострадание? Нет, мадам. Уверенный, что достоин вашего сердца, я не хочу просить вас о снисхождении. Идите, куда хотите, но позвольте мне уехать. Если, из чувства человечности, вы пожелаете, чтобы я забыл вас, позвольте мне, удалившись от вас, облегчить тем самым несчастное возвращение к себе. Если я поеду в Парму, я за себя не отвечаю. Подумайте сейчас, умоляю вас: если вы скажете мне, чтобы я поехал в Парму и не пытался там вас увидеть, на вас ляжет непростительная вина. Согласитесь, что по чести вы не можете так сказать?
– Несомненно, я это понимаю, если правда, что вы меня любите.
– Бог мне судья! Будьте уверены, я вас люблю. Выбирайте же. Скажите.
– И все время такой тон. Знаете ли вы, что у вас такой вид, как будто вы в гневе?
– Извините. Я не в гневе, но в сильнейшем волнении, и настал решительный момент. Я всем этим обязан своей странной судьбе и проклятым сбирам, что меня разбудили в Чезене, потому что без них я бы вас не увидал.
– Вы так сердитесь, что познакомились со мной?
– А разве я неправ?
– Отнюдь нет, потому что я еще не решила.
– Я снова дышу. Бьюсь об заклад, вы скажете мне, чтобы я ехал в Парму.
– Да, поезжайте в Парму.
Глава III
Я счастливый выезжаю из Болоньи. Капитан покидает нас в Реджио, где я провожу ночь с Генриеттой. Наше прибытие в Парму. Генриетта переодевается в одежду, соответствующую ее полу; наше обоюдное счастье. Я встречаю своих родственников, не будучи ими узнан.
В этот момент сцена поменялась. Я пал к ее ногам, я обнял ее колени, покрыв их сотней поцелуев; неистово, не тоном упрека, но нежно, покорно, с благодарностью, весь пылая, я клялся ей, что никогда бы не осмелился просить у нее даже руку для поцелуя, если бы не надеялся заслужить ее сердце. Эта дивная женщина, в удивлении, видя, как я сменил тон отчаяния на выражения самой живой нежности, говорит мне с еще более нежным видом, чтобы я встал. Она говорит мне, что уверена, что я ее люблю, и сделает все от нее зависящее, чтобы остаться мне верной. Она говорит, что любит меня так же сильно, как я ее, чего раньше не говорила. Я припал губами к ее прекрасным рукам, когда вошел капитан. Он приветствовал нас. Я сказал ему со счастливым видом, что иду распорядиться о лошадях, и оставил их. Мы отправились, все трое очень довольные.
На расстоянии в половину почтового перегона перед приездом в Реджио он заявил мне, что мы должны оставить его, чтобы он въехал в Парму один. Он сказал, что, приехав вместе с нами, дал бы пищу для расспросов и пересудов. Мы сочли его рассуждения правильными. Мы тут же решили остановиться на ночь в Реджио, а ему отправиться дальше в Парму в почтовой карете. Так мы и сделали. Отвязав свой багаж и поместив его в маленькую коляску, он нас покинул, предложив прийти пообедать завтра вместе.
Такой поступок этого славного человека должен был понравиться Генриетте, как и мне, из чувства деликатности, смешанной с некоторым предубеждением как с той, так и с другой стороны. Ввиду новой расстановки участников, как бы мы смогли разместиться в Реджио? Генриетта должна была бы чинно поместиться в отдельной кровати и должна была бы, или мы должны были бы, сдерживаться, при всей нелепости этого положения, что неизбежно заставляло бы нас краснеть всех троих. Любовь – чудесное дитя, которое ненавидит стыд до такой степени, что чувствует себя в таких условиях униженным, и это унижение заставляет его терять не менее трех четвертей его достоинства. Мы не смогли бы, ни я, ни Генриетта, чувствовать себя действительно счастливыми, не удалив от себя воспоминание об этом славном человеке.
Я прежде всего распорядился об ужине для Генриетты и себя, чувствуя, что мое счастье возрастает сверх всякой меры; но, несмотря на это, вид у меня был грустный, и такой же был у Генриетты, так что она не могла мне пенять на это. Мы поужинали очень скромно и совсем не разговаривали при этом, потому что слова казались нам невыразительными: мы тщетно старались сторониться друг друга, пытаясь найти интересный предмет для разговора. Мы знали, что сейчас ляжем вместе, но боялись оказаться бестактными, заговорив об этом. Какая ночь! Какая женщина эта Генриетта, которую я так люблю! Которая сделала меня таким счастливым!
На третий или четвертый день после нашего соединения я спросил у нее, что бы она делала без единого су и не имея никаких знакомств в Парме, если бы я, будучи влюбленным в нее, все же решил бы уехать в Неаполь. Она ответила, что на самом деле оказалась бы в самом ужасном положении, но что будучи уверена в том, что я ее люблю, она также была уверена, что я должен буду объясниться. Она добавила, что для того, чтобы понять мои намерения относительно нее, она дала мне перевести офицеру свое решение, зная, что он не может ни воспротивиться этому, ни продолжать сохранять ее при себе. Она сказала мне, наконец, что, высказав пожелание офицеру, чтобы тот больше не думал о ней, она сочла невозможным, чтобы я не стал ее расспрашивать, в чем я смогу быть ей полезным, хотя бы из одного чувства дружбы, и к тому же она еще не определилась относительно своих чувств ко мне. Она заключила, сказав мне, что если она и пала, то это ее муж и ее свекор тому причиной. Она назвала их монстрами.
Въехав в Парму, я сохранил имя Фаруччи – фамилию моей матери. Генриетта записалась под именем Анна д’Арси, француженка. Когда мы отвечали на вопросы чиновника, молодой расторопный француз предложил себя к моим услугам и сказал, что, вместо того, чтобы останавливаться на почте, он лучше отведет нас к Андремону, где я найду апартаменты, кухню и французские вина. Видя, что предложение нравится Генриетте, я согласился, и мы отправились к этому Андремонту, где очень хорошо устроились. Договорившись поденно с лакеем, который нас туда привел, и договорившись обо всем с хозяином дома, я пошел с ним устроить свою коляску на стоянку.
Сказав Генриетте, что мы увидимся в час обеда, и лакею, чтобы ждал в прихожей, я вышел один. Будучи уверен, что в городе, подчиненном новому руководству, шпионы должны быть повсюду, я хотел идти один, хотя этот город, родина моего отца, был мне совершенно незнаком.
Мне показалось, что я нахожусь не в Италии: все имело заграничный вид. Я слышал, как прохожие все говорили по-французски или по-испански, те же, что не говорили ни на одном из этих языков, разговаривали очень тихо. Слоняясь по улицам и ища глазами лавку, торгующую бельем, и не желая спрашивать, где мне ее найти, я заметил такую, в которой сидела у прилавка толстая женщина.
– Мадам, я хотел бы купить разного белья.
– Месье, я пойду найду кого-нибудь, говорящего по-французски.
– Это незачем, поскольку я итальянец.
– Слава богу! Нет ничего более редкого сегодня.
– Почему редкого?
– Вы разве не знаете, что пришел Дон Филипп? И что Мадам Французская, его супруга, в дороге?
– Я поздравляю вас с этим. Должно привалить много денег и можно будет найти все.
– Это верно, но все дорого, и мы не можем приспособиться к новым нравам. Эта смесь французской свободы и испанской ревности кружит нам голову. Какое белье вы желаете?
– Прежде всего, заверяю вас, что я не склонен торговаться, так что берегитесь. Если вы запросите слишком много, я к вам больше не приду. Мне нужно тонкого полотна, чтобы изготовить двадцать четыре женских рубашки, бумазеи для юбок и корсетов, муслина, платков и прочих вещей, которые мне хотелось, чтобы вы сами выбрали, потому что я иностранец и, бог знает, к кому я еще могу обратиться.
– Вы попали в хорошие руки, если вы доверитесь мне.
– Мне кажется, вам можно верить; я прошу вас мне помочь. Дело в том, что мне нужно также найти портних, которые могли бы работать прямо в комнате дамы, для которой необходимо быстро изготовить все необходимое.
– Также и платья?
– Платья, чепчики, накидки, – все; представьте, как будто женщина совсем раздета.
– Если у нее есть деньги, обещаю, что мы ничего не упустим. Это уж мое дело. Она молода?
– Она на четыре года моложе меня и она моя жена.
– Ах! Благослови вас бог. У вас есть дети?
– Еще нет, моя добрая дама.
– Как я рада! Я отправлю, прежде всего, найти жемчужину среди портних. В ожидании вы можете пока выбирать.
Выбрав все необходимое из лучшего, что она мне предложила, я расплатился с ней, а тем временем пришла портниха. Я сказал бельевой торговке, что остановился у д’Андремона, и что если она направит ко мне продавца с тканями, я буду ей благодарен.
– Вы обедаете у себя?
– Да.
– Хорошо. Положитесь на меня.
Я сказал портнихе, которая была со своей дочерью, следовать за мной и нести мое белье. Я остановился только купить чулки и нитки, и, придя к себе, пригласил также войти сапожника, находившегося у моих дверей. Вот момент истинного удовольствия! Генриетта, которую я ни о чем не предупредил, смотрела на все это, сидя у стола, с видом величайшего удовлетворения, но высказала только одобрение прекрасному качеству выбранных мной товаров. Никакого проявления радости, никаких изъявлений благодарности.
При моем появлении вошел слуга с портнихами, и Генриетта вежливо сказала ему выйти в прихожую и быть готовым войти, когда позовут. Он задернул занавески, портниха начала кроить рубашки, сапожник взял у нее мерки, я приказал ему изготовить сначала домашние туфли, и он вышел. Четверть часа спустя он вернулся с домашними туфлями для Генриетты и для меня, и тут с ним вместе входит слуга, не будучи вызван. Сапожник, говорящий по-французски, начинает ей рассказывать байки, вызывающие смех. Она прерывает его, спрашивая у слуги, стоящего тут же, что он хочет.
– Ничего, мадам; я здесь, чтобы выслушать ваши приказания.
– Разве я вам не сказала, что когда вы будете нужны, вас позовут?
– Я хотел бы знать, кто из вас двоих мой хозяин.
– Никто, – говорю я ему, смеясь, – вот ваша дневная зарплата. Уходите.
Генриетта продолжает смеяться вместе с сапожником, который, видя, что она говорит только по-французски, предлагает ей учителя языка. Она спрашивает, из какой тот страны.
– Фламандец. Он ученый. Ему пятьдесят лет, он очень умен. Он живет в гостинице Борника; он берет три пармских ливра за урок, если он продолжается час, и шесть, если два часа, и хочет, чтобы ему платили раз за разом.
– Хочешь ли ты, чтобы я взяла этого учителя?
– Прошу тебя взять его – это тебя развлечет.
Сапожник обещает отвести ее к нему завтра в девять часов. В то время, как портниха-мать кроит, дочь начинает шить, но в одиночку не справляется с количеством работы; я говорю женщине, что она нас обяжет, найдя еще одну, говорящую по-французски. Она обещает проделать это в тот же день. Одновременно она предлагает мне взять домашним слугой ее сына, который может изъясняться по-французски, заверяя, что он не вор, не тупица и не шпион. Генриетта говорит, что, как ей кажется, стоит его взять. Та велит своей дочери пойти за ним и привести также портниху, говорящую по-французски. Ну вот и компания, которая может развлечь мою дорогую супругу.
Сын этой женщины был мальчик восемнадцати лет, учившийся в школе, скромный и порядочный на вид. Спросив, как его зовут, я был очень удивлен, услышав, что его фамилия Коданья.
Читатель знает, что мой отец был пармезанец, и, возможно, он помнит, что сестра моего отца вышла замуж за Коданья. Это поразительно, сказал я себе, если эта портниха – моя тетка, а мой слуга – мне кузен. Умолчим об этом! Генриетта спросила у меня, не хочу ли я, чтобы эта портниха обедала с нами, Но я упрекнул ее, что не хочу, чтобы на будущее мне докучали подобными мелкими просьбами. Она засмеялась и обещала мне это. Я положил в маленький кошелек пятьдесят цехинов и сказал ей, передавая его, чтобы она из него оплачивала все свои мелкие надобности, и что я не хочу об этом знать. Она согласилась, сказав, что этот подарок доставил ей большое удовольствие.
За минуту перед тем, как нам сесть за стол, появился венгерский капитан. Генриетта бросилась его обнимать, называя папой; она просила его приходить с нами обедать каждый день. Этот славный человек, видя, как изготавливаются все эти женские принадлежности, был в восхищении от того, как хорошо устроена его авантюристка, и преисполнился радости, когда я сказал ему, обнимая, что обязан ему моим счастьем.
Мы очень тонко пообедали. Повар у д’Андремона был великолепный. Я открыл для Генриетты фрианде’ [6] 6
слоеные пирожки
[Закрыть], венгр наслаждался и я получал удовольствие от обоих. Пробуя вина нашего хозяина, мы прекрасно пообедали. Мой молодой наемный слуга понравился мне тем, с каким уважением он относился к своей матери, впрочем, как и остальные. Жанетон, его сестра, работала вместе с француженкой. Они уже пообедали.
На десерт я увидел торговку бельем вместе с двумя другими женщинами, из которых одна была модистка, говорившая по-французски. У второй были образцы всех сортов платьев. Я предоставил Генриетте распоряжаться выбором шляпок, чепцов и гарнитуры на первый случай, но выразил пожелание участвовать в выборе платьев, сообразуя, однако, свой вкус со вкусом моего кумира. Я заставил ее выбрать четыре платья и был ей благодарен за то, что она согласилась с моими рекомендациями. Чем больше я привязывался к ней, тем больше ощущал себя счастливым. И вот настал первый день, когда у нас не осталось больше незавершенных дел. Вечером за ужином мне показалось, что она не так весела, как обычно, и я спросил ее о причине.
– Дорогой друг, ты тратишь много денег на меня, но если ты их тратишь, чтобы заставить меня полюбить тебя больше, они выброшены на ветер, потому что я люблю тебя не сильнее, чем позавчера. Все то, что ты делаешь, доставляет мне удовольствие лишь потому, что я понимаю, что ты стараешься ради того, чтобы доказать, что ты меня любишь; но мне нет нужды в этом доказательстве.
– Я знаю это, дорогая Генриетта, и я себя поздравляю, если ты чувствуешь, что твоя нежность не может стать еще сильнее; но знай, что я делаю это лишь для того, чтобы еще сильнее любить тебя, я хочу видеть тебя блистающей в кругу существ твоего пола, сожалея лишь о том, что не мог раньше предоставить тебе такую возможность. И если тебе это доставляет удовольствие, не должен ли я быть этим счастлив?
– Разумеется, мне это доставляет удовольствие, и некоторым образом заявляя, что я твоя жена, ты прав; но если ты не слишком богат, ты должен понять мой упрек.
– Ах! Моя дорогая Генриетта, позволь мне заверить тебя, что я богат, и, думаю, невозможно представить себе, чтобы ты стала причиной моего разорения: ты рождена, чтобы сделать меня счастливым. Думай только о том, чтобы никогда меня не покинуть, и скажи, могу ли я на это надеяться.
– Я хочу этого, мой самый дорогой; но кто может быть уверен в будущем. А ты свободен? Зависишь ли ты от чего-нибудь?
– Я свободен в полном смысле этого слова, и я ни от кого не завишу.
– Я тебя поздравляю, и моя душа этому радуется; Никто не может оторвать тебя от меня; но увы! Ты знаешь, что я не могу сказать того же о себе. Я уверена, что меня ищут, и я знаю, что если меня найдут, то легко отыщут средство мной завладеть. Если они смогут вырвать меня из твоих рук, я буду несчастна.
– А я убью себя. Ты заставляешь меня дрожать. Можешь ли ты опасаться этой беды здесь?
– Я боюсь только, чтобы некто, который меня знает, не увидел меня.
– Возможно ли, чтобы этот некто оказался в Парме?
– Это мне кажется маловероятным.
– Не будем же тревожить нашу любовь опасениями, прошу тебя, и будь весела, какой ты была в Чезене.
– И. несмотря на это, я была в Чезене несчастна, а сейчас счастлива, но не бойся видеть меня печальной, потому что веселость – в моем характере.
– Думаю, в Чезене ты опасалась, что тебя нагонит французский офицер, с которым ты жила в Риме.
– Отнюдь. Это был мой свекор, который, я уверена, не сделал ни малейшего усилия, чтобы выяснить, куда я направилась, после того, как исчезла из гостиницы. Он может быть только счастлив, что избавился от меня. Несчастной меня делает возможность оказаться с человеком, которого я не люблю и с которым не могу разговаривать. Добавь к этому, что я не могла утешиться мыслью, что составляю счастье человека, с которым нахожусь, потому что внушила ему лишь преходящее чувство, которое он оценил в десять цехинов, и которое, будучи удовлетворенным, должно, я уверена, стать ему в тягость, потому что, очевидно, он не богат. Я несчастна и по другой, достойной жалости, причине. Считая себя обязанной оказывать ему ласки, – а со своей стороны, он должен был, естественно, мне на них отвечать, – я опасалась, что это не затрагивает его чувство; эта мысль меня угнетала: если мы оба не любим друг друга, то подчиняемся, грубо говоря, простой вежливости. Мы растрачиваем на комплименты то, что должно быть обязано только любви. Другое соображение угнетало меня еще больше. Я не хотела, чтобы кто-то мог подумать, что я держусь этого порядочного человека ради своей выгоды. Поэтому ты не мог не заметить, что ты меня привлек еще раньше, чем я тебя увидела.
– Как! Здесь даже нет места для самолюбия?
– По правде говоря, нет, потому что ты мог отметить относительно меня только то, что я заслуживаю внимания. Я совершила ошибку, как ты знаешь, поскольку мой свекор явился, чтобы поместить меня в монастырь. Но прошу тебя, не заморачивайся моей историей.
– Я не буду тебе докучать, мой ангел. Давай любить друг друга, так, чтобы опасения будущего не могли возмутить наш мир.
Мы отправились спать, влюбленные, чтобы выйти из постели утром еще более влюбленными. Я провел с ней три месяца, все время наслаждаясь любовью, и надеясь, что это продолжится и дальше.
Итак, на другой день в девять часов я увидел учителя языка. Это был человек респектабельного вида, учтивый, сдержанный, говорящий мало, но хорошо, осторожный в своих ответах и воспитанный в старом духе. Он начал с того, что заставил меня смеяться, сказав, что христианин может допустить систему Коперника только как рабочую гипотезу. Я ответил ему, что она не может быть ничем иным как системой Бога, поскольку описывает природу, и что Святое Писание не есть книга, по которой христиане могли бы изучать физику. Своим смехом он мне напомнил Тартюфа; но он мог забавлять Генриетту, и единственное, что я от него хотел, это чтобы он учил ее итальянскому. Она сказала ему, что будет давать по шесть ливров в день, потому что хочет двухчасовых уроков. Шесть пармских ливров соответствуют тридцати французским су. После урока она дала ему два цехина, чтобы он купил ей новых романов с хорошими отзывами.
Пока она занималась уроком, я поболтал с портнихой Коданья, чтобы удостовериться, что мы действительно родственники. Я спросил у нее, чем занимается ее муж.
– Мой муж метрдотель у маркиза Сисса.
– Ваш отец жив?
– Нет, месье. Он умер.
– Какая была его фамилия?
– Скотти.
– А у вашего мужа есть отец и мать?
– Его отец умер, а его мать еще живет, с каноником Казановой, своим дядей.
Мне ничего больше и не требовалось. Эта женщина была моя кузина, по бретонскому обычаю, а ее дети – мои племянники от кузины. Моя племянница Жаннетон не была красива, и я продолжил расспрашивать ее мать. Я спросил ее, довольны ли пармезанцы, став подданными Испании.
– «Довольны? Мы все пребываем в настоящем лабиринте, все перевернуто, мы не знаем теперь, где мы. Счастливое время, когда правил дом Фарнезе, ты прошло! Я была позавчера на комедии, где Арлекин заставлял всех хохотать во все горло; но представьте себе: дон Филипп, наш новый герцог, начинает смеяться так, как он умеет, гримасничая, и когда уже не может сдерживаться, загораживается шляпой, чтобы не видели, как он корчится от смеха. Мне говорили, что манера смеяться не вяжется со строгой осанкой испанского инфанта, и что если он продолжит демонстрировать такое, напишут в Мадрид его матери, которая находит это отвратительным и недостойным великого принца. Что вы на это скажете? Герцог Антуан, спаси боже его душу, был тоже великий принц, но он смеялся от всего сердца, так, что раскаты раздавались на улице. Мы втянуты в немыслимый конфуз. В течение трех месяцев в Парме больше не осталось никого, кто бы знал, который теперь час [7] 7
В Парме был узаконен переход на испанскую систему времени – прим. перев.
[Закрыть].
С тех пор, как Бог создал мир, солнце садилось в двадцать три с половиной часа, а в двадцать четыре всегда читали Анжелюс; и все порядочные люди знали, что в это время зажигают свечи. Сейчас это непонятно. Солнце сошло с ума: Оно садится каждый раз в другое время. Наши крестьяне больше не знают, в котором часу им следует приходить на рынок. Называют это регламентом; но вы не знаете, почему? Потому что теперь каждый знает, что обедают в двенадцать часов. Прекрасный регламент! Во времена Фарнезе обедали, когда чувствовали, что проголодались, и так было гораздо лучше».
У Генриетты не было часов; я вышел, чтобы пойти ей купить. Я купил ей перчатки, веер, серьги и некоторые безделушки, которые показались ей слишком дорогими. Ее учитель был еще здесь. Он произнес мне похвальную речь ее таланту.
– Я мог бы, – сказал он, – преподать мадам геральдику, географию, хронологию, науку о сферах, но она все это знает. Мадам получила прекрасное воспитание.
Этого человека звали Валентин де ла Хэйе. Он сказал мне, что он инженер и профессор математики. Я буду много говорить о нем в этих Мемуарах, И мой читатель лучше узнает его характер по его поступкам и по тем зарисовкам, которые я с него сделаю.
Мы весело пообедали с нашим венгром. Мне не терпелось увидеть мою дорогую Генриетту одетой как женщина. Ей должны были завтра принести платье и сделали юбки и несколько рубашек. У Генриетты был блестящий и очень тонкий ум. Модистка, которая была из Лиона, вошла как-то утром в нашу комнату, говоря:
– Мадам и месье, я к вашим услугам.
– Почему, – сказала ей Генриетта, – вы не говорите: «Месье и мадам»?
– Я вижу, – отвечает модистка, – что обычно первые почести оказывают дамам.
– Но от кого добиваемся мы этих почестей?
– От мужчин.
– Разве вы не видите, что женщины становятся смешны, когда не оказывают мужчинам ту же честь, которую вежливость заставляет их оказывать нам?
Если кто-то полагает, что женщина неспособна сделать мужчину счастливым все двадцать четыре часа в сутки, не знали Генриетты. Радость, которую испытывала моя душа днем во время диалогов с ней, превосходила ту, что я испытывал, держа ее в своих объятиях ночью. Генриетта много читала, имела природный вкус, разумное суждение обо всем и, не будучи ученой, рассуждала как геометр. Не претендуя на глубокий ум, она говорила что-нибудь важное, сопровождая всегда это смехом, который, придавая всему видимость легкомыслия, делал сказанное доступным любой компании. Она этим прибавляла ума тем, кто не думал, что его имеет, и кто в ответ на это любил ее до обожания. В конце концов, красавица, не имеющая развитого ума, не получает никаких шансов на любовника после достижения им вещественного наслаждения от ее прелестей. Дурнушка, блещущая умом, влюбляет в себя такого мужчину, о котором не могла и мечтать. Каково же было мне с Генриеттой, красавицей, умницей и образованной? Невозможно представить себе меру моего счастья.
Можно спросить у красивой женщины, не обладающей большим умом, не хотела ли бы она отдать небольшую часть своей красоты за то, чтобы приобрести немного ума. Если она искренняя, она ответит, что она довольна тем, какова она есть. Почему она довольна? Потому что, обладая малым, она не может осознать того, чего лишена. Если спросить у умной дурнушки, хочет ли она поменяться местами с той другой, – она ответит, что нет. Почему? Потому что, обладая большим умом, она осознает, что он заменяет ей все.
Умная женщина, не созданная, чтобы составить счастье любовника, – ученый. В женщине наука неуместна; она наносит ущерб самому главному для ее пола, а кроме того, она никогда не пойдет дальше известных границ. Нет ни одного научного открытия, сделанного женщиной. Чтобы пойти plus ultra [8] 8
дальше
[Закрыть], нужно иметь силу, которой женский пол не обладает. Но в простых рассуждениях и в тонких сплетениях чувств мы должны уступить первенство женщинам. Вы швыряете софизм в голову умной женщины – она не может его развить; но она не проста; она говорит вам, что не сильна в этом, и отбрасывает его вам обратно. Мужчина, который сочтет положение неразрешимым, сделает из него разменную монету, как женщина-ученый. Какая невыносимая ноша для мужчины такая женщина, которая обладает, например, умом м-м Дасье [9] 9
известная женщина-ученый XVIII века
[Закрыть]! Боже охрани вас от такого, дорогой читатель!
С приходом портнихи с платьем Генриетта сказала мне, что я не должен присутствовать при этой метаморфозе. Она сказала мне пойти погулять до того момента, когда, вернувшись домой, я уже не увижу ее замаскированной.
Это великое удовольствие – исполнять все, что приказывает объект твоей любви. Я пошел в лавку французской литературы, где нашел умного горбуна. Впрочем глупый горбун – большая редкость. Не все умные люди горбуны, но все горбуны умные люди. В результате многолетних наблюдений я полагаю, что это не ум вызывает рахит, а рахит, который дает ум. Этого горбуна, с которым я познакомился, звали Дюбуа-Шательро. Он был по профессии гравер и директор монетного двора герцога-инфанта, потому что тогда собирались выпускать монету; но этого так и не получилось.
Проведя час с этим умным человеком, который показал мне некоторые образцы своей продукции в гравюрах, я вернулся к себе и застал венгерского капитана, который ожидал, пока откроется дверь Генриетты. Он не знал, что она встретит нас без маскировки. Дверь, наконец, отворилась и вот: она предстала перед нами, исполнив с непринужденным видом прекрасный реверанс, в котором не чувствовалось ни внушительности, ни воинственной веселости освобождения. Для нас это явилось сюрпризом, и мы были в замешательстве. Она предложила нам сесть рядом; она смотрела на капитана дружески, а на меня – с нежностью и любовью, но не с той видимостью фамильярности, с которой молодой офицер может принижать любовь, и которая не идет женщине хорошего происхождения. Этот новый облик заставил меня действовать в унисон, поскольку Генриетта не играла роль. Она действительно была той, кого представляла. Пораженный восхищением, я взял ее руку, чтобы поцеловать, но она отняла ее, подставив мне губы, говоря:
– Разве я не та же, что и прежде?
– Нет. И это настолько верно, что я не могу больше обращаться к вам на «Ты». Вы больше не тот офицер, который ответил м-м Кверини, что вы играете в фараон, держа банк, и что игра столь невелика, что не стоит и считать.
– Действительно, одетая так, я не смею теперь говорить что-то подобное. Ноя не стала менее Генриеттой, которая сделала в своей жизни три ошибки, из которых последняя, без тебя, стала бы для меня роковой. Но прекрасная ошибка, благодаря которой я тебя узнала.
Ее чувства настолько поразили меня, что был момент, когда я хотел броситься к ее ногам, чтобы просить у нее прощения, если я не сразу стал почитать ее, если отнесся слишком легкомысленно, если одержал свою победу слишком безыскусно.
Генриетта, прелесть, положила конец чрезмерно патетической сцене, растормошив капитана, который, казалось, окаменел. Его оскорбленный вид произошел от сознания ошибки, которую он допустил, приняв за авантюристку женщину такого рода, потому что он не допускал мысли, что ее облик был поддельный. Он смотрел на нее удивленно, делал ей реверансы; было видно, что он старается заверить ее в своем уважении и раскаянии – это ему было запрещено. Что касается ее – она, казалось, говорила, однако без всякой тени упрека: я очень рада, что вы меня сейчас узнали.
С этого дня она стала оказывать честь столу как женщина, которая привыкла это делать. Она относилась к капитану как к другу, а ко мне как к любимому. Она казалась то моей любовницей, то женой. Капитан просил меня сказать ей, что если бы он увидел ее сходящей с тартаны в этой одежде, он не осмелился бы послать к ней своего чичероне.
– Ох, в этом я уверена, – ответила она, – но это странно, что форма выглядит менее респектабельно, чем платьице.
Я просил ее не ругать свою униформу, потому что я обязан ей своим счастьем.
– Как и я, – ответила она, – сбирам Чезены.
В действительности весь этот день я использовал, наслаждаясь чистой любовью; и мне показалось, что я ложусь с ней в постель в первый раз.








