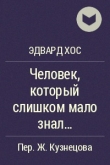Текст книги "Форсирование романа-реки"
Автор книги: Дубравка Угрешич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
10
Все прошло гладко и безболезненно. И на югославской границе, которой он больше всего боялся, и на австрийской. Он затаил дыхание, ему казалось, что сама судьба в образе молодого пограничника бесшумно ставит печать на зеленоватую страницу паспорта. Wilkommen in Osterreich!
Закрыв дверь купе, задернув занавески, сев и бессознательно выключив свет, Трошин в темноте слышал громкие удары собственного сердца. Он глубоко вздохнул и невольно произвел губами странный звук, похожий на писк. В этом писке он узнал свой страх. Зажег свет в изголовье и дрожащими руками открыл паспорт. Долго и тупо рассматривал печати, как будто пытался прочитать линии судьбы на ладони.
Поезд тронулся. Трошин снял пиджак, лег, погасил свет и закрыл глаза. Он вдыхал запах свежей наволочки и вслушивался в стук колес. Через несколько часов он будет в Вене, положит голову на плечо Сабины и забудется, забудет все… Он попытался дышать в ритме колес. Не получилось. Сердце стучало то быстрее, то медленнее. Он снова открыл глаза и слегка поежился. В нижнюю сторону верхней полки, прямо над ним, было вмонтировано зеркало. В полутьме он распознал в нем собственное отражение. Его тело на нижней полке казалось в зеркале каким-то маленьким, как будто ссохшимся, и слишком аккуратным, как в гробу. К черту, фыркнул Трошин, сел, закурил сигарету, потом вышел в коридор.
Коридор, освещенный слабым светом, был пуст. Лишь возле окна, уставившись в темноту, стоял невысокий человек. Человек оглянулся, кивнул и отодвинулся к соседнему окну. Трошин прислонился к двери своего купе и закурил. Неожиданно его охватила неуверенность, показалось, что вокруг него все больше сгущается туман одиночества.
Человек стоял не двигаясь, будто окаменев, спина его была слишком прямой, и Трошину показалось, то ли из-за темного костюма, то ли из-за повадки, что в нем есть что-то от официанта. Это ощущение «чего-то официантского» он увозил с собой еще из Загреба, оно тащилось за ним, как баржа, и сейчас воплотилось в этом незнакомом пассажире.
– Вы до Вены? – услышал Трошин собственный голос. Он сказал эту фразу по-французски и почувствовал, что краснеет. Почему он заговорил по-французски, которого почти не знал, он себе объяснить не мог. Человек любезно кивнул головой и затем, словно вопрос Трошина что-то ему напомнил, вытащил из кармана газету, развернул ее и почти исчез за огромными страницами. Трошин заметил, что на руке у него висел черный зонтик с ручкой в форме собачьей головы. На пальце был большой серебряный перстень с печаткой. Перстень никак не вязался с его общим обликом и холодно поблескивал в сторону Трошина.
В темном стекле окна Трошин снова увидел свое лицо. Оно показалось ему старым. Господи, есть ли во всем этом какой-нибудь смысл? Может быть, все-таки нужно было отказаться? Или пора наконец отбросить мысль, что хоть в чем-то есть какой-то смысл? И неужели сейчас, когда он перегрыз пуповину, ему не безразлично, будет ли он жить чьей-то чужой жизнью или умрет? Именно сейчас он «отчалил», окончательно «отчалил». Единственное, что он видит во тьме, это два бледно-серых ничего не выражающих глаза.
В коридоре было невыносимо тихо. Человек у окна неподвижно держал перед собой раскрытую газету. «Literatur Zeitung»… Кажется, Сабина говорила, что пишет для этой газеты? Трошин зевнул, скорее от напряжения, чем от сонливости, погасил сигарету, кивнул в направлении пассажира, который не мог этого видеть, и вернулся в свое купе.
Он снова лег и попытался заснуть. Перед глазами у него, в одном ритме со стуком колес, назойливо замелькали картинки. Сначала он рассматривал их спокойно, как рассматривают из окна поезда проносящиеся пейзажи… Началось с Сабины, а потом назад, картинка за картинкой, кадр за кадром вся его жизнь, как в кино. Трошин чувствовал себя беспомощным, прикованным к своему месту в этом воображаемом кинотеатре, он понимал, что этот бессмысленный фильм неизбежен, как всегда бывает во сне. А потом фильм остановился на одном кадре. Посреди пустого двора на Трубной, подняв плечи, стоит мальчик (он, Юра) и крепко сжимает в руках мяч. Ну поиграй, поиграй… – подает ему знаки мама из-за закрытого окна на третьем этаже. На подоконнике стоит стеклянная банка с вареньем из крыжовника. На банке наклеена бумажка, на ней маминым почерком написано: «Варенье из крыжовника». Ну, Юра, давай, что ж ты не играешь, говорит мама за замутившимся стеклом и смеется. Мальчик стоит неподвижно, подняв плечи и крепко прижимая мяч к груди. Очень холодно. Во дворе никого нет. В кадре, кажется, пролетает птица, но она тут же исчезает. Вдруг Трошин совершенно ясно видит, как кто-то из темноты, невидимой рукой, прожигает эту живую картинку. Мамино лицо желтеет, постепенно исчезает, вот еще осталась рука, но исчезает и она, остается банка, теперь почему-то огромная, ягоды наполняются огнем, вспыхивают и тоже исчезают, все превращается в серые, тонкие слои пепла.
Тут Трошину показалось, что все это сон во сне и что от этого сна его будит человек, стоявший в коридоре. Трошин ясно увидел его лицо. Человек склонился над ним, поднял свой черный зонтик и направил его острый конец в грудь Трошина. Это сон, а во сне не больно, подумал Трошин, но все-таки, испугавшись, прикрыл руками сердце. Конец зонтика прошел точно между большим и указательным пальцами, и Трошин почувствовал резкую боль. «Je suis un parapluie», – пробормотал Трошин фразу, которую выучил еще в детстве, в детской группе французского языка. Фильм вдруг снова закрутился, сцена во дворе опять ожила, мальчик с поднятыми плечами кивнул головой, бросил мяч и исчез из кадра.
– Эй… – просипел Трошин голосом, в котором было что-то похожее на голос его матери, какая-то ее характерная укоряющая интонация, он успел удивиться всей этой бессмыслице, а потом потерял сознание.
11
Сабина Плухар напечатала последнюю фразу и удовлетворенно потянулась.
– Пушкин! – нежно позвала она, подошла к холодильнику и налила в мисочку молока.
– Пушкин…
Огромный сиамский кот мягко спрыгнул с подоконника и бесшумно подошел к ее ногам.
– Пуш-пуш-пушкин… – ласково приговаривала девушка над котом и чесала его за ухом. Оба жмурились, кот от удовольствия, девушка от усталости. В этот момент зазвонил телефон.
– Фрейлейн Плухар?
– Да?
– Юрий Трошин не приедет…
– Как?!
– Он скончался в поезде, после пересечения границы. Инфаркт… кажется… Фрейлейн Плухар?
– Да?
– Ваш чек вы получите завтра.
– Спасибо…
– Произошла ошибка. Мы узнали о ней десять минут назад…
– Простите?
– Нужным нам человеком был Виктор Сапожников…
– Сапожников?!
– Ошибки иногда случаются, фрейлейн Плухар. Вы обо всем забудете, не правда ли?
– Да, господин Флогю.
Сабина положила трубку. Некоторое время она сидела неподвижно, потом направилась к письменному столу. Медленно вытащила из пишущей машинки последнюю страницу и присоединила ее к остальным. Потом взяла белую корректирующую пасту и везде аккуратно замазала имя Юрия Трошина. Потом на каждой странице впечатала на эти места «Виктор Сапожников». А потом опять подошла к телефону…
– …Да. У меня есть интервью. С Виктором Сапожниковым… Да… Молодой советский писатель. Очень интересно, вы увидите… Я принесу вам текст завтра утром.
Пока девушка разговаривала по телефону, огромный кот бесшумно вспрыгнул на письменный стол и лениво растянулся на разбросанных по столу бумагах. Одну лапу он небрежно положил на страницу, где Виктор Сапожников говорил:
«Sie fragen mich, wie ich das sowjetische System erlebe? Was soll man über ein System sagen, in dem die Menschen innerhalb nur einer Generation Krieg, Hunger, Gefängnis, Konzentrationslager, Lügen, Übergriffe, Korrurtion, Demagogie, Massenvernichtungen, Sklavenarbeit, Armut, Angst kennengelernt haben?… Ein Draculasystem…»
– Брысь, Пушкин? – крикнула Сабина, увидев кота на столе. Кот равнодушно перепрыгнул на подоконник. Сабина села в кресло, она дрожала, как будто ей холодно, и потирала плечо о подбородок. Ее светло-серые ничего не выражающие глаза были широко раскрыты, а по щекам текли редкие, крупные слезы.
12
Дорогой Пер!
Домой я не еду. Направляюсь на юг. Со мной Иван. Напишу о нем подробнее позже, в письме. Я чувствую себя клубком шерсти, который покатился и не знает, где остановится. Ощущение прекрасное.
Твоя Сесилия
13
Пипо Финк сидел в полумраке, глубоко погрузившись в кресло, и рассеянно вертел в руках бинокль Марка. Пипо увяз в грусти, как в густом клее. Глупый амер… Приехать сюда с биноклем и справочником европейских певчих птиц, три дня валять дурака и исчезнуть! Просто так. Не сказав ни слова. Cool. А ты, Пипо, отъебись…
Он представлял себе, как Марк (в его, Пипо, кроссовках!) пробирается через волнующие международные джунгли аэропорта «Kennedy». А если бы в своей игре они пошли до конца, как в том фильме, про который рассказывал Марк, сейчас бы он, Пипо, мог с такой же легкостью и гибкостью, как Pink Panther, шагать по нью-йоркскому аэропорту. И не только по аэропорту… А Марк сидел бы на его месте, в старом облезлом кресле, в квартире с высокими, пожелтевшими потолками, пропитанной запахом пыли и смога, как самой вечностью. Да-а… Правда, Марк бы здесь быстро загнулся. Он не оболваненный. Человек должен быть оболваненным, чтобы выжить в вонючем зверинце, и существовать затаившись, глухонемым, существовать как червяк или улитка…
Пипо рассеянно поднес к глазам бинокль Марка. Он обозревал комнату и думал. Итак, что делать ему, Пипо, который не шагает по международным аэропортам (метафора жизни), а сидит, скорчившись, в старой, пыльной квартире? Какие могут быть варианты сценария? Если бы сейчас он из-за столика в ресторане Russian Tea Room на 57-й Street смотрел через воображаемый бинокль в направлении Загреба, о чем бы он жалел, чего бы ему не хватало? Книги прозы «Жизнь и творчество Пипо Финка»? Кучи сценариев о медвежатах, муравьях, о том, почему идет дождь и дует ветер, которые мама аккуратно раскладывала по папкам? Мама? Мама на этот свет появилась задолго до него, да и вообще, как она может быть вариантом жизни?
– Пилили!
– Да!!!
– Что ты кричишь?
– Это ты кричишь!
– Я не кричу! Просто я хотела проверить, спишь ты или пет!
– Ее сплю!
– Будешь кофе?
– Буду!
– Опять кричишь! Боже мой, родишь ребенка, а потом выяснится, что родила монстра!
– Я тоже родителей не выбирал! Монстры родятся от монстров!
– Как ты смеешь так говорить о покойном папе!
– Я имел в виду тебя.
– Лучше бы она умерла – вот что ты думал!
– Вовсе нет.
– А если разобраться, то и правда, было бы лучше! Если бы меня не было, мне не пришлось бы больше смотреть на тебя такого.
– Какого?!
– Такого! Ты же погибаешь! Без жены, без детей, у тебя никого нет!
– Прекрати!
– У тебя осталась только я!
– Да свари же ты, наконец, этот кофе!
– Вот видишь…
– Что я должен видеть?!
– А то, какой ты!
– Переключи программу, мама.
– Что это значит?!
– Включи какую-нибудь другую!
– С тобой вообще невозможно разговаривать. Ни на какой – ни на второй, ни на первой.
Пипо остановил свой бинокуляризованный взгляд на книжных полках. Длинные ряды белых корешков. Пять столетий хорватской литературы. Мама подписывалась. С самого первого выпуска. Сначала просто так, чтобы на всякий случай были под рукой, а потом для Пипо. («Если бы не я, он никогда не поступил бы на филологический! И может быть, это было бы лучше!») Пять столетий! Неужели у каждой страны, даже самой завалящей, есть свои пять столетий! Галактика Гуттенберга. Если у хорватов столько отборных книг, что хватает для звукоизоляции целой стены, то сколько же их наберется у датчан, фламандцев, бельгийцев, андоррцев, люксембуржцев, исландцев, ирландцев… И у всех у них есть своя «Башчанская плита[25]25
Башчанская плита – самый старый из известных памятников хорватской письменности, датируется XI в., представляет собой выбитую на каменной плите надпись на глаголице.
[Закрыть]», начиная с которой они договорились отсчитывать историю своей литературы, пересчитывать, вносить, выбрасывать, каталогизировать, распределять… Пять столетий! В твердых переплетах, несокрушимых, подарочных, представительных, бесспорных, как факты. Стоит ли посвящять свою жизнь тому, чтобы в ее конце добиться собственного тома? Стоит ли свеч эта игра, стоит ли затевать ее только ради того, чтобы однажды встать на полку в пыльной домашней библиотеке, стиснутым с двух сторон другими томами? С одного боку к тебе прижмется Враз, а с другого Прерадович, и все вы вместе будете служить звуковой и тепловой изоляцией? А сценарии? Он уже несколько лет растрачивает свое вдохновение на медвежат, муравьев, дождик, цветочки, на все это идиллическое свинство, на которое плевать хотели даже самые маленькие дети. И если каким-то чудом кто-нибудь предложит ему что-то настоящее, кто знает, сможет ли он.
– Финк, этот ваш сценарий…
– Да?
– Измените вот это! У вас слишком много реквизита.
– Какого?
– Выкиньте кукол!
– Хорошо, можно и без кукол…
– И урежьте актеров! У нас же не театр, а телевидение!
– Думаете…
– Не думаю, а знаю! Одного актера хватит!
– Хорошо.
– И уберите эти дурацкие кулисы! Пусть все будет чисто, строго, как принято!
– O.K.
– А эти ваши торты?! Это просто несерьезно!
– Почему? У нас же все-таки детская передача.
– Вот именно. Но вовсе не буфет для прожорливой съемочной группы!
– Хорошо.
– И слишком много болтовни! Слишком много фальшивой поэтичности! Пусть будет чисто, строго, как принято! Болтовню оставьте для театра! У нас – телевидение!
– O.K.
– И без кинокамер! Это денег стоит! И как вас угораздило вставить сюда натуру в зоопарке?
– Я думал, из-за детей…
– Детям не нужна информация о том, как выглядит слон! Они это и без вас знают!
– O.K.
– Переделайте к завтрашнему дню.
– Хорошо.
– Сегодня у нас был ваш коллега, Пусич или Кусич… что-то в этом роде. Этот человек принес мне гору сценариев. Вы видите, как люди борются за то, чтобы работать с нами? При этом он кандидат наук! Вы еще не защитились?
– Нет…
– Вот, видите.
Выхода нет. Он может только ненавидеть, все страшно ненавидеть, все отрицать, бежать куда угодно от самого себя, блуждать, давить все вокруг, кусать себя за хвост – все здесь глупо, грязно, болезненно, – может погибнуть, превратиться в живой труп, кончить жизнь в лучших традициях хорватской прозы, так же как все ее унылые герои, все эти Дорчичи, Кичмановичи, Джуры Андрияшевичи, Арсены Трплаки, Крешимиры Хорваты… Все они напрягались, упирались, возмущались, а потом потонули в мифической паннонской грязи, в болоте, в топях, в провинциальной стоячей воде, в глупости, безумии, пьянстве, болезнях, и так далее… Примириться, смириться, перестать мечтать, да, это, может быть, самое важное – перестать МЕЧТАТЬ, возобновить дружеские отношения, расширить сферу интересов, найти хобби, взбираться раз в неделю на Слеме, продлить читательский билет в библиотеке Американского культурного центра, записаться на курсы какого-нибудь языка, зимой – на лыжи, летом – на море, экономить деньги для поездок за границу, хотя бы раз в год, хотя бы на четыре дня, и четыре дня не шутка, вообще, как можно меньше отвергать, ни от чего не отказываться, ни в коем случае, ничего не пропускать, переделать большой сценарий, снова послать его на конкурсную комиссию, начать работу над романом, заняться джоггингом, научиться не обращать внимания, перестать мечтать, адаптироваться, жениться, родить детей, защищать свою повседневную жизнь, жить ею, нести ее, как знамя, нет другой жизни, кроме повседневной…
– Алло? Привет.
– Привет.
– Слушай, так я взял эту профсоюзную свиную тушу.
– А лук взял?
– Да. Пятьдесят кило.
– Ну хорошо.
– Я сейчас все это отвезу домой, а ты тогда зайди в садик за детьми.
– Не могу, у меня заседание кадровой комиссии, а потом надо в банк, узнать насчет кредита.
– Ладно, тогда я за ними заскочу.
– И по дороге захвати от мамы белье.
– Какое белье?
– Я дала ей наше, чтобы она наше постирала в своей машине. А то я только сегодня дозвонилась до мастерской.
– Хорошо. Заеду по дороге.
– О. К. Пока.
– Пока.
Выхода нет. Нет другой жизни, кроме повседневной, это самая главная формула выживания. Среди жвачных и парнокопытных душно и воняет, но по крайней мере с ними тепло. В одиночестве – пустота. Перестать мечтать. Или хотя бы пересмотреть свои мечты…
Пипо встал с кресла и, не выпуская из рук бинокля Марка, прошелся по комнате. Чувствовал он себя плохо, ему казалось, что у него поднялась температура. Надеясь найти что-нибудь выпить, он направился на кухню. В холодильнике было пусто. В кладовке нашлась запыленная бутылка, в которой плавала мерзкая темно-зеленая трава, наверное какая-то лечебная настойка на спирту, мамина продукция. Он открыл бутылку, отпил немного настойки, его передернуло, и он в изнеможении опустился на стул, как будто из него ушли все силы. В кухне был ужасающий беспорядок. Еще вчера вечером здесь, напротив него, сидел Марк… Как он болтал, как выставлялся перед Марком! Пипо окатила волна стыда. Он глотнул из бутылки еще раз, приблизил к глазам бинокль, и ему вдруг померещилось, что он оказался в каком-то ином мире. Как в аквариуме. Он блуждал взглядом по стенам, кухонным шкафчикам, по посуде, предметам… С помощью бинокля обыденность маминой кухни приобрела какую-то грустную красоту. На столе стояла полупустая банка с повидлом. «Повидло из слив, 1983» – было написано маминой рукой на бумажке, приклеенной к банке. Пипо уставился на эту бумажку, он смотрел на нее долго, будто изучая иероглифы, осторожно, словно какой-то бесценный предмет вертел ее в руках. Ему казалось, что дата на банке была единственным ориентиром во времени, а сама банка – единственным сохранившимся после атомного взрыва доказательством существования человеческой жизни…
Выкурив третий joint, они захотели чего-нибудь сладкого, вытащили из маминой кладовки эту банку, лизали повидло, а потом давились от смеха, который невозможно было сдержать… К Пипо на мгновение вернулось чувство легкости, чувство того, что все – это все, что нет жестокого порядка вещей, что все существует одновременно. Он вспомнил, как все вещи и образы, став немного условными, словно в мультфильме, превращались и переливались друг в друга… Пипо вспомнил пьянящее чувство пестрого и теплого братства всех вещей, все было правильно и удивительно смешно… Но что было дальше, за пределами кухни, Пипо вспомнить никак не мог. Как он попал в кровать? Как и когда Марк вышел из дома? Как ни странно, дверь была заперта. И если уж он ушел, то неужели не мог оставить записку? Или хотя бы попросить портье из отеля передать Пипо пару слов – Пипо туда позвонил, как только проснулся.
Направившись обратно в комнату, Пипо захватил с собой банку с повидлом и настойку, а потом на кухонном столе неожиданно заметил кассету Talking Heads. И ее Марк забыл!.. Пипо, чуть не прослезившись, взял кассету и пошел в комнату. Вставил кассету в свой новый «Sanyo», включил, развалился в кресле и сделал еще глоток из бутылки, в которой плавала несимпатичная трава… И вдруг вместо ожидаемых Talking Heads он услышал с кассеты голос Марка. Пипо, что называется, отпал…
«Hi, Пипо! Ну что, чего ты отпал? Я включил кассетник, потому что не хочу тебя будить. Пока ты мирно храпишь, я сижу на кухне, лопаю повидло твоей мамы, ам… и записываюсь на твоих Talking Heads… Ты вчера просто вырубился после каких-то трех невинных joint. Понимаю. Ты не оболваненный. Но ты слишком много думаешь, baby, словно ты Достоевский… Ладно, не буду пердеть, не беспокойся, и вообще я спешу в отель за вещами, а потом на аэродром. Лечу в Амстердам. Побуду там несколько дней на конгрессе по европейской литературе, а потом рвану в N. Y. В холодильнике я оставил свой адрес. Знаю, ты туда полезешь, как только проснешься. На всякий случай, имей в виду, это я тиснул рукопись Здржазила. Что? Ты опять отпал? Тебя интересует как? Очень просто, я увел ее из номера француза. Откуда я знал, что это он? В прошлом году, на конгрессе Пен-клуба в Нью-Йорке… ладно, сейчас не будем об этом, это другая история. Короче говоря, этот тип, француз, совершенно не в себе. Просто доктор No. Литературный Lex Luthor, напичканный навязчивыми идеями. Богат, опасен, всемогущ, обозлен. Он из тех, кто дергает за веревочки. Хочешь спросить, как я вошел в его номер? Хе-хе… Это тоже другая история, забавная… Как-то раз мне для романа понадобился эпизод со взломом сейфа. Чтобы получилось достоверно, я взял несколько частных уроков у самого настоящего профессионала. Я имею в виду, конечно, налетчика, а не писателя. Оказалось, что у меня редкие способности. С тех пор развлекаю этим свою жену и ребятишек. Всегда попадаю в квартиру без ключей. Как Clark Kent-Superman. Вот теперь я действительно расперделся. Только зря трачу Talking Heads. Слушай, хочу тебе сказать еще одну вещь… Если со мной что-нибудь случится, у тебя есть мои кроссовки, моя футболка и мой бинокль. Для начала этого хватит. Привет маме. Ам! Повидло отличное. Ам! Эй, а как насчет того, чтобы и тебе махнуть в Амстердам?! Это было бы просто супер! Если соберешься, позвони по 233–456.
What's faster than a speeding bullet?
It's a bird, it's a plane, it's…
Давай отклеивайся! Взлети, наконец! Action, Пипо!»
Тут голос Марка пропал. Пипо прокрутил кассету еще раз, потом еще раз… Потом встал, пошел на кухню и заглянул в холодильник. Визитная карточка Марка торчала из коробки с яйцами… Пипо закрыл холодильник, оставив адрес Марка на том же месте, и вернулся в комнату. Сделал большой глоток из маминой бутылки и снова включил кассетник. Теперь послышались звуки Talking Heads. Пипо думал о Марке. Невероятный тип! Запутанный рассказ, похожий на головокружительный сценарий. Чокнутый француз крадет рукопись у чеха, который, несомненно, украл эту рукопись у самого себя. Потом Марк крадет украденную рукопись у француза. И к тому же еще предлагает ему, Пипо, махнуть в Амстердам!
Махни, Пипо! Легко ему говорить! Вот это именно то, о чем он ему говорил, – другие обороты, другие скорости, другой экран (как метафора жизни). А он, Пипо, должен сначала проверить, есть ли у него хоть какие-то деньги на счете, узнать, сколько стоит билет на самолет, занять денег у мамы («Вот тебе, бери, бездельник! Я тебя всю жизнь содержу, с тех пор как ты родился!»), потом написать два сценария вперед, позвонить в аэропорт и узнать, летают ли вообще самолеты на Амстердам. Может, и не летают. У нас никогда ни в чем нельзя быть уверенным. И потом, когда все будет позади, полгода расплачиваться за амстердамскую авантюру. Что, Пипо, baby? Пшик? А почему? Чем твой вариант сценария под названием «Свиная туша» более разумен и реален, чем суперменский вариант Марка? Ведь стоит только перевернуть окуляры, и свинина по профсоюзной линии покажется тебе такой же далекой и сюрреалистической, как планета Плутон. Пипо, action! Ты же этого хотел, разве нет? Может быть, только при этом варианте (махнуть в Амстердам, чтобы вернуть Марку бинокль) тебя впервые ждет то, чего у тебя никогда не было, а именно – завязка? Ну что ты застыл, как саламандра? Опять комплекс Гамлета? А может, этот комплекс (жизнь или смерть) культурологически закодирован, и стоит нажать куда надо, душевный пердеж снова активизируется. Давай, переверни окуляры. Напиши для себя сценарий получше, раз уж жизнь оказалась так бесталанна. Отклейся! Взлети, наконец! Action, Пипо!
Квартира Пипо. INT. Ночь.
Пипо задумавшись сидит в кресле и нервозно курит. Резко, словно на что-то решившись, он встает и подходит к окну. Долго рассматривает в темном стекле отражение своего лица. Затем возвращается, снова садится, делает глоток из бутылки, быстро поднимает телефонную трубку, набирает номер, а потом, как будто передумав, медленно опускает ее. Устало откидывает голову на подголовник кресла, кладет скрещенные ноги на стол. Крупным планом кроссовки. Затемнение.
TALKING HEADS.
And you may find yourself living in a shotgun shack.
And you may find yourself in another part of the world.
And you may find behind the wheel of a large automobile.
And you may find yourself in a beautiful house, with beautiful wife
And you may ask yourself: – Well… how did
I get here?