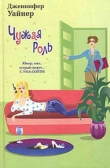Текст книги "Космополис"
Автор книги: Дон Делилло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Первая калитка была заперта. Эрик перелез через ограждение из острых железных прутьев не колеблясь. Вторая тоже оказалась на запоре. Он перелез и через сетку, вдвое выше него. Перевалился на другую сторону, а Торваль следовал за ним, от одной ограды к другой, ни слова не говоря.
Они зашли в дальний конец сквера и стали смотреть, как парнишки сражаются – играют в тени и сумраке.
– Играешь?
– Немного. Не очень моя игра, – сказал Торваль. – Регби. Вот это по мне. Вы?
– Немного. Мне нравилось, что происходит на трапеции. Теперь качаюсь.
– Вы, конечно, понимаете. Вас по-прежнему кто-то выслеживает.
– Там до сих пор кто-то есть.
– То был мелкий инцидент. Взбитые сливки. Технически незначителен.
– Понимаю. Осознаю. Конечно.
Они играли всерьез, эти детки, хлопали друг друга по рукам, громко били с отскока, хрипло кричали.
– В следующий раз никаких пирожных.
– Десерт уже подали.
– Он где-то там и вооружен.
– Он вооружен, и ты вооружен.
– Это правда.
– Тебе придется применить оружие.
– Это правда, – сказал Торваль.
– Дай посмотреть.
– Дать посмотреть. Ладно. Чего ж нет? Платили вы.
Двое пошмыгали носом, вялый гнусавый смешок.
Торваль вытащил оружие из-под полы пиджака и передал Эрику – симпатичный агрегат, серебристый и черный, ствол четыре с половиной дюйма, ореховые накладки.
– Изготовлен в Чешской Республике.
– Красивый.
– И умный. До жути умный.
– Распознавание голоса.
– Точно, – сказал Торваль.
– Ты что. Говоришь, и он твой голос понимает.
– Точно. Механизм не активируется, пока сонограмма не совпадет с заложенными данными. Совпадает только мой голос.
– А перед тем, как стрелять, нужно говорить по-чешски?
Торваль широко улыбнулся. Эрик впервые видел, как он улыбается. Свободной рукой достал из кармана рубашки очки и растряхнул дужки.
– Но голос – лишь часть процедуры, – сказал Торваль, после чего маняще умолк.
– Говоришь, еще и код имеется.
– Запрограммированный голосовой код.
Эрик надел очки.
– Что за код?
На сей раз Торваль улыбнулся конфиденциально, затем посмотрел в глаза Эрику, который уже направил пистолет.
– Нэнси Бабич.
Эрик выстрелил. В глазах Торваля вспыхнул белый ужас недоверия. Эрик выстрелил только раз, и человек упал. Из него вытекла вся властность. Он выглядел глупо и растерянно.
В двадцати ярдах от них баскетбольный мяч перестал подпрыгивать.
У него была масса, но не было потока. Это ясно – он лежал и умирал. Мяч упал на землю и медленно катился. Эрик махнул им – мол, играйте себе дальше. Ничего значительного не произошло, с чего им переставать.
Он швырнул пистолет в кусты и пошел к сетчатой ограде.
Не распахивались окна, не кричали встревоженные голоса. У пистолета не было глушителя, но прозвучал лишь один выстрел, а людям, наверное, нужно услышать три, четыре, а то и больше, чтобы проснуться или оторваться от телевизора. Обычная ночная мимолетность, вроде кошачьей свадьбы или автомобильного выхлопа. Даже если знаешь, что это не выхлоп, потому что это никогда не выхлоп, тебя не колет совесть – если только явная пальба не повторяется, если никто никуда не бежит. В густой возне квартала, если живешь так невысоко над улицей, где шум стоит все время, а твоя персональная городская аномия тоскливо идет вразнос – не станешь же реагировать на любой блям.
К тому же выстрел раздражал гораздо меньше, чем стук баскетбольного мяча. Если выстрел положил конец игре, будем благодарны за милости под светом луны.
Эрик неуловимо приостановился, подумав, что за пистолетом надо бы вернуться.
Его он швырнул в кусты, потому что хотел, чтобы случилось то, чему суждено случиться. Пистолеты – маленькие практичные вещи. Ему хотелось доверять власти предопределенных событий. Действие совершено, пистолет больше не нужен.
Он перелез сетку, порвав карман брюк.
Пистолет выбросил опрометчиво, но как же здорово это было. Нет человека – нет и пистолета. Теперь поздно передумывать.
Он свалился наземь и двинулся к железной ограде.
Ему не было интересно, кто такая Нэнси Бабич, и он вовсе не думал, что выбор кода Торвалем как-то очеловечивает его телохранителя или требует запоздалых сожалений. Торваль – его враг, угроза его себялюбию. Когда платишь человеку за то, чтобы он не давал тебе умереть, человек приобретает психическое превосходство над тобой. Такое самовыражение Эрика – функция достоверной угрозы и утраты компании и состояния. Кончина Торваля расчистила ночь для более глубокой конфронтации.
Он перемахнул железную ограду и пошел к машине. На углу играл на саксофоне кто-то из прошлого века.
Исповедь Бенно Левина
Утро
Теперь я живу в офлайне. Я весь оголен. Пишу это за железным столом, который заволок по тротуару и в дом. У меня есть велотренажер – одной ногой я кручу педаль, другой имитирую.
Я собираюсь совершить публичный акт всей своей жизни посредством этих страниц, которые напишу. Это будет духовная автобиография, которая достигнет тысячи страниц, и сердцевиной работы станет тот факт, что я его либо выслежу и пристрелю, либо нет, всё карандашом от руки.
Пока у меня была работа, я держал мелкие счета в пяти крупных банках. От названий крупных банков в уме захватывает дух, а отделения их есть по всему городу. Бывало, я ходил в разные банки или разные отделения одного банка. У меня бывало так, что я ходил из одного отделения в другое до самой ночи, перемещал деньги со счета на счет или просто проверял баланс. Вводил коды, изучал цифры. Машина ведет нас пошагово. Машина спрашивает: Так правильно? Она учит нас мыслить логическими блоками.
Я был непродолжительно женат на женщине-инвалиде с ребенком. Смотрел, бывало, на ее ребенка, который только-только ходить начал, и думал, что провалился в яму.
Тогда я преподавал и читал лекции. «Читал» – не то слово. В уме я скакал с предмета на предмет. Я не хочу писать такое, где отбарабаниваю биографию, родителей и образование. Я хочу подняться от слов на странице и что-нибудь сделать – кому-нибудь сделать больно. Это во мне есть, делать кому-нибудь больно, а я не всегда знал. Само действо и глубина писания мне подскажут, способен я на такое или нет.
Если честно, мне нужно ваше сочувствие. Скудную свою наличку я каждый день трачу на воду в бутылках. Это пить и мыться. Я устроил себе туалет, хожу в заведения, где торгуют навынос, а воды мне в здании без воды, отопления и электричества не хватает, если не обеспечу.
Мне трудно общаться с людьми непосредственно. Раньше я говорил правду. Но не лгать трудно. Я лгу людям, потому что это мой язык, это как я разговариваю. Это температура в голове того, кто я есть. Я не адресую свои замечания тому, с кем говорю, а пытаюсь промахнуться или смахиваю взглядом, так сказать, замечание у него с плеча.
Через некоторое время меня это стало удовлетворять. Никогда не было во мне этого – говорить со смыслом. Даже необязательная ложь – еще один способ создать личность. Это я сейчас вижу ясно. Никто бы не помог мне, кроме самого меня.
Я все время смотрел потоковое видео с его веб-сайта. Часами смотрел и, с хорошей точностью, днями. Что он говорил людям, как резко поворачивался в кресле. Он считал, что кресла по большей части глупы и унижают человеческое достоинство. Как он плавал, когда плавал, ел еду, играл перед камерой в карты. Как он тасовал колоду. Хоть я и работал в той же штаб-квартире, на улице я дожидался посмотреть, как он выходит из здания. Хотелось точно засечь его в уме. Важно было знать, где он – даже на единственный миг. От этого в моем мире наступал порядок.
Все равно это было не вранье. Не ложь – по большинству, просто отклонения от тела слушателя, от его или ее плеч, либо совсем промахи.
Говорить с человеком прямо было невыносимо. Однако на этих страницах я выпишу свой путь к правде. Верьте мне. Меня деноминировали до меньшей валюты. Я пишу, чтобы замедлить свой рассудок, но протечки случаются.
Теперь я храню деньги только в одном месте, ибо в финансовом отношении низведен до нуля. Это маленький банк, внутри всего одна машина, а одна снаружи, в стене. Я пользуюсь уличной, потому что в банк меня не пускает охранник.
Я мог бы сообщить ему, что у меня есть счет, и доказать это. Но банк – это мрамор, стекло и вооруженная охрана. И я это принимаю. Мог бы сказать, что мне нужно проверить Последние Операции, хотя их там и нет. Но я не прочь совершать свои трансакции снаружи, у машины в стене.
Каждый день мне стыдно, а на следующий день еще стыднее. Но остаток жизни я проведу в своем жилом пространстве, делая эти заметки, ведя этот дневник, записывая свои поступки и размышления, отыскивая здесь некую честь, некую ценность в основе всего. Я хочу десять тысяч страниц, от которых остановится мир.
Позвольте сказать. Я подвержен глобальным тяготам болезни. У меня случается «сусто» [26]26
Культуроспецифичное расстройство, распространенное среди испаноговорящего населения в Центральной и Южной Америке, начинается с переживания сильного страха, вслед за которым наступает потеря веса и аппетита, появляется бледность, усталость, вялость, неопрятность и сильная жажда.
[Закрыть]– это более-менее потеря души, пришло с Карибов, я им заразился через Интернет незадолго до того, как жена забрала ребенка и ушла от меня, ее снесли по лестнице братья, нелегальные иммигранты.
С одной стороны, это домыслы и миф. С другой – я этому заболеванию подвержен. В данную работу войдут описания моих симптомов.
Он всегда впереди, думает дальше всего нового, и у меня есть соблазн этим восхититься, вечно спорит с тем, что вы и я считаем великими и надежными дополнениями к нашей жизни. У него в руках все нетерпеливо изнашивается. В уме я его хорошо знаю. Он хочет на цивилизацию опережать ту, в которой мы.
Раньше я держал рулончик купюр в синей резинке со штампом «Калифорнийская спаржа». Эти деньги теперь вышли в оборот, передаются из руки в руки, без санации. У меня есть велотренажер – я нашел его как-то ночью, без одной педали.
Я дал секретное объявление: нужен подержанный пистолет, – и тайно и незаметно купил его, когда выходил онлайн и еще имел работу, но едва, зная, что близок день, он непредсказуем, его трудовые навыки отсыхают, что видно по их лицам, несмотря на весь юмор и пафос владения таким замысловатым оружием персоной вроде меня.
Я вижу презрительную иронию и ничтожество того, что иногда делаю. И мне это почти что может нравиться – на уровне беспомощности.
Моя жизнь больше не моя. Но я и не хотел такого. Я смотрел, как он завязывает галстук, и знал, кто он. В зеркале ванной у него был дисплей, сообщавший ему температуру тела и кровяное давление в данный момент, его рост, вес, частоту сердечных сокращений, пульс, необходимые медикаменты, всю историю болезни лишь по одному его лицу, а я был его человеческим сенсором – читал его мысли, познавая человека по его разуму.
Сообщает тебе рост на тот случай, если за ночь ты стоптался, что может произойти анаболически.
Сигареты не входят в характеристику того человека, которым вы считаете меня. Но я курильщик яростный. Мне очень нужно то, что мне нужно. Я не читаю ради удовольствия. Моюсь не часто, поскольку не по карману. Одежду покупаю в «Вэлью-Драгз». [27]27
Сеть аптек в Вестчестере, Манхэттене и на Лонг-Айленде, основана в 1971 г.
[Закрыть]В Америке так можно – одеваться с головы до пят в аптеке, я тихо этим восторгаюсь. Но каковы бы ни были разнообразные факты, я не так уж сильно отличаюсь от вас с вашей внутренней жизнью, в том смысле, что все мы неуправляемы.
Они снесли ее по лестнице в инвалидном кресле вместе с деткой. Я утратил ориентацию в голове. Может, вам доводилось видеть пики на лгущем полиграфе. Такова и у меня иногда волна мысли, если я думаю, как мне на это реагировать. Я оставил преподавание, чтобы сделать себе миллион. Тогда было правильное время и прилив [28]28
Отсылка к английской поговорке «Время и прилив никого не ждут», впервые записанной в 1225 г.
[Закрыть]для этого. Но затем я ощутил себя обделенным – сижу на рабочем месте, и все. Как будто меня туда вставили, личность без права выбора, хотя выбор там быть я сделал сам, а он не подходил ближе, чем на расстояние подслушивания.
Я двойственно отношусь к его убийству. От этого я стану вам менее интересен – или более?
Я не из тех, о кого вытирают ноги, на кого вы стараетесь не смотреть, когда проходите некими улицами. Я на них тоже не смотрю. Я сношу стены в своем жилом пространстве – это задача не на одну неделю, и я уже почти выполнил ее. Воду в бутылках я покупаю в мексиканской продуктовой лавке дальше по улице. Там два продавца или хозяин и продавец, и оба они говорят: «Не вопрос». Я говорю: «Спасибо. Не вопрос».
Маленьким, бывало, я лизал монеты. Рифление по ободу обыкновенной монетки. Называется «гурт». Я их до сих пор лижу иногда, но грязь, забивающаяся в гурт, меня беспокоит.
Но отнять у другого человека жизнь? Вот и видение нового дня. Наконец я решился действовать. Историю делает и все, что было прежде, меняет лишь насильственное действие. Но как вообразить такой миг? Не уверен, что способен дойти до точки даже ментального действия – два безликих человека в текучих разноцветных одеждах.
А как мне его найти для того, чтобы убить – не говоря уже о том, чтобы прицелиться и выстрелить? Вопрос поэтому чисто академический, этот компромисс.
Когда я плачу монетами, меня охватывают мелкие одержимости – неловко верчу в руках, обсчитываюсь.
Но как же мне жить, если он не мертв? Он может быть покойным папой. На это можно надеяться. У него можно взять сперму, потом пятнадцать месяцев ее морозить. А потом дело простое – оплодотворить его вдову или мамашу-доброволку. И в его форму и плоть врастет другое существо, а мне будет что ненавидеть, когда он повзрослеет и станет мужчиной.
Люди думают о том, кто они, в самый тихий час ночи. [29]29
«Самый тихий час» – 44-я глава книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» (1885), пер. Ю. М. Антоновского под редакцией К. А. Свасьяна.
[Закрыть]Я несу в себе эту мысль, детский секретик и ужас этой мысли, ощущаю эту огромность в своей душе всякую секунду своей жизни.
У меня есть железный стол, который я тащил три лестничных пролета наверх, с веревками и клиньями. У меня есть карандаши, которые я точу картофельным ножом.
Вот мертвые звезды, что сияют до сих пор, поскольку свет их попал в ловушку времени. Где стою я в этом свете, который, говоря строго, не существует?
4
Лимузин под фонарем поражал зрение – битый, как в комиксе, машина в квадратике с текстом от автора, она чувствует и говорит. Горели «оперные огоньки», [30]30
«Оперными» называются прямоугольные вытянутые светоиндикаторы, установленные снаружи между средней и задней стойками кузова у некоторых моделей американских автомобилей.
[Закрыть]по дюжине с каждого борта, четверками расположенные между окнами. Шофер стоял у задней дверцы, держал ее открытой. Сразу Эрик садиться не стал. Остановился и посмотрел на шофера. Никогда такого раньше не делал, и разглядел он мужчину не сразу.
Мужчина был худ и черен, среднего роста. Лицо продолговатое. Один глаз у него – левый – было трудно отыскать под сильно провисающим верхним веком. Виднелся только нижний обод радужки, но и он в углу перекрывался. Очевидно, человек с историей. В белке глаза – вечерние прожилки, будто кровавое солнце. У него в жизни всякое бывало.
Эрику понравилось, что человек с опустошенным глазом зарабатывает на жизнь тем, что водит машину. Его машину. Так даже лучше.
Он вспомнил, что ему нужно отлить. Отлил в машине, ссутулившись, и посмотрел, как писсуар сворачивается в свой чехол. Он не знал, что творится с отходами. Может, сливаются в бак где-то под днищем автомобиля или сбрасываются прямо на улицу в нарушение сотни уложений.
Горели противотуманные фары. Река всего в двух кварталах, влачит свою каждодневную инвентарную опись химикатов и случайного мусора, плавучих бытовых предметов, изредка попадается тело – с расколотым черепом или застреленное, – и все это прозаично призрачит к югу, к самому кончику острова и устью моря за ним.
Зажегся красный. Впереди по авеню почти не ехали, и Эрик сидел в машине и сознавал, как это любопытно – он согласен ждать не менее шофера лишь потому, что свет одного цвета, а не другого. Однако он не блюл условий общественного договора. Пребывал в терпении, только и всего, ну и, может, был задумчив, раз остался теперь смертельно одинок, ни одного телохранителя.
Машина пересекла Десятую авеню и проехала мимо первой продуктовой лавки, затем – мимо пустой стоянки грузовиков. Эрик увидел две машины, запаркованные на тротуаре, укутанные драным синим брезентом. Там была бродячая собака – какая-нибудь тощая серая псина всегда роется мордой в скомканных газетах. Мусорные баки здесь из мятого металла – отнюдь не облагороженные резиновые изделия на улицах к востоку, а кроме того мусор навален в открытые коробки и лежит разбросанный веером из перевернутой продуктовой тележки. Эрик ощущал, как нисходит тишина – отсутствие, не связанное с настроем улицы в этот час, и тут машина миновала вторую продуктовую лавку, и он увидел бастионы над рельсами, что бежали ниже уровня улицы, гаражи и авторемонтные мастерские, задраенные на ночь, стальные шторы размечены граффити на испанском и арабском.
На северной стороне улицы была парикмахерская – выходила на ряд старых кирпичных жилых домов. Машина остановилась, а Эрик сидел, думал. Сидел пять минут, шесть. Потом дверца скрипнула – на тротуаре стоял шофер и заглядывал внутрь.
– Мы здесь, – наконец сказал он.
Эрик встал на тротуаре, глядя на здания через дорогу. Посмотрел на средний дом в ряду из пяти и ощутил одинокую дрожь; четвертый этаж, окна темные, на пожарной лестнице никаких растений. Здание мрачно. То была мрачная улица, но раньше люди здесь жили шумной тесной компанией – в комнатках-пеналах, счастливые, как где угодно, подумал он, да и теперь живут, и теперь счастливы.
Здесь вырос его отец. Бывали времена, когда Эрика подмывало сюда приехать, пусть улица подышит на него. Ему хотелось почувствовать это, каждый горестный оттенок томления. Но не его это было томление, или желание, или память прошлого. Он для таких переживаний слишком молод, да и вообще не приспособлен, ни дом, ни улица никогда и не были его. Он чувствовал то, что чувствовал бы его отец, стоя на его месте.
Цирюльня была закрыта. Эрик знал, что в этот час так и будет. Он подошел к двери и увидел, что в глубине горит свет. Так и надо, каков бы ни был час. Постучал и подождал, и сквозь сумрак вышел старик – Энтони Абудато, в рабочем наряде: полосатая белая куртка с коротким рукавом, мешковатые штаны, кроссовки.
Эрик знал, что он скажет, не успел старик открыть дверь.
– А чего это не заходишь теперь, совсем чужой стал?
– Здравствуй, Энтони.
– Давно не виделись.
– Давно. Мне надо подстричься.
– Выглядишь, как что. Заходи, посмотрю хоть на тебя.
Он щелкнул выключателем и подождал, пока Эрик расположится в единственном оставшемся кресле. В линолеуме на месте второго зияла дыра, и было еще игрушечное кресло для детишек – до сих пор стояло, зеленая машинка с красным рулем.
– Никогда таких крысиных волосенок на человеке не видал.
– Сегодня утром проснулся и понял, что пора.
– Ты знал, куда прийти.
– Я сказал себе. Хочу подстричься.
Старик стянул солнечные очки с головы Эрика и положил на полку под зеркалом шириной во всю комнату, сначала проверив, не осталось ли на них отпечатков и пыли.
– Может, сначала поешь чего-нибудь.
– Мог бы что-нибудь и поесть.
– В холодильнике что-то из навынос, я поклевываю, когда охота.
Он зашел в заднюю комнату, и Эрик огляделся. Со стен облезала краска, обнажая пятна розовато-белой штукатурки, а потолок местами потрескался. Отец привел его сюда много лет назад – впервые, и тут, наверное, тогда было получше, хоть и ненамного.
Энтони стоял в дверях с белой картонкой в каждой руке.
– Так ты женился на этой.
– Ну да.
– Что денег у ее родни невесть. Никогда не думал, что ты так рано женишься. Но что я вообще понимаю? У меня нут толченый есть и баклажан, фаршированный рисом и орехами.
– Давай баклажан.
– Бери, – сказал Энтони, но не двинулся с места, остался в дверях. – Он быстро погас, как только нашли. Только диагностировали – тут же сгорел. Сегодня еще со мной разговаривал, а завтра его уже и нет. Я так это и помню. У меня еще баклажан есть, там лимон с чесноком намешаны, если хочешь вместо попробовать. Диагноз-то ему в январе поставили. Как нашли, так и сказали. А матери твоей он говорить не стал, пока не припекло. К марту его уже не стало. А я помню – день-два прошло. Два дня от силы.
Эрик уже не раз это слышал, и старик почти всегда излагал теми же словами, с вариациями на злобу дня. Этого от Энтони ему и требовалось. Тех же слов. Календаря нефтяной компании на стене. Зеркала, которое давно пора посеребрить.
– Тебе четыре годика было.
– Пять.
– Ну да. Мозгами-то у вас матушка была. Ты в нее такой башковитый. У матери твоей была мудрость. Он сам так говорил.
– А ты. Ты-то как, ничего?
– Ты ж меня знаешь, парнишка. Мог бы сказать, что не жалуюсь. Но определенно мог бы и пожаловаться. А не хочу.
Он сунулся в комнату – одним торсом, старой щетинистой головой и бледными глазами.
– Потому что времени нету, – сказал он.
Немного погодя он прошаркал к полке перед Эриком и поставил картонки, а из нагрудного кармана достал две пластмассовые ложки.
– Дай-ка подумаю, чего же нам тут выпить. Есть вода из-под крана. Я теперь пью воду. И есть бутылка ликера, который стоит тут столько, что не спрашивай.
Он остерегался слова «ликер», еще как остерегался. Все слова, что он говорил, он говорил всегда и всегда будет говорить, кроме вот этого одного слова, от которого нервничал.
– Я мог бы тяпнуть.
– Хорошо. Потому как если б сюда зашел самолично твой папаша, и я б ему предложил воду из-под крана, боже упаси, он бы мне последнее кресло с мясом выдрал.
– И может, мы шофера моего пригласим. У меня шофер в машине.
– Можно ему второй баклажан дать.
– Хорошо. Это будет славно. Спасибо, Энтони.
Они почти доели, сидя и беседуя, Эрик и шофер, а Энтони стоял и беседовал. Он нашел ложку шоферу, и эти двое пили воду из разрозненных кружек.
Шофера звали Ибрагим Хамаду, и выяснилось, что они с Энтони оба некогда водили по Нью-Йорку такси, только в очень разные годы.
Эрик сидел в парикмахерском кресле и наблюдал за шофером, который не снял пиджак и не ослабил галстук. Он устроился на складном стуле спиной к зеркалу и степенно черпал ложкой еду.
– Я шашечки водил. Большие, тряские, – рассказывал Энтони. – По ночам калымил. Молодой был. Что мне сделают?
– По ночам не очень хорошо, если у тебя жена с ребенком. А кроме того, я вам так скажу – днем и без того дурдом на улицах.
– Я свою тачку любил. По двенадцать часов баранку вертел без передышки. Останавливался только отлить.
– Мужика однажды другое такси сбило. И он влетает ко мне, – рассказывал Ибрагим. – Буквально по воздуху влетает. Хрясть в ветровое стекло. Прямо мне в рожу. Кровищи везде.
– Я из гаража ни разу не выезжал без «Виндекса», – сказал Энтони.
– Ну а я в прежней жизни был и. о. министра иностранных дел. Я ему говорю: «Слезай оттуда. Я ехать не могу, ты мне весь обзор загородил».
Эрик никак не мог отвести взгляда от левой стороны его лица. Провалившийся глаз Ибрагима прямо-таки по-детски завораживал его, даже не стыдно пялиться. Глаз вывернут прочь от носа, а бровь прочерчена прямо и приподнята. Веко пересекал вздутый рубец. Но даже если оно закрывалось полностью, глазное яблоко остаточно шевелилось – там кипели белок и кровяные крапинки. Глаз жил какой-то своей жизнью, у него был собственный норов, отчего хозяин его казался расколот надвое, будто в нем жило тревожное иное я.
– Обедал прямо за баранкой, – говорил Энтони, взмахивая картонкой. – Бутерброды в фольге.
– Я тоже за рулем. Останавливаться на обед мне было не по карману.
– А где ты отливал, Ибрагим? Я под Манхэттенским мостом.
– Так и я точно там же.
– В скверах и переулках отливал. Однажды на кладбище домашних животных.
– По ночам в каком-то смысле лучше, – говорил Ибрагим. – Я в этом уверен.
Эрик слушал их будто издалека – его клонило в сон. Ликер он пил из поцарапанной стопки. Доев, положил ложку в картонку, а ту аккуратно поставил на ручку кресла. У кресел есть ручки и ножки, которые следует называть как-то иначе. Эрик откинул голову и прикрыл глаза.
– Я тут сколько бывал, – говорил Энтони. – Часа четыре в день, помогал отцу волосы стричь. А по ночам калымил. Я тачку свою любил. У меня там и свой вентилятор стоял от батарейки, потому что какие в те дни и в том веке кондиционеры, и думать забудь. И кружка с магнитом была, я ее к доске цеплял.
– А у меня руль был обит, – говорил Ибрагим. – Очень красивая обивка, под зебру. А на козырьке – дочка, снимок ее.
Со временем голоса слились в единственный гласный – в него он и сбежит, через этот хриплый коридор прочь из долгого морока бессонницы, что окутывал столько ночей. Эрик начал гаснуть, отключаться, а где-то во тьме дрожал вопрос.
Что проще, чем уснуть?
Сначала он услышал, как кто-то жует. Тут же понял, где он. Потом открыл глаза и увидел себя в зеркале, а вокруг громоздится комната. Задержался взглядом на отражении. Там, где в глаз попало коркой пирожного, он заплывал синяком. На лбу ссадина от камеры набухала тутовым струпом. Он рассмотрел пенящуюся шапку волос, вздыбленных и перепутанных, в некотором смысле внушительную, и сам себе кивнул, обозревая всё, полностью лицо, вспоминая, кто он.
Парикмахер и шофер ели один десерт на двоих – выпечку из тонких коржей, уснащенную медом и орехами, у каждого в ладони по квадрату.
Энтони смотрел на него, но разговаривал с Ибрагимом – или с ними обоими, говорил стенам и креслам.
– Этого парня я впервые подстриг. В машинке никак сидеть не хотел. Папаша его туда пытался впихнуть. А он: «Нет-нет-нет-нет». Поэтому я его посадил туда, где он сейчас сидит. И папаша его прижал, – говорил Энтони. – И отца его стриг, когда он был мальчишкой. А потом и его стриг вот.
Он разговаривал сам с собой – с тем человеком, которым был когда-то, в руке ножницы, обкорнал миллион голов. А поглядывал на Эрика, который знал, что будет дальше, и ждал.
– Его папаша рос с четырьмя братьями и сестрами. Прямо тут через дорогу и жили. Пятеро детишек, мама, папа, дедуля – все в одной квартире. Ты послушай только.
Эрик слушал.
– Восемь человек, четыре комнаты, два окна, один клозет. Я голос папаши его до сих пор слышу. Четыре комнаты, две с окнами. – Вот такое он любил подчеркивать.
Эрик сидел в кресле, и ему полуснились сцены и колышущиеся лица из отцовского сознания, те, что левитировали в его сне, или краткой грезе, или окончательном морфиевом успокоении, и в них появлялась и исчезала кухня, эмалированная столешница, пятна на обоях.
– Две с окнами, – говорил Энтони.
Он чуть не спросил, сколько проспал. Но ведь люди всегда спрашивают, сколько проспали. А он рассказал им о достоверной угрозе. Доверился им. Хорошо было кому-нибудь поверить. Как-то правильно этот вопрос прояснить в этом конкретном месте, где в воздухе висит прожитое время, пропитывая собой осязаемые объекты и человеческие лица. Здесь ему было безопасно.
Ясно, что Ибрагиму не сообщали. Тот спросил:
– Но где же в этой ситуации начальник службы безопасности?
– Я дал ему отгул на остаток ночи.
Энтони стоял у кассы, жевал.
– Но у тебя же в машине есть защита?
– Защита.
– Защита. Ты не знаешь, что это?
– У меня был пистолет, но я его выбросил.
Ибрагим сказал:
– Но почему?
– Не предусмотрел. Не хотелось строить планы или принимать меры предосторожности.
– Знаешь, на что это похоже? – сказал Энтони. – На что похоже, знаешь? Я-то думал, у тебя репутация. Уничтожать человека в мгновение ока. Но ты, мне кажется, какой-то сомнительный. И это сынок Майка Пэкера? У него был пистолет, но он его выбросил? Это что такое?
– Что это такое? – сказал Ибрагим.
– В этом районе города? И без пистолета?
– Такие меры принимаешь, чтобы оберечься.
– В таких районах? – сказал Энтони.
– Тут и пяти метров потемну не пройдешь. Не будешь осторожен – пришьют в два счета.
Ибрагим смотрел на него. Ровно, издалека, без точки соприкосновения.
– А попробуешь взывать к голосу их разума, займет чуть дольше. Сначала выпотрошат.
Он смотрел прямо сквозь Эрика. Голос звучал мягко. Шофер вообще был мягким человеком в костюме с галстуком, сидел с пирожным в вытянутой руке, а реплики явно целили в Эрика лично, он уже не про этот город говорил, не про эти улицы, не про обсуждаемые обстоятельства.
– Что у тебя с глазом случилось? – сказал Энтони. – Чего это его так вывернуло?
– Я им вижу. Машину водить могу. Экзамены сдал.
– Потому что у меня оба брата были тренерами у бойцов много лет назад. Но такого я ни разу не видел.
Ибрагим отвернулся. Не станет он поддаваться приливу чувств и воспоминаний. Может, предан своему прошлому. Одно дело обговаривать свой опыт, брать его для справки и как аналогию. Но описывать саму жуть в подробностях чужим людям, чтоб они покивали и забыли, – это ему должно казаться предательством собственной боли.
– Тебя били и пытали, – сказал Эрик. – Военный переворот. Или тайная полиция. Или думали, что тебя казнили. Выстрелили тебе в лицо. Бросили подыхать. Или повстанцы. Захватили столицу. Мели всех госслужащих без разбору. Без разбору били прикладами в лицо.
Он говорил тихо. Лицо Ибрагима чуть заблестело от пота. Выглядел он настороже, наготове – такому научился в каких-нибудь песках еще за семьсот лет до своего рождения.
Энтони откусил пирожное. Они слушали, как цирюльник жует и говорит:
– Я любил свою тачку. Еду глотал, не жуя. По двенадцать часов кряду вертел баранку, одну ночь за другой. Отпуск? И думать забудь.
Он стоял у кассы. Потом вытянул руку и открыл ящик под стойкой, вытащил полотенца для рук.
– А что у меня для зашиты?
Эрик его уже видел – на дне ящика лежал старый рябой револьвер.
Они с ним разговаривали. Скалили зубы и ели. Навязывали ему револьвер. Эрик не был убежден, что это имеет смысл. Боялся, что ночь закончилась. Угрозе следовало материализоваться вскоре после того, как рухнул Торваль, но она не проявилась – с того момента и поныне, и Эрик стал думать, что не возникнет уже никогда. Унылейшая перспектива из возможных: там попросту никого нет. Он остался болтаться в подвешенном состоянии, все суетное и весомое размылось в прах за спиной, а впереди – никакой кульминации.
Осталось только подстричься.
Энтони взметнул полосатую накидку. Побрызгал Эрику на голову водой. Теперь разговаривать стало легко. Он долил в стопку самбуки. Затем пощелкал ножницами в воздухе, для примерки, в дюйме от Эрикова уха. Беседа – как водится в парикмахерской, аренда дорожает, в тоннелях пробки. Эрик держал стопку на уровне подбородка, прижав локоть к боку, осмотрительно потягивая ликер.
А через некоторое время сбросил накидку. Сидеть здесь он больше не мог. Вскочил из кресла, залпом опрокинул стопку, будто виски.
Энтони вдруг стал очень маленьким – расческа в одной руке, ножницы в другой.
– Это чего вдруг?
– Нужно уйти. Не знаю, чего вдруг. Вот так и вдруг.
– Так дай я хотя бы правую сторону достригу. Чтоб ровно было.
Для Энтони это что-то значило. Ясно же – чтоб с обеих сторон было одинаково.
– Я вернусь. Честное слово. Сяду, и ты закончишь.
А шофер вот понял. Ибрагим подошел к стойке и вытащил револьвер. После чего протянул его рукояткой Эрику – на тыльной стороне руки вспыхнула вена.