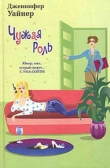Текст книги "Космополис"
Автор книги: Дон Делилло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
– В такие дни. Он щелкает пальцами, и вспыхивает пламя. Всякая восприимчивость, все его настройки. Готово случиться такое, что обычно не происходит. Она знает, о чем он, им даже не нужно соприкасаться. То же, что происходит с ним, происходит и с ней. Ей не нужно заползать под стол и сосать ему член. Слишком это банально, ни ее, ни его не интересует. Поток меж ними слишком силен. Эмоциональный тон. Пусть предъявит себя. Он видит ее в этой грязи, и тазовые мышцы у него начинают трепетать. Он говорит: «Вели мне прекратить, и я остановлюсь». Но не хочет, чтобы она отвечала. Нет времени. Хвостики его сперматозоидов уже хлещут в нетерпении. Она его любимая, и возлюбленная, и шлюха бессмертная. Ему не нужно творить то невыразимое, что он хочет сотворить. Ему нужно это лишь выговорить. Потому что они уже вышли за рамки любых моделей принятого поведения. Ему нужно лишь сказать слова.
– Скажите слова.
– Я хочу выебать тебя бутылкой – медленно и не снимая темных очков.
Ноги вылетели из-под нее. Она испустила нечто – звук, себя, душу свою быстрой восходящей модуляцией.
Он увидел свое лицо на экране – глаза закрыты, рот в рамке беззвучного обезьяньего воя.
Он знал, что скрытая камера работает в реальном времени, ну или должна. Как он может себя видеть, если у него закрыты глаза? Времени на анализ не было. Он ощутил, как его тело догнало независимое изображение.
Мужчина и женщина достигли завершенности более-менее вместе – не касаясь ни друг друга, ни себя.
Коллега содрал перчатку с руки и шлепнул ею в мусорную корзину, треск и шмяк, исполненные темного смысла.
По всей улице гудели клаксоны. Эрик начал одеваться, дожидаясь, чтобы Инграм употребил слово «асимметрично». Но тот ничего не сказал. Его настоящий врач, Невиус, однажды использовал это слово при пальпировании, ничего не объясняя. Эрик виделся с Невиусом чуть ли не каждый день, но никогда не спрашивал, что подразумевается под этим словом.
Ему нравилось прослеживать ответы на трудные вопросы. Таков его метод для достижения власти над идеями и людьми. Однако в идее асимметричности что-то не то. Она интригует в мире вне пределов тела, противодействует равновесию и спокойствию, эдакий загадочный подвыверт, субатомный, от которого и пошло творение. Само слово змеевидное, чуть сбито на сторону, одна дополнительная буква все меняет. Но стоило ему извлечь это слово из его космологического реестра и применить к телу млекопитающего мужского пола, к своему телу, как он побледнел и перепугался. К этому слову он ощущал некое извращенное почтение. Страх его, дистанцию от. Когда он слышал это слово в контексте мочи и спермы, и когда думал об этом слове в тени обоссанных брюк – раз, и отчаянии вялого члена – два, пугался он до суеверного молчания.
Он снял солнечные очки и присмотрелся к Инграму. Попробовал прочесть по лицу. Там не было никакого аффекта. Он подумал было надеть темные очки на коллегу, чтобы тот стал реальным, чтобы при сканировании восприятием других в нем появился смысл, но очки тут должны быть прозрачными, с толстыми стеклами, жизнеопределяющими. Если б знал его лет десять, может, и заметил бы за столько времени, что он не носит очков. То было лицо, потерянное без них.
Заговорил не Инграм. А Джейн Мелмен, задержавшись у распахнутой двери перед тем, как возобновить свою прерванную пробежку.
– Я хочу сказать одну глубоко несложную вещь. Есть время выбрать. Можете расслабиться, смириться с потерями и вернуться с новыми силами. Еще не поздно. Этот выбор вы можете сделать. Вы отлично работали на наших инвесторов как на крепких, так и на шатких рынках. Большинство управляющих активами недооценивает рынок. Вы же его переоценивали, последовательно, и настроения толпы на вас никогда не влияли. Таково одно из ваших дарований.
Он не слушал. Он смотрел мимо нее на фигуру у банкомата возле израильского банка на северо-восточном углу: щуплый человечек что-то бормотал, стиснув зубы.
– Мы получаем выгоду, мы процветаем, хотя прочие фонды споткнулись, – говорила она. – Да, иена упадет. Мне не кажется, что она сумеет подняться еще выше. А вам тем временем следует отступить. Отвести войска. В этом деле я вам советую не только как начальник вашей финансовой службы, но и как женщина, которая до сих пор была бы замужем за кем-нибудь, если бы этот кто-нибудь смотрел на нее так, как вы сегодня смотрели на меня.
Теперь он на нее не смотрел. Она захлопнула дверцу и побежала на север по Пятой авеню, мимо затрапезного мужчинки у банкомата. Что-то в нем знакомое. Не полевая куртка хаки, не прическа будто из шредера. Может, сутулость. Но Эрику не было дела, знакомились они когда-то или нет. Знаком он когда-то бывал со многими. Кто-то умер, кто-то в вынужденной отставке, сидят себе тихонько на горшках или бродят по лесам с трехногими собачками.
Он думал об автоматических кассовых машинах. Термин устарел, он отягощен собственной исторической памятью. Сам себе противоречит, не способен избежать вмешательства бестолкового человеческого персонала и тряских движущихся деталей. Сам термин включен в тот процесс, который устройство призвано собой заменить. Он антифутуристичен, так громоздок и механистичен, что даже его общеупотребимое сокращение кажется устаревшим.
Инграм сложил смотровой стол в стойку. Упаковал все в ранец и вышел из машины, кратко глянув на Эрика через плечо. Остановился в неподвижности всего в паре шагов, однако уже затерявшись в толпе, позабывшись, еще не договорив, с широко распахнутыми глазами и нарочитым безразличием в голосе.
– У вас асимметричная простата, – сказал он.
Исповедь Бенно Левина
Ночь
Он умер, дословно. Я его перевернул и посмотрел. Глаза его были милосердно закрыты. Но милосердие тут при чем? В горле у него что-то екнуло – этот звук я пытался бы описать не одну неделю. Но как из звуков сделать слова? Это две раздельные системы, которые мы жалко пытаемся связать воедино.
Похоже на то, что сказал бы он. Должно быть, я снова произношу его слова. Поскольку уверен, что некогда он это сказал, проходя мимо моего рабочего места, – тому сказал, с кем шел, про то-то и то-то. Про изображения и зеркала. Или же любовь и секс. Это две раздельные системы, которые мы жалко пытаемся связать воедино.
Позвольте, я скажу за себя. У меня были работа и семья. Я старался любить и обеспечивать. Скольким из вас известна истинная и горькая сила слова «обеспечивать»? Всегда говорили, что я непредсказуем. Это он непредсказуем. У него проблемы с характером и гигиеной. Ходит он, что ни говори, смешно. Я ни разу не слышал ни единого из этих утверждений, но знал, что их высказывают, как чуешь что-нибудь во взгляде человека, а говорить при этом вовсе не обязательно.
Однажды я пригрозил по телефону, сам не веря в свою угрозу. А они сочли ее серьезной – как и должны были, я убежден, учитывая, сколько я знаю про фирму и ее работников. Но я не знал, как его выследить. Он перемещался по городу бессистемно. У него вооруженный эскорт. Здание, где он живет, недоступно для меня с моим нынешним рандомизированным облачением. И я это принял. Даже в фирме нелегко было найти его кабинет. Вечно менялся. Или же он его покидал – работал где-то в другом месте, или там, где оказывался, или дома в пристройке, поскольку на самом деле не отделял жизнь от работы, или ездил путешествовать и думать, или просто сидел и читал в своем, по слухам, доме у озера в горах.
Мои навязчивые идеи – они все в уме, в действие не приводятся.
Теперь же я в том положении, когда могу беседовать с его трупом. Говорить можно, не прерываясь, не поправляясь. Он не может мне сказать, что дело в том-то и том-то, или что я позорюсь, или сам себя обманываю. Не мыслю ясно. Именно это преступление он поместил в зал славы ужасов.
Пытаясь подавить гнев, я страдаю от приступов «хва-бьюнга» (Корея). [12]12
Досл. «болезнь огненного раздражения» – корейское культуроспецифичное расстройство, соматическое душевное заболевание, характеризующееся эпигастральными симптомами и страхом надвигающейся смерти.
[Закрыть]Это преимущественно культурная паника, я ею заразился через Интернет.
Я был старшим преподавателем по прикладным вычислительным системам. Может, уже говорил – в местном колледже. А потом уехал, чтобы заработать свой миллион.
Карандаш, которым я пишу, желт, с цифрой 2. Хочу особо отметить инструменты, которыми пользуюсь, просто для протокола.
Я всегда осознавал, чт о говорят словами или взглядами. Реальностью становится то, что люди, по их мнению, видят в другом человеке. Если считают, будто человек ходит кривобоко, то он ходит кривобоко, нескоординированно, ибо такова его роль в жизнях вокруг, а если говорят, что на нем одежда плохо сидит, он научится не следить за своим гардеробом для того, чтобы над ними посмеяться, а себя наказать.
Я постоянно произношу в уме речи. Вы – тоже, только не всегда. Я это делаю постоянно, долгие речи к тому, кого никак не могу опознать. Но начинаю думать, что это он.
У меня есть бумага – стандартный формат, в голубую линеечку. Я хочу написать десять тысяч страниц. Но уже вижу, что повторяюсь. Я повторяюсь.
Перевернув его, я обшарил карманы, но ничего не нашел. Один карман у него порвался. На голове у него лиловая рана, с коркой, не то чтобы меня интересовало описание. Меня интересуют деньги. Я искал денег. С одной стороны его подстригли, а с другой нет, и он лежал в ботинках, но без носков. От тела воняло.
Электричество я краду у фонарного столба. Сомневаюсь, что это пришло бы ему в голову, – для моего жизненного пространства.
Реверсирований я переживал много, но я не из тех урезанных личностей, которых можно видеть на улицах, что живут и мыслят минутами. В философском смысле я живу на краю земли. Вещи собираю, это правда, с местных тротуаров. Из того, что люди выбрасывают, можно выстроить нацию. Иногда слышу свой голос, когда говорю. Я говорю с кем-то и слышу, как звук моего голоса, в третьем лице, наполняет воздух вокруг моей головы.
Когда здание обрекли на снос, Город забил окна. Но я отодрал доску, чтобы проветривалось. Нереальной жизнью я не живу. Я живу практичной жизнью – начинаю все сызнова, мои ценности среднего класса остались нетронуты. Я сношу стены, потому что не хочу жить в наборе двориков, где жили другие, с дверями и узенькими коридорами, целыми семьями с их туго упакованной жизнью, столько-то шагов до кровати, столько-то до двери. Я хочу жить открытой жизнью разума, где может процветать моя Исповедь.
Но бывают времена, когда мне хочется тереться о дверь или стену – ради сочувственного контакта.
Мне хотелось его карманных денег в силу их личных свойств, а нисколько не в силу ценности. Я желал их близости и касания, его касания, пятна его личной грязи на них. Мне хотелось натереть лицо его купюрами, чтобы напомнить себе, зачем я его застрелил.
Некоторое время я не мог отвести глаз от тела. Заглянул в рот – не гниет ли уже. Вот тогда-то и услышал звук из горла. Я совсем уже рассчитывал, что он со мной заговорит. Я бы не прочь был с ним еще побеседовать. После всего, что мы наговорили друг другу за долгую ночь, я понимаю – мне есть что еще сказать. У меня в уме шевелятся великие темы. Темы одиночества и слива людей. А еще – кого мне ненавидеть, когда больше никого не осталось.
Комплекс – разведслужба фирмы. Вот куда я позвонил со своей преимущественно пустой угрозой. Я знал, они истолкуют мои замечания как особые знания бывшего сотрудника, быстро соберут на таковых данные. Меня это удовлетворяло – сообщать им их же имена, даже фамилию чьей-то матери в девичестве, блистательный и красноречивый выпад, описывать процедуры и режимы. Теперь я проник им в головы, у нас контакт. Не нужно нести бремя одному.
У меня есть письменный стол, я затащил его с улицы, по переулку и вверх по лестнице. Предприятие на несколько дней – с целой системой клиньев и веревок. На это у меня ушло два дня.
Я никогда не ощущал различия во времени между ребенком и мужчиной, мальчиком и мужем. Сознательно я никогда не был ребенком – в том смысле, в каком обычно употребляют это название. Я себя ощущаю тем же, чем был всегда.
Раньше, после того как меня уволили, я писал ему письма, а потом перестал – жалкое занятие. А кроме того, я знал, что в моей жизни что-то должно быть жалким, но все же вынудил себя прервать контакт. Тот факт, что он этих писем все равно бы никогда не увидел, ничего не менял. Их видел я. Все дело в том, чтобы писать их и самому читать. Поэтому прикиньте, как я удивился, когда мне не пришлось его выслеживать и домогаться, для чего я был не оснащен, да и вообще меня обуревали противовесные силы касаемо того, умирает он или нет.
И что бы я им ни сказал по телефону и как быстро ни собрали бы они данные – как им бы удалось выследить меня до моего нынешнего места и образа обитания?
У меня нет часов, ни наручных, ни иных. Я теперь мыслю о времени в иных цельностях. Отрезок времени, отпущенный лично мне, противопоставлен огромным исчислениям, времени Земли, звезд, невнятным световым годам, возрасту Вселенной и т. д.
Мир должен означать нечто самодостаточное. Только ничего самодостаточного не бывает. Все проникает во что-то еще. Мои маленькие дни выливаются в световые годы. Именно поэтому я могу лишь притворяться кем-то. И поэтому я вначале ощутил себя вторичным, пока работал над этими страницами. Не понимал, я ли это пишу или же тот, на кого я желал походить голосом.
У меня по-прежнему остался банк, который я систематически навещаю – посмотреть на буквальные доллары, еще лежащие на моем счете. Делаю я это ради текущей психологии такого действия: знать, что в некоем заведении у меня имеются деньги. А также поскольку у автоматических кассиров есть харизма, которая на меня по-прежнему действует.
Я пишу этот дневник, а в десяти шагах от меня лежит мертвый человек. Так, любопытно. В двенадцати шагах. Говорили, что у меня проблемы с нормальностью, и меня деноминировали до меньшей валюты. Я стал мелким техническим элементом фирмы, техническим фактом. Я для них был безликой рабсилой. И принял это. Они выставили меня без предупреждения, без выходного пособия. И это я тоже принял.
Один мой синдром – возбужденное поведение и крайнее замешательство. В переводе он известен на Гаити и в Восточной Африке как «вспышки бреда». В сегодняшнем мире все общее. Каким же страданием нельзя поделиться?
Я всегда читал не ради удовольствия, даже ребенком. Я никогда не читал ради удовольствия. Понимайте как хотите. Я слишком много думаю о себе. Изучаю себя. Меня от этого тошнит. Но для меня тут больше нет ничего. Я только это и есмь. Мое так называемое эго – маленькая загогулина, которая, быть может, и не отличается от вашей, но в то же время я с уверенностью могу сказать, что оно активно, бурлит собственной важностью и все время терпит грандиозные поражения и одерживает грандиозные победы. У меня есть велотренажер с оторванной педалью, который кто-то вынес на улицу как-то ночью.
А кроме того, под рукой у меня сигареты. Мне хочется чувствовать себя писателем и его сигаретой. Только они кончились, нету больше, в пачке на донышке только крошки, которые я уже напрочь слизнул, и меня подмывает нюхать дыхание мертвого человека – что там у него за вкус, какую сигару он выкурил неделю назад в Лондоне.
Весь день все больше убеждался, что не могу этого сделать. Потом сделал. Вспомнить бы теперь, зачем.
Я думал, что истрачу все эти годы, сколько бы их там ни ушло на сочинение десяти тысяч страниц, и тогда у вас был бы документ, литература о жизни пробужденной и спящей, поскольку и сны, и крохотные уколы памяти, и все эти достойные сожаления привычки и секретики, и все, что вокруг меня, тогда бы сюда вошло, шумы на улице, но я впервые осознаю – вот сейчас, в эту минуту, что даже все мышление и писание на свете не опишут того, что ощутил я в тот кошмарный миг, когда выстрелил и увидел, как он упал. Так что же осталось, о чем стоит рассказывать?
2
Машина пересекла авеню в Вест-Сайд – и тут же пришлось сбросить скорость, заехали на переход не на тот свет, обтекают волны пешеходов.
Голос Торваля известил о прорыве водопровода где-то впереди.
Эрик видел его помощников по безопасности, по одному с каждой стороны лимузина – они шли размеренным шагом, оба в идентичных костюмах: темные блейзеры, серые брюки и водолазки.
Один экран показывал столб ржавой слякоти – он бил из дыры в мостовой. Эрику стало от него хорошо. Другие экраны показывали, как движутся деньги. Горизонтально текли цифры, вверх и вниз качались гистограммы. Он знал: там есть такое, чего никто не засек, паттерн, скрытый в самой природе, скачок графического языка, вышедший за пределы стандартных моделей технического анализа и обманувший предсказания даже тех сокровенных графиков, что чертят его собственные последователи в этой области. Должен быть какой-то способ объяснить иену.
Хотелось есть, он почти изголодался. Бывали дни, когда он все время хотел есть, разговаривать с людскими лицами, обитать в мясном пространстве. Он перестал смотреть на компьютерные экраны и повернулся к улице. Въехали в «алмазный район», [13]13
«Алмазным районом» называют квартал Западной 47-й улицы между Пятой и Шестой авеню на Манхэттене, центр мировой торговли алмазами, в который к середине XX в. переехали торговцы драгоценностями из двух ранее существовавших районов (между Кэнал-стрит и Бауэри, существовавшего с начала 1920-х гг., и Финансового, существовавшего с начала 1930-х). Это переселение началось в 1941 г.
[Закрыть]и Эрик опустил окно – снаружи билась живая коммерция. Почти каждый магазин держал в витрине драгоценности, и покупатели обследовали обе стороны улицы – проскальзывали между банковскими броневиками и фургонами частных охранных агентств, чтобы поглазеть на тонкой работы швейцарские часы или поесть в кошерной закусочной.
Машина двигалась ползком, по дюйму.
Хасиды в сюртуках и высоких фетровых шляпах беседовали, стоя в дверных проемах, мужчины в очках без оправ, с грубыми белыми бородами, уличная тряска их не касалась. За этими стенами туда-сюда перемещались сотни миллионов долларов в день – настолько устаревшая форма денег, что Эрик даже не знал, как о ней и думать. Твердая, блестящая, многогранная. Все, что он оставил позади либо никогда и не встречал: граненое, шлифованное, насыщенно трехмерное. Люди это носят и сверкают этим. Снимают, ложась спать или занимаясь сексом, надевают позаниматься сексом или умереть. Носят это мертвыми и похороненными.
Хасиды ходили по улице, те, что помладше, – в темных костюмах и внушительных Федорах, лица бледные и пустые, эти люди, решил он, видят друг друга, лишь исчезая в магазины или ныряя в подземку. Он знал, что торговцы и гранильщики сидят в задних комнатах; интересно, сделки до сих пор заключаются в дверях, скрепляются рукопожатием и благословением на идиш? В текстуре улицы он ощущал Нижний Ист-Сайд 1920-х и алмазные центры Европы перед Второй мировой – Амстердам и Антверпен. Какую-то историю он знал. Он увидел женщину – она сидела на тротуаре, просила милостыню, на руках младенец. Говорила на языке, которого он не признал. Языки он тоже знал, но не этот. Казалось, она вросла в участок бетона. Может, и ребенок у нее тут же родился, под знаком «Парковка запрещена». Фургоны «ФедЭкса» и «Ю-пи-эс». Черные носили рекламные щиты и бормотали по-африкански. Наличка за золото и алмазы. Кольца, монеты, жемчуг, драгоценности оптом, антикварные драгоценности. Это сук, штетл. Здесь торгаши и сплетники, ветошники, торговцы слухами. Улица – оскорбление для истины будущего. Но она в Эрике отзывалась. Она проникала в каждый его рецептор и электрически сигала в мозг.
Машина остановилась намертво, и он вышел, потянулся. Пробка впереди была сплошь длинным мерцанием работающего вхолостую металла. К нему подходил Торваль.
– Настоятельно сменить маршрут.
– Ситуация какова.
– Такова. Улицы впереди затоплены. Хаос. Вот так. Вопрос президента и его местопребывания. Он подвижен. Перемещается. И куда бы ни поехал, наш спутниковый приемник сообщает о волновом эффекте уличного движения, который вызывает массовый паралич. Вот еще что. По центру города медленно движется похоронная процессия, теперь она смещается к западу. Множество машин, многие плакальщики идут пешком. И, наконец, вот. У нас сообщение о неизбежной активности в этом районе.
– Активности.
– Неизбежной. Природа пока не выяснена. Комплекс рекомендует: применить осторожность.
Человек ждал ответа. Эрик смотрел мимо него на огромную витрину – одну из немногих на этой улице, в которой не показывали ряды ценных металлов, оправляющих драгоценности. Улицу он чувствовал вокруг себя – неослабную, люди миновали друг друга кодированными мгновениями жеста и танца. Пытались идти, не сбавляя темпа, поскольку сбавить темп – благое намерение и слабость, – но иногда им приходилось уклоняться и даже замирать, и почти всегда они отводили взгляды. Зрительный контакт – дело тонкое. Встреча глазами на четверть секунды – уже нарушение того договора, по которому работает город. Кто уступает дорогу кому, кто на кого смотрит или не смотрит, какой уровень обиды составляет случайное касание или слабый толчок? Никому не хотелось, чтобы его трогали. Заключен пакт о неприкасаемости. Даже тут, в неразберихе старых культур, насквозь тактильной и туготканой, с подмешанными сюда прохожими, охранниками, покупателями, прилипшими к витринам, и бродячими шутами, – люди не касались друг друга.
Он стоял в поэтическом алькове «Книжного рынка Готэма», [14]14
«Книжный рынок Готэма» (1920–2007) – культовый книжный магазин и литературный салон, основанный Фрэнсис Стелофф (1888–1989). Неоднократно кочевал по Манхэттену, но с 1946 по 2004 г. располагался в здании по Западной 47-й улице, 41, в «алмазном районе», и был единственным «аномальным» заведением в нем, не связанным с торговлей драгоценностями.
[Закрыть]листал брошюры. Он всегда просматривал тонкие книжки, толщиной в полпальца, а то и меньше, выбирал, какие стихи почитать, сообразуясь с их длиной и шириной. Искал произведения в четыре, пять, шесть строк. Такие стихи он изучал дотошно, вдумывался в каждый намек, и чувства его, казалось, парили в белом пространстве вокруг строк. Вот значки на странице, вот сама страница. Белое важно для души стихотворения.
К западу гудели клаксоны, завывали электрические стенания аварийных автомобилей, которые до сих пор иногда называли «Скорой помощью», пришпиленных к месту в стоячем потоке машин.
Мимо прошла женщина, у него за спиной, и он обернулся посмотреть, не успел, даже не уверен, как понял, что это женщина. Он не заметил, как она входила в заднюю комнату, но знал, что вошла. А кроме того, знал, что должен пойти следом.
Торваль не стал заходить с ним в книжный. У выхода разместился помощник – женщина из комплекта, глаза кратко отрываются от книги в руках.
Он прошел в заднюю комнату, где несколько покупателей эксгумировали затерянные романы из глубоких гробниц полок. Среди них – женщина, и стоило бросить на нее единственный взгляд, чтобы понять: не та, кого он ищет. Откуда он это знает? Он не знал, но знал. Эрик заглянул в кабинеты и туалет персонала и обнаружил, что в эту часть магазина ведут две двери. Когда он вошел в одну, она вышла в другую – та женщина, которую он искал.
Он вернулся в главный торговый зал и постоял на старых половицах среди нераспакованных коробок, в благоухании поблекших десятилетий, осмотрел все вокруг. Среди продавцов и покупателей ее не было. Эрик понял, что телохранительница улыбается ему – черная женщина с поразительным лицом, а глаза ее игриво гуляют к выходу справа от нее. Он подошел и открыл дверь в коридор: у одной стены стопки книг, на другой фотографии поэтов-социопатов. На галерею над главным залом вели ступени, и на них сидела женщина, безошибочно та самая. В ее покое различалось некое качество, легкость осанки, и тут он увидел, кто это. Элиза Шифрин, его жена, читала книжку стихов.
Он сказал:
– Почитай мне.
Она подняла голову и улыбнулась. Он встал на колени на ступеньку ниже и возложил руки на ее лодыжки, любуясь ее молочными глазами над верхним обрезом книги.
– Где твой галстук? – спросила она.
– Был медосмотр. Видел свое сердце на экране.
Он пробежал ладонями по ее икрам к канавкам под коленями.
– Мне не нравится так говорить.
– Но.
– От тебя пахнет сексом.
– Это врачебный осмотр бьет тебе в нос.
– Ты весь пахнешь сексом.
– Это вот что. Это запах голода, – сказал он. – Хочу пообедать. Ты хочешь пообедать. Мы люди в мире. Нам нужно есть и разговаривать.
Он взял ее за руку, и они гуськом двинулись через одурелый поток транспорта к закусочной через дорогу. Мужчина торговал часами с расстеленного на тротуаре банного полотенца. В длинном зале было густо от тел и шума, Эрик протолкался сквозь очередь навынос и нашел места у стойки.
– Не уверена, насколько я проголодалась.
– Ешь. Поймешь, – сказал он. – Кстати, о сексе.
– Мы женаты всего пару-другую недель. И то едва ли.
– Всему на свете едва ли недели. Все теперь меряется днями. На жизнь остаются минуты.
– Мы же не хотим считать время, правда? Или торжественно обсуждать эту тему.
– Нет. Мы хотим этим заняться.
– И займемся. Непременно.
– Мы хотим нам его, – сказал он.
– Секса.
– Да. Потому что на его отсутствие у нас нет времени. Время – такая субстанция, которая с каждым днем все реже. Что. Ты не знала?
Она взглянула на меню, растянувшееся вверху по стене, и оно, похоже, привело ее в уныние своим размахом и настроением. Он вслух процитировал несколько пунктов, которые, по его мнению, ей бы хотелось съесть. Не то чтобы он знал, чем она питается.
Они попали в перекрестный рев акцентов и языков, а раздатчик за стойкой объявлял заказы в громкоговоритель. На улице дудели клаксоны.
– Мне нравится этот книжный. Знаешь, почему? – сказала она. – Потому что он полуподземный.
– Ты чувствуешь себя спрятанной. Тебе нравится прятаться. От чего?
Мужчины говорили о делах пулеметными дробями, формально размеренным напевом под аккомпанемент лязга тарелок.
– Иногда лишь от шума, – сказала она, подаваясь к нему, бодрым шепотом.
– Ты была из молчаливых задумчивых детей. Не отлипала от теней.
– А ты?
– Не знаю. Я об этом не думаю.
– Подумай о чем-нибудь одном и расскажи мне.
– Ладно. Что-нибудь одно. Когда мне было четыре, – сказал он, – я прикидывал, сколько буду весить на каждой планете Солнечной системы.
– Мило. Ой, мне нравится, – сказала она и поцеловала его в висок, чуть по-матерински. – Такая комбинация науки и эго. – И рассмеялась, тягуче, пока он делал заказ раздатчику.
Из экскурсионного автобуса, застрявшего в пробке, просочился усиленный динамиком голос.
– Когда поедем на озеро?
– Нахуй озеро.
– Я считала, нам там нравится. Столько планов было, столько строили. Сбежать туда, побыть вместе наедине. На озере спокойно.
– И в городе спокойно.
– Где мы живем – да, наверное. Высоко, далеко. А у тебя в машине? Наверняка же не так спокойно. Ты много времени в ней проводишь.
– У меня машина отпрустована.
– Да?
– Растяжку машинам делают так. Берут корпус и разрезают напополам такой огромной ревущей циркулярной пилой. Потом добавляют секцию, чтобы удлинить ходовую часть на десять, одиннадцать, двенадцать футов. На сколько потребуется. На двадцать два фута, если хочешь. И пока так с моей делали, я сказал им, что машину надо отпрустовать, заизолировать пробковым слоем от уличного шума.
– Вообще-то здорово. Мне очень нравится.
Они разговаривали, их прижало вместе на жердочке. Он сказал себе, что это его жена.
– Машина, конечно, бронирована. От этого изоляцию укладывать было сложнее. Но им все удалось. Это жест. Мужской поступок.
– И как, изолирует?
– Как оно может изолировать? Нет. Город ест шум и спит шумом. Из каждого века извлекает шум. Шумы те же, что и в семнадцатом веке, плюс те, что появились с тех пор. Нет. Но я не против шума. Шум меня заряжает. Самое главное – что она там есть.
– Пробка.
– Ну да. Пробка. Вот что, в конечном итоге, главное.
Торваля не видать. Эрик заметил мужчину-телохранителя у кассы – вроде как меню читает. Хотелось бы понимать, отчего кассовые аппараты не заключили в витрины музея кассовых аппаратов в Филадельфии или Цюрихе.
Элиза глянула в свою чашку супа, где кишели формы жизни.
– Я этого хотела?
– Скажи мне, чего ты хотела.
– Утиное консоме с травами.
Она произнесла это с насмешкой над собой – с каким-то экстерриториальным акцентом, лишь чуточку усиленным по сравнению с тем, как она говорила обычно. Он присмотрелся к ней, рассчитывая восхититься выгнутыми ноздрями и этим тонким изгибом в линии носа. Но поймал себя на мысли, что она, быть может, и вообще не красива. Может, ей не хватает. То был укол осознания. Может, она средненькая, отчаянно неисключительная. В книжном она выглядела получше, когда он обознался. Он начал понимать, что ее красоту они изобрели вместе, сговорились собрать воедино вымысел, который помогал их обоюдной маневренности и восхищению. Они женились под покровом этого невысказанного соглашения. Им требовался завершающий член прогрессии. Она богата, он богат; она бесспорная наследница, он сделал себя сам; она культурна, он беспощаден; она хрупка, он крепок; она одарена, он блистателен; она красива. Таково ядро их понимания, то, во что им нужно было верить, прежде чем стать парой.
Она держала ложку над чашкой супа, без движения, пока формулировала мысль.
– Знаешь, это правда. От тебя действительно несет сексуальным выделением, – сказала она, подчеркнуто глядя в суп.
– От меня пахнет не сексом, который, по-твоему, случился. А сексом, которого я хочу. Вот его запах ты и ловишь. Потому что чем больше я на тебя смотрю, тем больше я знаю про нас обоих.
– Скажи мне, что это значит. Или нет. Нет, не надо.
– И тем больше я хочу секса с тобой. Бывает такой секс, в котором есть что-то очищающее. Это антидот разочарования. Противоядие.
– Хочешь распалиться, да? Вот твоя стихия.
Он хотел укусить ее за нижнюю губу, прихватить ее зубами и впиться так крепко, чтобы извлечь эротичную капельку крови.
– Куда пойдешь, – спросил он, – после книжного? Потому что здесь есть отель.
– Я шла в книжный. Точка. Я была в книжном. Я там была счастлива. А ты куда ехал?
– Подстричься.
Она приложила руку к его лицу и стала мрачной и сложной.
– Тебе нужно стричься?
– Мне нужно все, что ты можешь мне дать.
– Будь любезен.
– Мне нужны все значения слова «распаленный». Отель тут сразу через дорогу. Можем начать заново. Или покончить с интенсивностью чувств. Вот одно из значений. Возбуждать до страсти. Можем покончить с тем, что едва начали. На самом деле – два отеля. У нас есть выбор.
– По-моему, мне не хочется продолжать.
– Не хочется. И не станешь.
– Будь со мной любезен, – сказала она.
Он взмахнул сэндвичем с рубленой печенью, затем громко откусил – жевал и говорил одновременно, а также угощался ее супом.
– Когда-нибудь подрастешь, – сказал он, – и тогда твоей маме станет не с кем поговорить.
За ними что-то происходило. Ближайший раздатчик произнес реплику по-испански, в которой прозвучало слово «крыса». Эрик развернулся на табурете и увидел двух мужчин в сером спандексе – они стояли в узком проходе между стойкой и столиками. Неподвижно стояли, спина к спине, правые руки подняты – и оба держали за хвост по крысе. Начали что-то кричать, Эрик не разобрал. Крысы были живые, сучили передними лапками, и его это заворожило, всякое ощущение Элизы пропало. Он хотел понять, что это мужчины говорят и делают. Молодые, в серых костюмах – крысиных костюмах, как он понял, – и перегораживали выход из заведения. Эрик смотрел в длинное зеркало на дальней стене и видел почти весь зал – либо в отражении, либо прямо, а за ним раздатчики в бейсболках разместились в состоянии задумчивой паузы.