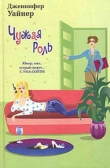Текст книги "Космополис"
Автор книги: Дон Делилло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Он сунул ей под нос свою подмышку.
– Вот лежит Диди. В капкане древнего пуританства.
Он перекатился на живот, и они полежали близко друг к другу, касаясь бедрами и плечами. Он полизал обвод ее уха, сунулся лицом ей в волосы, мягко зарылся.
Спросил:
– Сколько?
– Что это значит – тратить деньги? Доллар? Миллион?
– На картину?
– На что угодно.
– У меня сейчас два личных лифта. Один запрограммирован играть фортепианные вещи Сати и двигаться вчетверо медленнее обычной скорости. Под Сати так и надо – я езжу этим лифтом, когда у меня определенное, скажем, неуравновешенное настроение. Он меня успокаивает, делает цельным.
– А во втором лифте кто?
– Братуха Феск.
– Это еще кто?
– Звезда суфийского рэпа. Ты не знала?
– Я много чего пропускаю.
– Стоило мне больших денег и сделало врагом народа, когда я реквизировал второй лифт.
– Деньги на картины. Деньги на что угодно. Мне пришлось учиться понимать деньги, – сказала она. – Я выросла в удобстве. Далеко не сразу начала думать о деньгах и на самом деле смотреть на них. Потом начала смотреть. Разглядывать купюры и монеты. Научилась, каково это – делать деньги и тратить их. Приносит огромное удовлетворение. Это мне помогло стать личностью. Но теперь я уже не знаю, что такое деньги.
– Сегодня я теряю деньги тоннами. Много миллионов. Ставлю против иены.
– А иена разве не спит?
– Валютные рынки никогда не закрываются. А Никкей теперь работает круглые сутки. Все основные биржи. Семь дней в неделю.
– Это я пропустила. Я много чего пропускаю. Сколько миллионов?
– Сотни.
Она задумалась. Потом зашептала.
– Тебе сколько лет? Двадцать восемь?
– Двадцать восемь, – ответил он.
– Мне кажется, ты хочешь этого Ротко. Кусается. Но да. Тебе он совершенно нужен.
– Почему?
– Напомнит, что ты жив. В тебе что-то восприимчиво к таинствам.
Он легонько положил средний палец в ложбинку меж ее ягодиц.
Сказал:
– Таинства.
– Ты разве не видишь себя в любой картине, которую любишь? Ты же чувствуешь, как тебя омывает ее излучение. Такого не проанализируешь, не выразишь ясно словами. Что ты делаешь в тот миг? Разглядываешь картину на стене. И все. Но при этом ощущаешь себя живым в этом мире. Она тебе говорит: да, ты тут. И да, диапазон бытия в тебе глубже и слаще, чем ты сам понимал.
Он сжал кулак и втиснул его ей между бедер, медленно повращал им туда-сюда.
– Я хочу, чтобы ты съездила в часовню и сделала им предложение. Сколько бы ни запросили. Я хочу все, что там внутри. Вместе со стенами и прочим.
Какой-то миг она не двигалась. Потом отстранилась, тело разъединилось с подстрекающей рукой.
Он смотрел, как она одевается. Одевалась конспективно – похоже, думала о том, что предстоит завершить, чему он помешал своим приездом. У нее послечувственность – вот вдела руку в кремовый рукав, а выглядит дряблее и печальнее. Ему хотелось бы причины ее презирать.
– Я помню, что ты мне раз сказала.
– И что?
– Талант эротичнее, если тратится впустую.
– О чем это я? – спросила она.
– Ты говорила о том, что я безжалостно эффективен. Талантлив – да. В бизнесе, в личных приобретениях. В организации собственной жизни вообще.
– А любовь я имела в виду?
– Не знаю. Имела?
– Не вполне безжалостен. Но да. Талантлив. И внушителен. И в одежде, и без. Тоже талант, наверное.
– Но тебе чего-то не хватало. Или же всего хватало. В том-то и дело, – сказал он. – С таким талантом и напором. Все в дело. Последовательно приносит пользу.
Она искала потерянную туфлю.
– Но это больше не правда, – сказала она.
Он наблюдал за ней. Кажется, ему не хотелось сюрпризов – даже от женщины, от этой женщины, которая научила его смотреть, чувствовать влажные чары на лице, ощущать, как тает наслаждение в мазке или полоске цвета.
Она нырнула к кровати. Но, не успев выхватить туфлю из-под одеяла, пролившегося на пол, глянула ему глаза в глаза.
– С тех пор, как в твою жизнь проникла толика сомнения.
– Сомнения? Что такое сомнение? – Он сказал: – Сомнений не бывает. Никто больше не сомневается.
Она вступила в туфлю и оправила юбку.
– Начинаешь думать, что сомневаться интереснее, чем действовать. Сомнения требуют больше мужества.
Она шептала, недвижная, уже отвернувшись от него.
– Если я от этого сексуальнее, куда же ты?
Она собиралась снять трубку телефона, звонившего в кабинете.
Вспомнил, когда надел один носок. G. triacanthos. Знал же, что вернется, – и вернулось. Ботаническое название того дерева во дворе. Gleditsia triacanthos. Гледичия сладкая.
Ему стало получше. Он знал, кто он, и потянулся за рубашкой, одевался ускоренным маршем.
Торваль стоял за дверью. Они не встретились взглядами. Прошли к лифту, в молчании спустились в вестибюль. Он пропустил Торваля вперед – проверить участок. Надо признать, тот делает это хорошо – мягкая хореография галсов, четкая и ясная. После чего прошли по двору и на улицу.
Остановились у машины. Торваль указал на парикмахерские, что поджидали с обеих сторон, всего в нескольких ярдах. Затем его глаза остыли и замерли. Слушал голос в ухе. В миге ощущалось напряжение, направленное ожидание.
– Код угрозы синий, – наконец сказал он. – У нас потери.
Шофер придержал дверцу. Эрик не взглянул на него. Бывали времена, когда он подумывал, не посмотреть ли на шофера. Но пока так и не посмотрел.
Потерей был Артур Рапп, управляющий директор Международного валютного фонда. Только что на него совершили покушение в «Найки-Северной Корее». Всего минуту назад. Эрик смотрел, как это происходит снова и снова, маниакальными повторами, а машина тем временем ползла к затору на Лексингтон-авеню. Артура Раппа он терпеть не мог. Возненавидел еще до знакомства. Ненависть чистейших кровей, упорядоченная, основанная на расхождениях в теории и толкованиях. Потом они встретились, и Эрик возненавидел его лично и хаотично, что называется – от всей души.
Его убили в прямом эфире «Денежного канала». В Пхеньяне перевалило за полночь, он заканчивал интервью для североамериканских телезрителей после исторического дня, вечера церемонии, приемов, ужинов, речей и тостов.
Эрик видел, как на одном экране он подписывает документ, а на другом готовится к смерти.
В кадр вошел мужчина в рубашке с коротким рукавом и принялся бить Артура Раппа ножом в лицо и шею. Тот схватил мужчину и вроде как подтянул его ближе, как будто хотел сказать что-то по секрету. Запутавшись в микрофонном шнуре, они вместе рухнули на пол. Журналистка следом – изящная женщина, юбка с разрезом задралась и стала главнейшей точкой внимания.
На улице выли клаксоны.
На одном экране возник крупный план. Мясистое лицо Артура Раппа надувалось спазмами потрясения и боли. Напоминало жом чего-то растительного. Эрику захотелось, чтобы показали еще раз. Покажите еще.И показали, разумеется, и он знал, что показывать будут еще не раз – до глубокой ночи, нашей ночи, пока из образа не стечет всякое ощущение или пока все в мире не посмотрят, что уж раньше случится, но при желании посмотреть можно – в любое время, поиском изображения, хотя эта технология уже сейчас кажется гнетуще медлительной, – или можно вызвать на экран замедленную съемку изящной женщины и микрофона у нее в руке: как их затягивает ужасом, – можно сидеть не один час, желая выебать ее тут же, в кровавом вихре ножа, случайных частей тел, вспоротых сонных артерий, посреди отрывистых воплей бьющегося убийцы, у него к ремню пристегнут мобильник, и раздутых газообразных стонов умирающего Артура Раппа.
Авеню перегородил экскурсионный автобус. Двухэтажный, из-под брюха у него валил дым, а с верхнего уровня высовывались опечаленные головы – невозмутимые шведы и китайцы, их «бананы» набиты валютой.
Майкл Цзинь по-прежнему был на откидном сиденье, спиной к движению. Слушал репортаж о покушении, но к экрану не поворачивался.
Теперь Эрик смотрел на него – непонятно, молодой человек так сдержан из-за нравственной строгости или его безразличие настолько глубоко, что его не пробить музам, даже музам секса и смерти.
– Пока вас не было, – сказал Цзинь.
– Да. Рассказывай.
– Сообщили, что в Японии снижаются потребительские расходы. – Он говорил дикторским голосом. – Возникают сомнения в экономической стабильности страны.
– Ясно. Что. Я то же самое говорил.
– Ожидают, что иена увянет. Иена несколько провалится.
– Ну и вот. Видишь. Неизбежно. Ситуация должна измениться. Выше иена не может залезть.
К этому концу машины подошел Торваль. Эрик опустил окно. Окна по-прежнему приходится опускать.
Торваль сказал:
– Вкратце.
– Да.
– Комплекс рекомендует дополнительную безопасность.
– Ты не очень доволен.
– Сначала угроза президенту.
– Ты уверен, что справишься, что бы ни случилось.
– Теперь покушение на управляющего директора.
– Прими их рекомендации.
Он поднял окно. Как ему эта дополнительная безопасность? Ему стало свежо. Освежала смерть Артура Раппа. Грядущее падение иены придавало сил.
Он окинул взглядом мониторы видеотерминальных устройств. Они располагались несколькими уровнями на разных расстояниях от заднего сиденья – плоские плазменные экраны всевозможных размеров, некоторые прямоугольными гроздьями, иные одиноко торчали из стоек по бортам. Группа их выглядела произведением видеоскульптуры – представительным и воздушным, с возможностью видоизменения: каждая единица в ней конструировалась так, чтобы откидываться на вертлюге, складываться либо работать вне зависимости от остальных.
Ему нравился пригашенный звук или же отключенный совсем.
Они уже выбирались из экскурсионного автобуса. Тот, казалось, тонет в темном дыму, пенившемся вокруг. В автобус попробовал сесть бродяга, одетый в пузырчатую пленку. Вдали выли сирены – в пробке застряли пожарные машины, и вой висел в воздухе, без допплеровского сдвига, а клаксоны машин дудели вблизи, еще одна тягота дня.
Его ликование углубилось. Он сдвинул верхний люк и высунул голову в разворачивающуюся сцену. Сразу за авеню высились банковские башни. Несмотря на размеры, эти конструкции в глаза не бросались, заметить их трудно, такие они обычные и монотонные – высокие, отвесные, абстрактные, со стандартными пологими выступами, длиной в целый квартал, – такие равнозначные, что нужно хорошенько сосредоточиться, чтобы их увидеть.
Отсюда они выглядели пустыми. Эта мысль ему понравилась. Их мыслили последними высокими строениями, их строили пустыми, они должны ускорять приход будущего. Они – конец внешнего мира. Вообще-то их тут нет. Они в будущем, во времени за пределами географии и осязаемых денег – а также тех, кто эти деньги складывает в стопки и считает.
Он сел и глянул на Цзиня, который скусывал отмершую кожицу с большого пальца. Посмотрел, как тот глодает. Не самая нежная греза у Майкла. Он грыз, перетирал зубами сначала заусенец, следом сам ноготь у основания – бледную дугу лунной четвертинки, луночку, и в этом зрелище было что-то ужасное, атавизм какой-то: Цзинь нерожденный, свернулся калачиком в пленчатой сумке, жуткий маленький гуманоид с головой компьютерного ботана сосет свои фестончатые руки.
Почему заусенец зовут заусенцем? Происходит от древнего «усние», кожа, насколько Эрик случайно знал, а оно – от «усмы», вероятно, восходящей к корням жжения, это мучительно и больно.
Цзинь выпустил немного своих вегетарианских газов. Контроль среды тут же заглотил их. Впереди открылась брешь, и машина дернулась и содрогнулась, со скрежетом объезжая автобус, нацелилась поперек авеню. Человек с колесным лотком тако серьезно следил за этим перемещением. Машину колыхнуло на бордюре, и она выдавилась из этого сфинктера; взгляд Цзиня вынырнул из луночного уединения, когда машина рванула к Парк-авеню по сюрреально пустому отрезку улицы.
– Тебе что пора делать.
– Да. Хорошо, – сказал Цзинь.
– Ты не знаешь? Мы оба это знаем.
– Есть чем заняться в конторе. Да. Нужно перебрать события за период и посмотреть, смогу ли я найти применимое.
– Ничего не применимо. Но там все есть. Видно на графике. Сам поймешь.
– Мне нужно протестировать валюты на основе исторических данных, не знаю, чуть ли не до туманной зари.
– Мы не можем ждать туманной зари.
– Тогда сделаю тут. Сберечь время. Лишь бы вы были довольны. Временные циклы я обсчитываю во сне. Годы, месяцы, недели. Сколько неуловимых паттернов нашел. Сколько математики насовал в циклы и историю развития цен. Потом отыскиваешь часовые циклы. Потом эти вонючие минуты. Затем переходишь к секундам.
– Это видно по дрозофилам и сердечным приступам. Действуют общие силы.
– Я так устарел, что даже пищу жевать не приходится.
– Здесь тебе нельзя.
– Мне тут нравится.
– Нет, не нравится.
– Мне нравится ездить спиной. – Цзинь заговорил голосом диктора новостей. – Он умер так же, как и жил. Задом наперед. Подробности – после игры.
Ему было хорошо. Столько силы в себе он не ощущал уже много дней, а то и недель, а то и дольше. Зажегся красный. На другой стороне авеню он увидел Джейн Мелмен, своего начальника финансовой службы, в шортиках для бега и топе – она рысила по-росомашьи. Остановилась у оговоренного места посадки – рядом с бронзовой статуей человека, голосующего такси. [9]9
Статуя «Такси» (1983) работы скульптора Дж. Сьюарда Джонсона-мл. находится на углу Парк-авеню и 48-й улицы.
[Закрыть]Затем, прищурившись, посмотрела в направлении Эрика – старалась определить, его это лимузин или чей-то чужой. Эрик знал, что она ему скажет – первую реплику, дословно, – и с нетерпением на нее рассчитывал. Уже слышал гнусавый воздушный поток ее говора. Ему нравилось знать, что грядет. Так подтверждается наличие некоего наследственного сценария, доступного тем, кто способен его дешифровать.
Цзинь выскочил в дверь, не успела машина пересечь Парк-авеню. На разделительной полосе стояла женщина в сером спандексе, держала на весу дохлую крысу. Похоже, какой-то перформанс. Зажегся зеленый, и загудели клаксоны. На зданиях повсюду в этом районе названия финансовых учреждений были выгравированы на бронзовых стелах, высечены в мраморе, процарапаны сусальным золотом по граненому стеклу.
Мелмен бежала на месте. Когда машина остановилась на углу, она выступила из-под тени стеклянной башни за спиной и ввалилась в заднюю дверцу – сплошь локти и блестящие колени, веб-телефон в кобуре на поясе. Она запыхалась и вспотела после пробежки, рухнула на откидное сиденье с каким-то мрачным облегчением – с таким сбрасывают балласт в туалете.
– Все эти лимузины, господи, один от другого не отличишь.
Он сощурился и кивнул.
– Мы прямо как детки перед выпускным, – сказала она. – Или какая-нибудь тупая свадьба где-нибудь. В чем шарм одинакового?
Он глянул в окно, отвечая тихо – тема была ему настолько безынтересна, что замечание пришлось адресовать стали и стеклу снаружи, равнодушной улице.
– В том, что я влиятельный человек, который предпочитает не метить территорию отдельными струйками мочи, – может, так? Мне следует за что-то извиняться?
– Я хочу домой, целоваться взасос с Максимой.
Машина не двигалась. Сверху обрушивался грохот, от которого прохожие, идя мимо, прикрывались: гортанные раскаты гранитной башни имени огромной инвестиционной фирмы, ее возводили на южной стороне улицы.
– Вам, кстати, известно, что сегодня за день.
– Известно.
– Сегодня у меня выходной, черт побери.
– Я это знаю.
– Мне отчаянно нужен этот лишний день.
– Я знаю.
– Ничего вы не знаете. Вы не можете знать, каково это. Я мать-одиночка в бедственном положении.
– У нас ситуация.
– Я мать и бегаю в парке, как вдруг у меня в пупке взрывается телефон. Думаю, что это ребенкина нянька – она никогда не звонит, пока температура не поднимется до ста пяти. [10]10
По Фаренгейту. 40,56 °C.
[Закрыть]А у нас, оказывается, ситуация. Еще какая ситуация. Иену сносит так, что нас может раздавить через несколько часов.
– Выпей воды. Посиди на банкетке.
– Мне нравится лицом к лицу. И мне совсем не обязательно смотреть на все эти экраны, – сказала она. – Я и так знаю, что происходит.
– Иена упадет.
– Точно.
– Потребительские расходы снижаются, – сказал он.
– Точно. А кроме того, Банк Японии оставил процентные ставки без изменений.
– Это сегодня случилось?
– Это случилось ночью. В Токио. Я позвонила своему источнику в Никкей.
– На бегу.
– Пока рвала когти по Мэдисон-авеню, чтобы успеть сюда.
– Иена не может подняться выше.
– Это правда. Точно, – сказала она. – Но она только что поднялась.
Эрик посмотрел на нее, розовую, взмокшую. Машина слабо продвинулась вперед, и в нем шевельнулась меланхолия – казалось, ей пришлось преодолеть глубочайшие долы пространства, чтобы дотянуться до него, застрявшего посреди города. Он выглянул в окно – причудливый композит, эти люди на улице машут проезжающим такси, перебегают на красный свет, все вместе едины и цельны, стоят в очередях к банкоматам у банка «Чейз».
Она сообщила Эрику, что он выглядит кисло.
Автобусы рокотали по улице двойками, кашляя и задыхаясь, попарно или строем в затылок, короткими очередями выпускали людей на тротуар, живая добыча, ничего нового, там же и строители обедали, усевшись под банковские стены, вытянув ноги, ржавые башмаки, оценивающие взгляды – все нацелены на поток людей, марш мимо, приглядываются ко внешности, к шагу и стилю, к женщинам в деловых юбках, они чуть ли не бегут, к женщинах с головными гарнитурами и в сандалиях, к женщинам в мешковатых шортах, к туристкам, к иным обалделым и лоснящимся, с ногтями из кино про вампиров, длинными, к клыкастым и наштукатуренным, эти рабочие настороже, подмечают любую причудь, тех, у кого прически, одежда или походка могут быть насмешкой над тем, что эти рабочие делают, на высоте сорока этажей, либо зануд с мобильниками, которые раздражают их вообще.
Такие сцены его обычно возбуждали – великое алчное течение, в котором каждый анекдотический миг лепится физической волей города, лихорадкой человеческих я, притязаниями промышленности, коммерции и толпы.
Он услышал собственный голос из некой точки недалекого пространства.
– Я вчера ночью не спал, – сказал он.
Машина пересекла Мэдисон и остановилась перед Торговой библиотекой, [11]11
Торговая библиотека (ныне Центр художественной литературы) – некоммерческая организация, учрежденная в 1820 г. Торговой палатой Нью-Йорка для популяризации художественной литературы среди торговых клерков. Располагается на Восточной 47-й улице между Мэдисон и Пятой авеню.
[Закрыть]как и планировалось. В обе стороны по улице тянулись едальни. Он подумал обо всех, кто ест, о жизнях, что истощаются за обедом. Что стоит за этой мыслью? Подумал об уборщиках, сметающих крошки со столов. Официанты и уборщики не мрут. Не являются только едоки – один за другим, с течением времени, берут и не приходят за своим супом с пачкой крекеров в придачу.
К машине подошел мужчина в костюме и галстуке, в руках – небольшой ранец. Эрик отвернулся. Из разума слилось все, за исключением чего-то связанного с пафосом самого слова «ранец». Ведь может рассудок вдруг отупеть – тактическая уловка уклонения или подавления, реакция на вдруг нависшую угрозу, прилично одетый человек с бомбой в чемоданчике, что даже в самой изобретательной мысли не найдется утешения, не останется времени на прилив ощущений, на естественный бросок, которым может сопровождаться опасность.
Когда мужчина постучал в окно, Эрик на него не взглянул.
Тут же на месте оказался Торваль – взгляд тугой, рука под пиджаком, с флангов заходят два помощника, мужчина и женщина, поразительно жизнеподобны, вынырнув из визуальной статики обеденного роя на улице.
Торваль навис над человеком.
И спросил:
– Вы, блядь, кто?
– Прошу прощения.
– Время ограничено.
– Доктор Инграм.
Торваль уже заломил мужчине руку назад. Прижал к борту автомобиля. Эрик подался ближе к окну и опустил его. В воздухе мешались запахи еды – кориандр, луковый суп, чад жарящихся пирожков с говядиной. Помощники встали вольным оцеплением, оба лицами прочь от места действия.
Из японского ресторана «Ёдо» вышли две женщины – и тотчас нырнули обратно.
Эрик посмотрел на мужчину. Хорошо бы Торваль его застрелил – ну или хотя бы приставил ему пистолет к голове.
Он сказал:
– Вы кто, блядь, такой?
– Доктор Инграм.
– Где доктор Невиус?
– Неожиданно вызвали. По личным делам.
– Говорите медленно и членораздельно.
– Его неожиданно вызвали. Я не знаю. Какой-то семейный кризис. Я его коллега.
Эрик задумался.
– Я вам когда-то уши промывал.
Эрик взглянул на Торваля и кратко кивнул.
Потом закрыл окно.
Он сидел по пояс голый. Инграм раскрыл свой ранец на комплекте недвусмысленных инструментов. Приложил стетоскоп к груди Эрика. Тот сообразил, еще как сообразил, почему на нем нет майки. Ее он оставил на полу спальни у Диди Фэнчер.
Пока врач слушал, как открываются и закрываются его сердечные клапаны, Эрик смотрел мимо Инграма. Машина рывками постепенно пробиралась на запад. Он не знал, почему до сих пор используют стетоскопы. Забытые инструменты древности, такие же причудливые, как и пиявки.
Джейн Мелмен сказала:
– Вы это вот что.
– Вот это. Каждый день.
– Неважно.
– Где бы ни был. Именно. Неважно.
Она чуть закинула голову и сунула бутылку родниковой воды куда-то в середину лица.
Инграм сделал эхокардиограмму. Эрик лежал на спине, монитор виден лишь искоса, и не был уверен, на что он смотрит – на компьютеризованную схему собственного сердца или на изображение его же. На экране оно лишь яростно пульсировало. Изображение всего в каком-то футе, но сердце обрело новый смысл – дальности, огромности, оно билось в кроваво-сливовом восторге рождающейся галактики. Что за таинство подметил он в этой функциональной мышце? Он ощутил страсть тела, его стремление приспособиться к геологическому времени, поэзию и химию его истоков в пыли старых взрывающихся звезд. Рядом с этим сердцем он себе чудился карликом. Вот оно, и он от него в священном ужасе: видит свою жизнь под грудиной – формирующими изображение блоками, она колотится вне его.
Инграму он ничего не сказал. Ему не хотелось разговаривать с коллегой. С Невиусом время от времени он беседовал. В Невиусе есть определенность. Седой, высокий и крепкий, в голосе слышится отзвук Центральной Европы. Инграм лишь бормотал инструкции, а не разговаривал. Дышите глубже. Повернитесь налево. Ему трудно сказать такое, чего он еще не говорил, слова выстраивались той же нудной последовательностью, что и тысячу раз прежде.
Мелмен сказала:
– Так вы это вот. Одно и то же каждый день.
– С вариациями, в зависимости.
– Значит, он к вам домой приходит, мило, по выходным.
– По выходным, Джейн, мы тоже умираем. Люди. Бывает.
– Вы правы. Я об этом не подумала.
– Умираем, потому что выходные.
Он по-прежнему лежал на спине. Она сидела лицом к его макушке и разговаривала с точкой чуть выше нее.
– Я думала, мы движемся. Но уже нет.
– В городе президент.
– Вы правы. Я забыла. Мне показалось, я его видела, когда выбегала из парка. По Пятой шел кортеж лимузинов в сопровождении мотоциклистов. Я подумала, столько лимузинов для президента – это я еще могу понять. Но то были похороны кого-то знаменитого.
– Каждый день умираем, – сообщил он ей.
Теперь он сидел на столе, а Инграм искал припухшие лимфатические узлы у него под мышками. Эрик показал на пробку из кожного сала и клеточного мусора в нижней части живота, угорь, чуть зловещий на вид.
– Что с этим будем делать?
– Пусть предъявит себя.
– Что. Ничего не делать.
– Пусть предъявит себя, – сказал Инграм.
Эрику понравилось, как звучит. Не сказать, что не вызывало воспоминаний. Он попробовал заметить коллегу. У него, к примеру, усы. Эрик их только что заметил. Он рассчитывал увидеть и очки. Но мужчина не носил очков, хотя вроде должен бы, беря во внимание тип лица и общую манеру – такой человек носит очки с детства, выглядит сверхзащищенным и маргинализованным, его третируют другие мальчишки. Можно поклясться, такой должен носить очки.
Он попросил Эрика встать. Стол для обследований сократил вдвое по длине. Затем попросил опустить брюки и трусы и нагнуться над ближним концом стола, слегка расставив ноги.
Эрик подчинился и оказался лицом к лицу с начальницей финансовой службы.
Она сказала:
– Так послушайте. На нас работают два слуха. Во-первых – уже полгода непрерывные банкротства. С каждым месяцем все больше. И еще больше грядет. Крупные японские корпорации. Это хорошо.
– Иена должна упасть.
– Это утрата веры. Она вынудит иену упасть.
– Доллар укрепится.
– Иена упадет, – сказала она.
Он услышал склизкий шелест латекса. Затем вторгся палец Инграма.
– Где Цзинь? – спросила она.
– Работает над визуальными паттернами.
– Оно не отражается на графиках.
– Отражается.
– Оно не отражается так, как обычно отражаешь акции технологических компаний. Там можно отыскать настоящие паттерны. Засечь предсказуемые компоненты. А тут иначе.
– Мы учим его видеть.
– Видеть должны вы. Вы у нас провидец. А он что? Пацан. У него прядь в волосах. Сережку носит.
– Не носит он сережку.
– Витал бы в облаках еще чуть больше, его пришлось бы перевести на систему жизнеобеспечения.
Он спросил:
– Что второй слух?
Инграм изучал простату на предмет симптомов. Пальпировал, палец лукаво тыкался в железу сквозь ректальную стенку. Болезненно – вероятно, просто мышцы анального канала напрягаются. Но саднит. Это боль. Обегает все цепи нервных клеток. Согнувшись так, Эрик смотрел прямо в лицо Джейн. Ему это нравилось, даже самого удивило. В конторе она присутствовала раздраженно, скептично, противопоставляла себя, держалась отстраненно, располагала даром подолгу жаловаться. А тут – мать-одиночка после пробежки, на откидном сиденье, коленками вовнутрь, трогательно как-то даже костлявая. Клякса волос влажно и плоско лежала на лбу, являя первые слабенькие жилки седины. В вялой руке болталась бутылка с водой.
Она не ретировалась под его взглядом. Смотрела прямо в глаза. Над отвисшим краем топа виднелась узловатая ключица. Ему хотелось слизнуть пот с внутренней стороны ее запястья. У нее запястья, большие берцовые кости и не намазанные бальзамом губы.
– Похоже, ходит слух о министре финансов. Предполагается, в любой момент уйдет в отставку, – сказала она. – Какой-то скандал о неверно истолкованном замечании. Он что-то сказал об экономике, и это могли не так понять. Вся страна разбирает грамматику и синтаксис его замечания. Или дело даже не в том, что он сказал. А где сделал паузу. Они пытаются истолковать смысл паузы. Все может оказаться гораздо глубже грамматики. Может, дело в его дыхании.
Когда Невиус работал пальцем, все заканчивалось через пару секунд. Инграм же раскапывал какой-то мрачный факт. Фактом была Джейн. Бутылка у нее лежала в промежности, колени распахнулись и наблюдали за ним. Ее рот открылся, обнажив крупные щелястые зубы. Между Эриком и ею что-то просквозило – в глубине, симпатия за пределами стандартных значений, однако эти значения включены в нее, жалость, сродство, нежность, вся физиология маневра нервов, боя сердца и секреции, некое неохватное возбуждение биологического пола повлекло его к ней, усложненно, с пальцем Инграма у него в заднице.
– Значит, вся экономика в конвульсиях, – сказала она, – из-за того, что кто-то перевел дух.
Он такое чувствовал. Чувствовал боль. Она продвигалась своими тропками. Сообщала о себе ганглиям и спинному мозгу. Он – в этом теле, в конструкции, от которой теоретически ему бы хотелось отказаться, несмотря на то, что он сам ее возводил тщательно отмеренным воздействием гантелей и штанг. Он хотел вынести ей приговор: избыточная, не обязательная. Конвертируется в волновые порядки информации. Вот что он наблюдал на овальном экране, когда не смотрел на Джейн.
– Ты стискиваешь бутылку.
– Это пластик мягкий.
– Ты ее стискиваешь. Душишь.
– Это само собой.
– Это сексуальное напряжение.
– Это повседневная нервозность жизни.
– Это сексуальное напряжение, – сказал он.
Он велел Инграму дотянуться свободной рукой до пиджака на вешалке и выудить оттуда темные очки. Коллеге удалось. Эрик надел очки.
– В такие дни.
– Что? – спросила она.
– Мое настроение меняется и гнется. Но когда я жив и пришпорен, я сверхпроницателен. Знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Женщину, которая желает бесстыдно жить в собственном теле. Скажи мне, что это неправда. Тебе хочется следовать за телом в леность и плотскость. Поэтому тебе и нужно бегать – чтобы избежать этой склонности своей натуры. Скажи мне, что я сочиняю. Не можешь. У тебя это на лице написано, всё, как редко у кого на лицах бывает. Что я вижу? Нечто ленивое, сексуальное и ненасытное.
– Мне так удобно.
– Это та женщина, которая ты в жизни. Глядя на тебя – что? Я возбужден больше, чем в первые жгучие ночи подросткового буйства. Возбужден и смущен. Смотрю на тебя – и у меня встает, хотя ситуация рьяно не располагает.
– Он не в том положении. Психологически не способен, – сказала она. – Он знает, что происходит сзади.
– Все равно. В такие дни. Смотрю на тебя и электризуюсь. Скажи мне, что ты этого не чувствуешь. Едва ты сюда села в этих своих трагических регалиях бега. Со всей этой тоской иудео-христианских пробежек. Ты не для бега родилась. Я на тебя смотрю. Я знаю, что ты такое. Ты неопрятна телесно, дурно пахнешь и вся сочишься. Такая женщина родилась для того, чтобы ее привязывали к стулу, а мужчина ей говорил, как сильно она его возбуждает.
– Отчего мы никогда так не проводили вместе время?
– Секс нас отыскивает сам. Секс видит нас насквозь. Потому-то он так и потрясает. Срывает с нас все притворство. Я вижу близкую голую женщину – она в изнеможении, она хочет, она поглаживает пластиковую бутылку, зажатую в бедрах. Неужто честь вынуждает меня считать ее менеджером высшего звена и матерью? Она видит мужчину в позе отвратительного унижения. Правильно ли я о нем думаю – у него штаны спущены на лодыжки, а жопа отклячена? Какие вопросы он себе задает из этого положения в мире? Может, и важные. Какие навязчиво задает наука. Почему что-то, а не ничто? Почему музыка, а не шум?Красивые вопросы, странным образом соответствующие его нынешнему падению. Или же он ограничен в перспективе и думает лишь о текущем моменте? О боли думает.
Боль была местной, но, казалось, впитывала все окружающее – органы, предметы, звуки с улицы, слова. Точка адского восприятия – постоянная, она не менялась в степени, да и не точка вовсе, а какой-то скрученный в узел чужой мозг, контрсознание, но и не оно тоже, располагалось в основании мочевого пузыря. Он действовал изнутри. Мог думать и говорить о другом – но лишь из боли. Он весь жил в железе, в ошпаривающем факте собственной биологии.
– Сожалеет ли он о собственном отказе от достоинства и гордости? Или в нем есть тайное желание самоуничижения? – Он улыбнулся Джейн. – Его мужественность – одно притворство? Любит ли он себя – или ненавидит? По-моему, он сам не знает. Или у него все меняется от минуты к минуте. Или вопрос настолько подразумеваем всем, что он делает, что он даже не может выйти наружу и ответить.
Он считал, что серьезен. Вовсе не думал, что говорит это для пущего эффекта. Это были серьезные вопросы. Он знал, что они серьезны, но не был уверен.