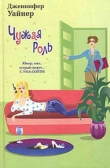Текст книги "Космополис"
Автор книги: Дон Делилло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Ему понравилось, но хотелось большего.
– Думай об этом так. Бывают редкие умы, они работают – их немного, тут и там, эрудит, истинный футурист. Такое сознание, как у тебя, гиперманиакальное, может обладать такими пятнами контакта, которые широкой массой не воспринимаются.
Он ждал.
– Технология жизненно важна для цивилизации почему? Потому что она помогает нам осуществлять нашу судьбу. Нам не нужны Бог, чудеса или полет шмеля. Но она, к тому же, подобралась на низком старте и поди ее пойми. Может кинуться в любую сторону.
На фасаде осажденной башни погасли тикерные ленты.
– Ты говоришь о том, что будущее нетерпеливо. Навязывается нам.
– Такова была теория. Я занимаюсь теорией, – резко ответила она.
Он отвернулся от нее и стал смотреть на экраны. Верхняя лента электронного табло через дорогу теперь показывала такое сообщение:
ПРИЗРАК БРОДИТ ПО МИРУ —
ПРИЗРАК КАПИТАЛИЗМА
Эрик признал в нем вариацию на тему знаменитой первой фразы «Манифеста коммунистической партии», в которой призрак коммунизма бродит по Европе, году в 1850-м.
Они запутались, они ошибаются. Однако его уважение к изобретательности демонстрантов стало определеннее. Он отодвинул смотровой люк и высунул голову в дым и газ, густо чадила горящая резина, а он мысленно сравнил себя с астронавтом, который высаживается на планету чистого метеоризма. Бодрит. На капот влезла фигура в мотоциклетном шлеме, поползла по крыше салона. Торваль дотянулся и сколупнул ее. Швырнул человека наземь, в действие вступили телохранители. Чтобы усмирить его, пришлось применить электрошокер, и напряжение отправило демонстранта в другое измерение. Эрик едва обратил внимание на треск разряда и дугу электротока, проскочившую между электродами. Он смотрел на вторую тикерную ленту – она включилась, с севера на юг побежали слова:
КРЫСА СТАЛА ЕДИНИЦЕЙ ОБМЕНА
Он опять не сразу осознал смысл слов и определил, откуда эта строчка. Ее он, разумеется, знал. Из стихотворения, которое недавно читал, из тех, что подлиннее, он выбрал его для более тщательного изучения, – строка, полстроки из хроники осажденного города.
Это возбуждало – голова в испарениях, он видит вокруг борьбу и разор, отравленные газами мужчины и женщины в их неповиновении, размахивают сворованными футболками НАСДАКа, но они читали те же стихи, что и он.
Он присел ровно для того, чтобы извлечь из слота веб-телефон и отдать распоряжение: больше иен. Он занимал иену в ошеломляющих количествах. Ему хотелось себе все иены, какие только есть.
Затем он опять высунул голову – посмотреть, как слова вновь и вновь скачут по сияющему серому фасаду. Полиция пошла в контрнаступление на башню – их вело за собой спецподразделение. Эрику нравился спецназ. У них шлемы-пули, темные макинтоши, у мужчин – автоматическое оружие: автоматы-скелеты, по сути, одна рама, никакого корпуса.
Происходило что-то еще. Какой-то сдвиг, разлом в пространстве. И вновь Эрик не был уверен, что именно он видит – лишь в тридцати ярдах от него, но не читается, бредово, на тротуаре, скрестив ноги, сидел человек и трепетал в отрезке заплетенного в косы пламени.
Эрик был недалеко – видел, что человек в очках. Человек горел. Люди отворачивались, чуть пригнувшись, или стояли, защищая лица руками, резко отшатывались и полуприседали, падали на колени или шли мимо, не сознавая происходящего, бежали мимо в суматохе и дыму, не замечая, или зачарованно смотрели, их тела обмякали, лица округлялись и тупели.
Когда подул ветер – внезапный порыв, – пламя пригнулось и сплющилось, но человек оставался прям, лицо видно ясно, очки расплавились и затекли в глаза.
Начал шириться стон. Стоял и выл мужчина. Две женщины сидели на бордюре и выли. Руками они обхватили себе головы и лица. Еще одна женщина хотела загасить огонь, но удалось подобраться лишь так, чтобы помахать на человека курткой, стараясь его не задеть. Он слегка покачивался, а голова у него горела независимо от тела. В пламени случился разрыв.
Занялась его рубашка – ее духовно приняло воздухом в форме лоскутьев дымной материи, – и кожа у него потемнела и вспучилась, именно этот запах они теперь и уловили – смесь горелой плоти и бензина.
Рядом с его коленом торчком стояла канистра – она тоже горела, воспламенилась, когда он поджег себя. Вокруг никаких поющих монахов в охряных одеяниях, никаких монахинь в пестро-сером. Похоже, он все сделал сам.
Он молод – или нет. Принял решение из здравой убежденности. Им хотелось, чтобы он был молод и действовал по убеждениям. Эрик полагал, что даже полиции этого хотелось. Помешанный никому не нужен. Это обесчещивает их действия, их риск, всю работу, которую они вместе провели. Он не лицо без определенного места жительства в узком пенале палаты, время от времени страдающее тем и этим, кому что-то советуют голоса в голове.
Эрику хотелось вообразить боль этого человека, его выбор, ту неизмеримую волю, которую ему пришлось призвать. Он пытался представить человека в постели, сегодня утром, вот он искоса смотрит на стену, думает, что ему предстоит сделать вплоть до сего момента. Надо зайти в магазин и купить коробок спичек? Эрик вообразил телефонный звонок кому-то очень далеко, матери или любимой.
Теперь за дело взялись операторы – они бросили спецназ, отбивающий у захватчиков башню через дорогу. Выбежали на угол, широкие мужчины, мясистым спринтом, на плечах подскакивают камеры, и туго обступили горящего человека.
Эрик опустился в машину и сел на откидное сиденье, лицом к Видже Кински.
Но даже с избиениями и газом, со встряской взрывчатки, даже в атаке на инвестиционный банк – он считал, что во всей этой демонстрации что-то театральное, заискивающее даже, в этих парашютах и скейтбордах, в пенопластовой крысе, в тактическом ходе с перепрограммированием биржевых тикеров на поэзию и Карла Маркса. Ему подумалось, что Кински права, когда она говорила, что все это – рыночная фантазия. Между демонстрантами и полицией промелькнула тень транзакции. В протесте выражалась разновидность системной гигиены – очищение и смазка. Протест снова, в десятитысячный раз, свидетельствовал об изобретательной блистательности рыночной культуры, о ее способности подгонять свою форму под собственные гибкие цели, впитывая все вокруг.
Поглядим-ка. Человек в пламени. У Эрика за спиной все экраны пульсировали этим. И все действие поставлено на паузу, и демонстранты, и спецназ болтаются без дела, лишь камеры суетятся. Что от этого изменилось? Всё, подумал он. Кински неправа. Рынок не тотален. Он не может присвоить этого человека или ассимилировать его поступок. Только не эту наглядность и не этот ужас. До такого ему не дотянуться.
Репортажи отражались у нее на лице. Она приуныла. Салон сужался кзади, а оттого ее сиденье обретало власть, обычно на этом месте сидел, конечно, он сам, и Эрик знал, как ей нравится устраиваться в кресле, обитом перчаточной кожей, и плыть через весь город днем или ночью, вещая с амвона. Но теперь она была подавлена и на него не смотрела.
– Не оригинально, – в конце концов произнесла она.
– Эй. А что оригинально? Он же это сделал, правда?
– Это присвоение.
– Он облился бензином и чиркнул спичкой.
– Все эти вьетнамские монахи, один за другим – и все в позе лотоса. [17]17
Имеется в виду один из самых громких случаев публичного самосожжения: буддийский монах из Южного Вьетнама Тхить Куанг Дык (р. 1897) 11 июня 1963 г. совершил этот акт на перекрестке Сайгона в знак протеста против притеснений буддистов католическим режимом президента Нго Динь Зьема. Позднее аналогичный поступок совершили еще несколько монахов.
[Закрыть]
– Вообрази боль. Посиди и почувствуй.
– Сжигают себя беспрестанно.
– Что-то сказать. Чтобы люди задумались.
– Не оригинально, – сказала она.
– Надо быть буддистом, чтобы к нему отнеслись всерьез? Он совершил серьезный поступок. Отнял у себя жизнь. Разве этого мало, чтобы показать всем, что не шутишь?
С ним хотел поговорить Торваль. Дверь помяли и выгнули, Торваль не сразу ее открыл. Эрик, сгорбившись, двинулся к выходу, минуя Кински, но она даже не взглянула на него.
В толпе медленно перемещались санитары «Скорой помощи», расчищая носилками дорогу. На боковых улицах выли сирены.
Тело уже перестало гореть и по-прежнему сидело прямо, истекая пар а ми и дымкой. Вонь усилилась, ее разносило ветром. А тот окреп, нес бурю, и вдали гремел гром.
У борта автомобиля два человека пребывали в состоянии официального избегания друг друга, глядели мимо. Машина присела контуженная. Ее всю измазали черно-красным. Десятки синяков и пробоев, длинные борозды царапин, обесцвеченные полосы от столкновений. Были места, где пятнами пентименто под росчерками граффити сохранились кляксы мочи.
Торваль сказал:
– Только что.
– Что?
– Сообщение из комплекса. Касательно вашей безопасности.
– Поздновато они, нет?
– Это конкретно и настоятельно.
– Значит, была угроза.
– Оценка – достоверно, красная. Высочайший порядок безотлагательности. Это значит, что нападение уже происходит.
– Вот мы и узнали.
– И теперь нам нужно действовать сообразно тому, что мы знаем.
– Но мы все равно хотим того, что мы хотим, – сказал Эрик.
Торваль подкорректировал точку зрения. Посмотрел на Эрика. Казалось, это огромный проступок, нарушение логики кодированных взглядов, оттенков голоса и прочих жестикуляционных параметров их частных условий соотнесения друг с другом. Он впервые рассматривал Эрика настолько открыто. Смотрел и кивал, следуя мрачному ходу какой-то мысли.
– Мы хотим подстричься, – сообщил ему Эрик.
Он видел, как лейтенант полиции несет рацию. Что пришло ему на ум, когда он это увидел? Ему хотелось спросить у человека, зачем он до сих пор использует это приспособление, по-прежнему называет его так, как он его называет, зачем тащит это межеумочное сокращение из эпохи промышленных излишеств в интеллектные пространства, выстроенные на лучах света.
Он вернулся в машину дожидаться, когда наконец распутается пробка. Люди начали отступать – у некоторых банданы по-прежнему предохраняли лица от жжения слезоточивого газа и щупов полицейских камер. Происходили мелкие стычки, но немного и разрозненные, мужчины и женщины бежали по битому стеклу, усыпавшему тротуары, кто-то освистывал полицейских-стоиков, размещенных на островке безопасности.
Он рассказал Кински, что услышал.
– Они считают, что угроза достоверна?
– Статус – настоятельная.
Она пришла в восторг. Снова стала собой, сама себе улыбаясь. Потом взглянула на него и разлилась смехом. Эрик не очень понял, что здесь смешного, но поймал себя на том, что и сам хохочет. Ему было определенно, четко вытравленно. Он ощущал в себе всплеск самореализации, и тот усиливался и прояснялся.
– Интересно, правда? – спросила она.
Он подождал.
– Про людей и бессмертие.
Обожженное тело завернули и укатили полусидячим, а крысы заполонили улицы, а уже прилетели первые капли дождя, и свет радикально изменялся сверхъестественным образом, который совершенно естественен, разумеется, раз все электрическое предчувствие, оседлавшее небо, – лишь драма, сотворенная людьми.
– Ты живешь в башне, что взмывает в небеса, и ее за это Господь не карает.
Она сочла, что это забавно.
– И ты себе купил самолет. Чуть не забыла. Советский или бывший советский. Стратегический бомбардировщик. Способный разнести небольшой городок. Это так?
– Это старый «Ту-160». [18]18
«Ту-160» – советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Разработан в ОКБ Туполева в 1980-х годах, на вооружении с 1987 г. Среди российских летчиков именуется «Белый лебедь».
[Закрыть]НАТО зовет его «Блэкджек-А». Поставлен на вооружение году в 88-м. Оснащен ядерными бомбами и крылатыми ракетами, – сказал он. – Только они в сделку не входили.
Она захлопала в ладоши, счастливая, очарованная.
– Но тебе не дают на нем летать. Ты можешь на нем летать?
– Мог и летал. Мне на нем не дают летать с вооружением.
– Кто не дает?
– Госдеп. Пентагон. Бюро по алкоголю, табаку и оружию.
– А русские?
– Какие русские? Я купил его на черном рынке и за сущие гроши у бельгийского торговца в Казахстане. Там и сел за штурвал – на полчаса, над пустыней. Долларов США – тридцать один миллион.
– Где он сейчас?
– Запаркован на складской площадке в Аризоне. Ждет запчастей, которые никто не может найти. Стоит на ветру. Я туда время от времени езжу.
– Делать что?
– Смотрю на него. Он мой, – ответил Эрик.
Она прикрыла глаза и задумалась. На экранах показывали диаграммы и графики, рыночные сводки. Она стиснула одну руку другой – туго, вены сплющились, от костяшек отхлынула кровь.
– Люди не умрут. Не таково ли кредо новой культуры? Людей поглотят информационные потоки. Я ничего про это не знаю. Умрут компьютеры. В своей нынешней форме они уже вымирают. Уже почти вымерли как отдельные блоки. Коробка, экран, клавиатура. Они вплавляются в текстуру повседневной жизни. Правда или нет?
– Даже слово «компьютер».
– Даже слово «компьютер» звучит отстало и тупо.
Она открыла глаза и, похоже, взглянула прямо сквозь него – говорила она тихо, и Эрик начал представлять себе, как она уселась ему на грудь посреди ночи, свечи горят, ее подхлестывает не сексуальная или какая-то демоническая сила, но желание поговорить с ним, пока он урывками спит, взболтать его сны своими теориями.
Она говорила. Такова ее работа. Она родилась ею заниматься, ей за это платят. Но во что она верит? По глазам ничего не прочтешь. По крайней мере – он не может: глаза у нее слабые, серые, отдаленные, для него неживые, временами ярко вспыхивают, но лишь в наплыве прозрения или предположения. Где у нее жизнь? Что она делает, когда приходит домой? Кто у нее дома, кроме кошки? Эрик считал, что кошка там быть должна. Как они могут о таком разговаривать, эти двое? У них нет квалификации.
Можно злоупотребить доверием, подумал он, если спросить, есть ли у нее кошка, не говоря уже про мужа, любовника, страховку. Какие у тебя планы на выходные? Такой вопрос – разновидность нападения. Она отвернется, зло и униженно. Она – голос, а тело тут как запоздалая мысль, скупая улыбка, что плывет над потоком транспорта. Придай ей историю – и она исчезнет.
– Я всего этого не понимаю, – сказала она. – Интегральные микросхемы такие крошечные и мощные. Люди и компьютеры сливаются. Это намного выше моего понимания. И начинается нескончаемая жизнь. – Она умолкла и посмотрела на него. – Разве не должна славная смерть великого человека противоречить его мечте о бессмертии?
Кински голая у него на груди.
– Мужчины думают о бессмертии. Плевать, о чем думают женщины. Мы тут слишком мелки и реальны, – сказала она. – Исторически ожидалось, что великие люди будут жить вечно, хоть они и сами надзирали за строительством собственных монументальных усыпальниц на дальнем берегу реки, на западном, там, где садится солнце.
Кински наглядна в его кошмарах – она там комментирует их же текущие события.
– И вот ты сидишь, весь такой с грандиозными видениями и гордыми деяниями. Зачем умирать, когда можно жить на диске? На диске, не в гробнице. Идеей вне тела. Разумом, который есть все, чем ты был, и все, чем будешь, только этот разум никогда не устает, не смущается, не портится. Для меня это загадка – как такое может быть. Случится ли оно когда-нибудь? Скорее, чем мы думаем, поскольку все происходит скорее, чем мы думаем. Может, даже сегодня к вечеру. Может, сегодня тот день, когда все и случится, хорошо ли это или плохо – ба-бах, вот так вот.
Были сумерки, только тусклее, в воздухе серебристая резь, а он стоял возле машины и смотрел, как из уличной толчеи выпутываются такси. Он не знал, когда ему так хорошо было в последний раз.
Давно ли? Кто знает.
Валютный тикер вернули в обычный режим работы, и иена демонстрировала новые силы, надвигаясь на доллар микроскопическими приращениями каждую секстиллионную долю секунды. Это хорошо. Это прекрасно и правильно. Эрика возбуждало мыслить зептосекундами и наблюдать цифры в их неостановимом беге. Биржевой тикер был тоже неплох. Эрик смотрел, как мимо пролетают основные заголовки, и его как-то невыразимо очищало тем, что он видит, как цены уходят в верткие пике. Да, воздействовало сексуально, точнее – куннилингвально, и он поймал себя на том, что голова у него запрокидывается, а он открывает рот небу и дождю.
Ливень омыл пустеющий простор Таймс-сквер, где призрачно осветились рекламные щиты, а баррикады покрышек прямо впереди почти расчистили, и 47-я улица открылась к западу. Дождь – это хорошо. Дождь – это драматургически правильно. Но угроза – еще лучше. Эрик заметил несколько туристов – они пробирались по Бродвею под букетами зонтиков поглазеть на обугленный участок тротуара, где неизвестный предал себя огню. Это было мрачно и неотступно. В тот момент и в этот день оно требовалось. Но трогала и ускоряла его лишь достоверная угроза. Капли дождя на лице – приятно, кислая вонь – отлично и правильно, потеки мочи на корпусе его машины созревали запахом, а впереди его ждет трепетное наслаждение, радость от всяческих несчастий в проворном падении рынков. Но именно угроза смерти на подступах ночи увереннее всего говорила с ним о некоем принципе судьбы, который – он всегда это знал – со временем прояснится.
Вот теперь он мог приступить к жизни.
Часть вторая
3
У нее была кораллово-смуглая кожа и хорошо очерченные скулы. Губы поблескивали восковым налетом. Ей нравилось, когда на нее смотрят, и раздевание свое она как бы гордо преподносила публике – разоблачение поверх всех национальных границ, с оттенком легкого показного презрения.
Пока они занимались сексом, она не снимала зайлофлексового бронежилета. Это он придумал. Она сообщила, что пуленепробиваемое волокно – легче и мягче всего, что есть в наличии, а также прочнее, кроме того – не пропускает ножевые удары.
Ее звали Кендра Хейз, и в его присутствии она не напрягалась. Секунды полторы они притворно побоксировали. Он полизал ее тело там и сям, оставляя шипучие мазки слюны.
– Вы качаетесь, – сказала она.
– Шесть процентов жира.
– У меня раньше тоже было. Потом я разленилась.
– И что ты с этим делаешь?
– По утрам на тренажерах. По ночам бегаю в парке.
У нее была коричная кожа – ну или рыжеватая, или как сплав меди и бронзы. Интересно, чувствует ли она себя обычной, когда едет одна в лифте и думает про обед?
Она сбросила жилет и с виски, заказанным в номер, подошла к окну. Одежду сложила на ближний стул. Ему хотелось провести день в тишине, у себя в отсеке для медитаций – просто глядя на ее лицо и тело, как даосское упражнение или пост разума. Он не стал у нее спрашивать, что ей известно о достоверной угрозе. Его не интересовали детали – пока, во всяком случае, и Торваль все равно много бы не рассказывал телохранителям.
– Где он сейчас?
– Кто?
– Сама знаешь.
– В вестибюле. Торваль? Следит за входящими и выходящими. А Данко в холле снаружи.
– Это еще кто?
– Данко. Мой напарник.
– Новенький.
– Это я новенькая. Он вам спину прикрывает уже долго – с балканских войн. Он ветеран.
Эрик сидел по-турецки на кровати, кидал в рот арахис и смотрел на нее.
– Как он к этому отнесется?
– Торваль? Вы о нем говорите? – Она развеселилась. – Назовите по имени.
– Что он тебе скажет?
– Лишь бы вы были в безопасности. Это его работа, – ответила она.
– Мужчины становятся собственниками. Что. Ты не знаешь?
– Слухи доходили. Но дело в том, что, говоря строго, моя смена уже час как закончилась. Поэтому теперь мы тратим мое личное время.
Она ему нравилась. Чем больше Торваль ее, судя по всему, ненавидит, тем больше она Эрику нравится. За это ее Торваль будет ненавидеть со всей пылкостью. Целыми неделями станет пялиться на нее из-под насупленных бровей.
– Считаешь, интересно?
Она сказала:
– Что?
– Оберегать кого-то от опасности.
Он хотел, чтобы она подвинулась чуть левее, поймала бедром свет ближней лампы.
– Отчего ты на это идешь? Рискуешь.
– Может, вы того стоите, – ответила она.
Она макнула палец в стакан, потом забыла облизнуть.
– Может, из-за денег. Платят очень неплохо. Риск? О риске я не думаю. Прикидываю, риск-то тут ваш. В прицеле же вы.
Она решила, что это смешно.
– Но интересно?
– Интересно быть рядом с человеком, которого кто-то хочет убить.
– Ведь знаешь, что говорят, правда?
– Что?
– Убийство – логическое продолжение бизнеса.
Тоже смешно.
Он сказал:
– Подвинься левее.
– Подвинуться левее.
– Вот так. Славно. Идеально.
У нее лисье-смуглая кожа, волосы туго заплетены у самого черепа.
– Как он тебя вооружил?
– Электрошокер. Пока не доверяет мне смертоносное оружие.
Она подошла к кровати и взяла у Эрика из руки стакан с водкой. Он по-прежнему кидал в рот орешки и не мог остановиться.
– Вам нужно лучше питаться.
Он сказал:
– Сегодня иначе. Сколько вольт у тебя в распоряжении?
– Сто тысяч. Коротит всю нервную систему. Падаешь на колени. Вот так, – сказала она.
Она капнула водкой ему на гениталии. Ужалило, стало жечь. При этом она смеялась, и ему захотелось, чтобы она сделала так еще. Она снова полила струйкой и наклонилась вылакать, искупала его языком в водке, затем встала над ним на колени, оседлав. В руках у нее было по стакану, и она пробовала удержать равновесие, пока они подскакивали и смеялись.
Он допил ее скотч и горстями ел арахис, пока она ходила в душ. Смотрел на нее в душе и думал: вот женщина ремней и завязок. На каком-то уровне голой она не будет никогда.
Потом он стоял у кровати и смотрел, как она одевается. Не спешит, бронежилет защелкивается на торсе, брюки сейчас защелкнутся, дальше обувь – она уже прилаживала кобуру к бедру, когда заметила, что он стоит в одних трусах.
Он сказал:
– Оглуши меня. Я серьезно. Вытащи пушку и пали. Я этого хочу, Кендра. Покажи мне, как это. Мне хочется еще. Покажи мне такое, чего я не знаю. Оглуши меня до самой ДНК. Давай же, ну. Щелкни переключателем. Прицелься и стреляй. Я хочу получить все вольты, что в нем только есть. Давай. Пали. Ну.
Машина стояла у отеля, через дорогу от театра «Бэрримор», [19]19
«Театр Этель Бэрримор», названный в честь американской театральной актрисы Этель Бэрримор (1879–1959), открылся в 1928 г. и располагается по адресу Западная 47-я улица, 243.
[Закрыть]где под козырьком сгрудились курильщики в антракте.
Эрик сидел в машине, занимал иену и смотрел, как на нескольких экранах цифры его фонда тонут в дымке. Торваль стоял под дождем, сложив руки на груди. Одинокая фигура на улице, лицом к ряду пустых погрузочных эстакад.
Кутерьма с иеной освобождала Эрика от влияния неокортекса. Он себя чувствовал свободнее обычного – настроен на регистры подкорки, а от необходимости вдохновенных действий все дальше: не нужно выносить оригинальные суждения, придерживаться независимых принципов и убеждений, тут все сразу, отчего у людей в головах пиздец, а у крыс и птичек – нет.
Наверное, помог электрошокер. От напряжения вся его мускулатура минут на десять-пятнадцать обратилась в студень, и он катался по коврику в номере, дергаясь в электроконвульсиях, в странном возбуждении, без всяких способностей рассуждать.
Но теперь мыслить мог – и неплохо для того, чтобы понимать, что происходит. Валюты рушились повсюду. Распространялись банковские крахи. Эрик нашел хумидор и зажег сигару. Стратеги не могли объяснить эти скорость и глубину падения. Открывали рты, из них выходили слова. Он знал, что дело в иене. Бури беспорядка вызывались его действиями по отношению к иене. Он использует столько заемных средств, портфель его фирмы так велик и обширен, критически связан с делами стольких ключевых финансовых институтов, и все они взаимно уязвимы, что сейчас вся система в опасности.
Эрик курил и смотрел, ощущая свою силу, гордый, глупый и надменный. Кроме того, ему было скучно и немного наплевать. Они делают из мухи слона. Он считал, что все через день-другой закончится, и уже собрался было передать кодовое слово шоферу, когда заметил, что люди под козырьком разглядывают его машину, всю помятую и разукрашенную.
Он опустил окно и пристальнее всмотрелся в одну женщину. Сперва решил, что это Элиза Шифрин. Так вот он думал иногда о своей жене – полным именем, ввиду ее относительной известности в светской хронике и модных журналах. Потом засомневался, кто это – либо из-за того, что вид ему частично перекрыли, либо из-за того, что у рассматриваемой женщины в руке была сигарета.
Он с силой толкнул дверь и перешел дорогу, под боком – Торваль, умело сдерживая ярость.
– Мне нужно знать, куда вы направляетесь.
– Подожди, узнаешь, – сказал он.
Женщина отвернулась, когда он подошел. Элиза и есть, в профиль – как ни в чем не бывало.
– Ты куришь с каких пор.
Она ответила, не обернувшись, из кажущегося далека.
– Начала в пятнадцать. Девочки это подхватывают. Сигарета сообщает девочке, что она не просто костлявое тело, на которое никто не смотрит. Что в ее жизни есть место драме.
– Она себя замечает. Следом ее замечают другие. За одного она выходит замуж. Потом они идут ужинать, – сказал он.
Торваль и Данко взяли машину в клещи, и она не спеша двинулась по улице среди россыпи такси, а муж и жена оценивали перспективы наличных питательных заведений. На одном экране появился справочник ресторанов на этой улице, и Элиза выбрала старое надежное бистро под землей. Эрик выглянул в окно и увидел щель в стене под названием «Маленький Токио».
Внутри было пусто.
– На тебе кашемировый свитер.
– Это правда.
– Бежевый.
– Да.
– А это твоя юбка с бисером ручной вышивки.
– Да, она.
– Я замечаю. Как пьеса?
– Я ушла в антракте, нет?
– О чем и кто играл? – Я поддерживаю разговор.
– Я вдруг решила сходить. В зале почти никого. Через пять минут после занавеса я поняла, почему.
У столика высился официант. Элиза себе заказала салат из свежей зелени, если это возможно, и бутылочку минеральной воды. Без газа, пожалуйста, простую.
Эрик сказал:
– А мне дайте сырую рыбу с гидрагирозом.
Он сидел лицом к улице. Данко стоял снаружи у самой двери, женщины с ним не было.
– Где твой пиджак?
– Где мой пиджак.
– Раньше на тебе был пиджак от костюма. Где твой пиджак?
– Потерялся в суете, наверное. Ты же видела машину. На нас напали анархисты. Всего два часа назад они устроили самую большую демонстрацию на свете. А теперь что, забылось.
– Я бы хотела забыть и кое-что еще.
– От меня пахнет арахисом.
– Я разве не видела, как ты выходишь из отеля чуть выше по улице, пока стояла возле театра?
Ему это очень нравилось. Она ставит себя в невыгодное положение, устраивая ему такой мелочный допрос, а он себя ощущает мальчишески изобретательным бунтарем.
– Я мог бы тебе сказать, что надо было провести экстренное совещание штата в связи с кризисом. Ближайший конференц-зал был в отеле. Или мог бы сказать, что мне понадобилось зайти в мужскую комнату в вестибюле. В машине есть туалет, но ты этого не знаешь. Или что я пошел в оздоровительный клуб отеля сбросить напряжение дня. Мог бы тебе сказать, что час провел на беговом тренажере. А потом пошел поплавать, если там есть бассейн. Или поднялся на крышу посмотреть, как сверкает молния. Обожаю, когда дождь нерешительный, в наши дни такое с ним бывает редко. В нем что-то от кнута, когда он волнисто хлещет по крышам. Или что бар в машине необъяснимо опустел, и я зашел выпить. Я мог бы тебе сказать, что зашел выпить в вестибюльный бар, где всегда свежий арахис.
Официант сказал:
– Приятного аппетита.
Она посмотрела на салат. Затем принялась его есть. Просто вкопалась в него, он для нее пища, а не какая-то экструзия материи, которую не может объяснить наука.
– Ты меня в этот отель хотел позвать?
– Нам не нужен отель. Мы это сделаем в дамской комнате. Зайдем в переулок за домом и погремим мусорными баками. Послушай. Я стараюсь наладить контакт наиобычнейшим способом. Видеть и слышать. Обращать внимание на твои настроения, на твою одежду. Вот что важно. Не сбились ли чулки на сторону? На каком-то уровне я это понимаю. Как люди выглядят. Что люди носят.
– Как они пахнут, – сказала она. – Ничего, что я об этом? Веду себя, как жена? Я скажу тебе, в чем проблема. Я не умею быть безразличной. Ничего не могу с этим сделать. А оттого уязвима для боли. Иными словами, мне больно.
– Это хорошо. Мы беседуем, как люди. Люди разве не так разговаривают?
– Откуда мне знать?
Он проглотил сакэ. Повисла долгая пауза.
Он сказал:
– У меня асимметричная простата.
Она откинулась на спинку и задумалась, глядя на него с долей озабоченности.
– Что это значит?
Он ответил:
– Я не знаю.
Осязаемая корректировка, разделенное беспокойство и восприимчивость.
– Тебе нужно к врачу.
– Я только что встречался с врачом. Я встречаюсь с врачом каждый день.
Зальчик, улица снаружи была совершенно тиха, и они теперь шептались. Никогда не были так близки, считал он.
– Ты только что встречался с врачом.
– Оттого и знаю.
Они над этим задумались. Хотя миг суровый, между ними проскочило нечто отдаленно забавное. Может, в неких частях тела таится юмор, хотя неполадки этих частей медленно тебя убивают, близкие собираются у одра, над испакощенными простынями, а другие в вестибюле, курят.
– Послушай. Я женился на тебе из-за твоей красоты, но тебе не нужно быть красивой. Я женился из-за денег в каком-то смысле, из-за их истории, когда они много поколений копились, и мировые войны не помеха. Мне это не особо нужно, но чуточку истории не помешает. Семейные слуги. Винные погреба. Дегустации только для своих. Вместе выплевывать мерло. Глупо, но мило. Вина поместного разлива. Скульптуры в ренессансном саду под виллой на холме, среди лимонных рощ. Но тебе не нужно быть богатой.
– Мне просто нужно быть безразличной.
Она заплакала. Он никогда не видел, как она плачет, и ему стало беспомощно. Вытянул руку. Она так и осталась вытянутой, между ними.
– На нашей свадьбе ты был в тюрбане.
– Да.
– Моей матери очень понравилось, – сказала она.
– Да. Но теперь я ощущаю перемену. Вызываю перемену. Ты читала меню? У них есть мороженое из зеленого чая. Тебе такое может понравиться. Люди меняются. Я знаю, что теперь важно.
– Скучно это говорить. Прошу тебя.
– Я знаю, что сейчас важно.
– Хорошо. Но отметь скепсис в голосе, – сказала она. – Так что сейчас важно?
– Осознавать, что вокруг. Понимать ситуацию другого человека, его чувства. Знать, короче говоря, что важно. Я думал, тебе надо быть красивой. Но это уже неправда. Еще сегодня днем было. Но все, что было правдой тогда, теперь неправда.
– Что означает, насколько я понимаю, что ты меня красивой больше не считаешь.
– Зачем тебе быть красивой?
– Зачем тебе быть богатым, знаменитым, умным, могущественным и зачем, чтобы тебя боялись?
Рука его по-прежнему висела между ними. Он взял ее бутылку воды и допил. Затем сказал, что портфель «Капитала Пэкера» за день сократился почти до полного исчезновения, а его личное состояние в десятки миллиардов с этим фактом состоит в пагубной конвергенции. Кроме того, сообщил, что кто-то в этой дождливой ночи представляет собой достоверную угрозу его жизни. Затем посмотрел, как она переварит новости.
Он сказал:
– Ты ешь. Это хорошо.
Но она не ела. Она переваривала новости, сидя в белом безмолвии, вилка наготове. Ему хотелось вывести ее в переулок и там заняться с нею сексом. А дальше – что? Этого он не знал. И вообразить не мог. Но он такого никогда не мог. Для него имело смысл, что его непосредственные и затянувшиеся будущие спрессуются в те события, что произойдут за несколько следующих часов, какими бы ни были, или минут, или даже меньше. Только такую продолжительность жизни он признавал реальной.