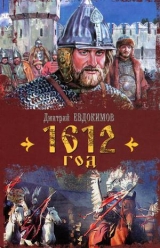
Текст книги "1612 год"
Автор книги: Дмитрий Евдокимов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Только в ночь на 6 апреля ополченцы заняли стены и башни Белого города. В руках поляков осталась лишь небольшая часть от Москвы-реки до Никитских ворот и Пятиглавая башня у моста.
Рязанские и северские полки Ляпунова выдвинулись от Симонова монастыря к Яузским воротам. Рядом с ними, до Покровских ворот, заняло место воинство Дмитрия Трубецкого. Покровские ворота занял Иван Заруцкий. У Сретенских ворот стал Артемий Измайлов с владимирцами, рядом – Андрей Просовецкий с казаками, далее, на Трубе, Борис Репнин с нижегородцами, у Петровских ворот – Иван Волынский с ярославцами и Федор Волконский с костромичами, у Тверских – Василий Литвин-Масальский с муромцами и стрельцами Троице-Сергиева монастыря. Подошли ополченцы из Галицкой земли во главе с Петром Мансуровым, из Вологодской земли и поморских городов – с воеводой Петром Нащокиным, князьями Иваном Козловским и Василием Пронским.
В Замоскворечье по приказу Ляпунова были построены два острожка, соединенных глубоким рвом. Отсюда из привезенных орудий постоянно обстреливался Кремль.
Обилие воевод и атаманов не способствовало объединению усилий ополченцев во взятии Москвы. Каждый действовал на свой страх и риск, ограничиваясь вылазками в сожженный город, чтобы пошарить по погребам в поисках съестного. Нередко при этом русские ополченцы сталкивались нос к носу с польскими искателями легкой наживы. К Ляпунову пришло известие, что у Можайска появились воины Сапеги, и неизвестно было, к какой стороне он в конце концов примкнет. Ляпунов, державшийся до того крайне надменно по отношению не только к казацким головам, но и земским воеводам, решился поступиться гордостью и собрать военный совет. На совете избрали трех главных воевод: двух думных бояр самозванца – Трубецкого и Заруцкого и думного дворянина при Шуйском – Ляпунова. Отныне все грамоты ополчения должны были подписывать все трое, без этого ни одна грамота не считалась действительной.
Хотя подпись Ляпунова формально по старшинству должна была ставиться в грамотах третьей, он твердо занял на совете главенствующее положение, к неудовольствию Трубецкого и Заруцкого. Но рязанца поддерживали единодушно все воеводы городов и даже казацкие атаманы Просовецкий, Беззубов, искренне желавшие скорейшего освобождения Москвы.
Часть шестая
Земский собор
Сначала была кромешная мгла, сквозь которую Пожарский лишь порой чувствовал осторожные прикосновения чьих-то рук. Потом он надолго вновь впадал в небытие, ощущая, что отрывается от своего неподвижного бренного тела и улетает в бесконечную высь, навстречу ослепительному свету, играющему всеми цветами радуги. Жгучая тоска охватывала его душу, ибо он понимал, что улетает навсегда. Однако через какое-то время возвращался и слышал бормотание инока:
– Благословен будь раб Божий Дмитрий!
Наконец однажды, напрягши всю свою волю, он сумел разлепить сомкнутые веки. Сквозь розовую пелену сначала смутно, а затем все явственнее ему удалось разглядеть милое, родное лицо жены.
– Прасковьюшка! – одними губами произнес Дмитрий.
– Князюшка! Очнулся! Наконец-таки! Слава тебе, Господи! – расцвела радостной улыбкой Прасковья Варфоломеевна.
Она нежно отерла влажным полотенцем осунувшееся лицо супруга. Дмитрий попытался повернуться и охнул от нестерпимой боли в голове, снова погружаясь во тьму.
Но сознание с той поры стало возвращаться к нему все чаще и чаще. Он уже знал о том, что находится в обители Троице-Сергиева монастыря, и уже не удивлялся постоянному бормотанию из угла кельи: монахи, сменяя друг друга, денно и нощно молились о его выздоровлении. Каждый день к нему приходил посланец архимандрита, старец Дорофей, он делал перевязки, поил раненого отварами из целебных трав.
Навестил его, когда князь пошел на поправку, и сам архимандрит Дионисий, настоятель монастыря. Был владыка высок ростом, статен, с благородным челом, украшенным роскошною русой бородой до пояса. Голос его был мягок и благозвучен. Большие голубые глаза излучали доброту. Он благословил раненого, коснувшись крестом его лба, вознес благодарность Господу, спасшему воеводу.
– Слава о тебе, Дмитрий Михайлович, идет по всей земле Русской. О твоем подвиге по защите Москвы молвят все, кто приходит оттуда!
Дмитрий, услышав добрые слова, прикрыл глаза. Скупая слеза прокатилась по его впалой щеке. Он прерывисто вздохнул, чтоб удержать всхлипы.
– Не смог я от ворога Москву-матушку охранить. Видать, слаб для такого дела оказался. Не ждал, что немцы с литвой дома жечь начнут. Теперь вся надежда только на Прокопия Ляпунова. Он – опора всему ополчению.
Дионисий перекрестился:
– Вечная ему память! Нет более воина великого, столпа веры – Прокопия.
Пожарский, будто не ощущая боли, приподнялся на подушках:
– Что ты говоришь, владыка? Как же так? В бою против Прокопия никакой польский гусар не устоит!
– Не поляки, а свои, казаки Заруцкого, обманом воеводу зарубили, по вражескому навету.
Пожарский, упав на подушки, заплакал, уж не скрывая слез:
– Неужто пришла погибель для всей Руси?
– Не надо отчаиваться, князь, – утешил его Дионисий. – Не даст Бог православным от литвы проклятой сгинуть. Хоть и светоч наш и учитель Гермоген в заточении томится, голос Церкви не утишится! Писцы нашего монастыря пишут денно и нощно грамоты для всех городов, чтоб вновь объединялись именем пастыря нашего преподобного Сергия!
Пожарский благодарственно поцеловал легкую сухую руку архимандрита, вновь возложенную на его чело.
Богатырский организм князя брал свое. Настал день, когда он, поддерживаемый своими новыми стремянными, казаками Семеном и Романом, которые пристали к его отряду еще в Москве, смог первый раз выйти на прогулку. Его сопровождал Дорофей.
Пожарский был потрясен, увидев, сколько раненых и больных находилось в монастыре и его окрестностях.
– Когда тебя привезли сюда без памяти, – поведал ему Дорофей, – то за тобой потянулись тысячи людей, бежавших от зверств литвы. Многие ползли из последних сил, чтоб в монастыре исповедаться и умереть. Как увидел этих страдальцев наш преподобный настоятель, заплакал от боли душевной горючими слезами, созвал всю братию и сказал, что надобно изо всех сил помогать людям, что ищут приюта у святого Сергия. Но келарь Авраамий Палицын, а с ним некоторые из иноков воспротивились сему, убоясь за монастырскую казну. Ответил им на их сомнения Дионисий: «Дом Святой Троицы не запустеет, если станем молиться Богу, чтоб дал нам разум, только положим на том, что всякий был промышлен чем может!» Тогда пришли к архимандриту и братии монастырские крестьяне и сказали: «Если вы, государи, будете давать из монастырской казны бедным на корм, одежду, лечение и работникам, кто возьмется стряпать, служить, лечить, собирать и погребать, то мы за головы свои и за животы не стоим». Так все и устроилось Божьим промыслом.
– Сколько же людей вы приняли? – спросил Пожарский.
– Многие тысячи, – ответил старец. – Прежде всего начали строить домы – больницы в Служней слободе и в селе Клементьеве, особо для мужчин и особо для женщин, и избы на странноприимство всякого чина людям. Монастырские люди стали ездить по селам и дорогам, собирая раненых и мертвых. Похоронили уже более трех тысяч. Женщины, что нашли у нас приют, шьют рубашки и саваны, стирают, еду готовят. А преподобный настоятель наш со своими служителями молит Бога за страждущих. Встает Дионисий каждый день во время соборного утреннего благовеста, бьет триста земных поклонов у образа Пречистой Богородицы, потом велит будить братию к заутрене. Сам ведет службу, поет шесть, а то и восемь молебнов.
– Истинно благочестивый муж! – восхитился Дмитрий.
– Воистину! – привычно перекрестился монах.
Как-то в одну из прогулок они посетили келью, где при постоянно горящих свечах трудились писцы. Здесь князь познакомился с монахом Алексеем Тихоновым и попросил показать грамоту, списки с которой были разосланы по городам.
Вот что в ней было написано:
«Православные христиане! Вспомните истинную православную христианскую веру, что все мы родились от христианских родителей, знаменались печатаю, святым крещением, обещались веровать во Святую Троицу; возложите упование на силу креста Господня и покажите подвиг свой, молите служилых людей, чтоб быть всем православным христианам в соединении и стать сообща против предателей христианских, Михаилы Салтыкова и Федьки Андронова, и против вечных врагов христианства, польских и литовских людей. Сами видите конечную от них погибель всем христианам, видите, какое разорение учинили они в Московском государстве; где святые Божии церкви и Божии образы? Где иноки, сединами цветущие, и инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием; не пощажены ни старики, ни младенцы грудные. Помяните и смилуйтесь над видимою общею смертию-погибелью, чтоб вас самих также лютая не постигла смерть. Пусть служилые люди без всякого мешкания спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам. Сами знаете, что всякому делу одно время надлежит, безвременное же всякому делу начинание суетно и бездельно бывает, хотя бы и были в ваших пределах какие неудовольствия, для Бога отложите все это на время, чтобы всем нам сообща потрудиться для православной христианской веры, пока к врагам помощь не пришла. Смилуйтесь, сделайте это дело поскорее, ратными людьми и казною помогите, чтоб собранное теперь здесь под Москвою войско от скудости не разошлось».
Последние строчки Пожарский читал нахмурившись.
– Что, не все лепо? – встревоженно спросил Тихонов.
– А кто теперь вместо Ляпунова за старшего воеводу?
– Боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
– Боярство то незаслуженное! – зло бросил Пожарский. – Он его из рук Тушинского вора получил! Да и какой из него воевода? Уж я-то видел его в бою – горазд только назад скакать!
– А наш келарь Авраамий Палицын, что только что оттуда приехал, рек, деи, Трубецкой крепко за веру святую стоит! – возразил монах.
Пожарский с сомнением взглянул на него:
– Дай Бог, конечно. Но думаю, что слаб он для этого дела. Ополчению нужен такой вождь, как был Ляпунов или князь Василий Васильевич Голицын. Но он далече, в послах у Жигимонта…
– Уже не в послах, а в королевской тюрьме! – торопливо откликнулся Тихонов.
– В тюрьме? Как же можно посла в полон взять? – не поверил Пожарский.
– Мне наш келарь сказывал, – настаивал монах. – Он-то уж верно знает, сам был в этом посольстве.
– Ну и вездесущ ваш келарь! Видать, суемудрый муж, – не сдержал усмешки Дмитрий. – Как же он избежал плена?
– Хитростью! Втайне от митрополита Филарета присягнул на верность королю Жигимонту.
– Так это не хитростью, а предательством называется! – не удержался Дмитрий.
– Он же не для себя старался! – укоризненно ответил монах. – Отец Авраамий об обители нашей пекся. Ведь он получил от Жигимонта тарханную утвердительную грамоту на все монастырские вотчины. Жигимонт его так возлюбил, что в грамоте назвал Авраамия своим «богомольцем» и повелел архимандриту и братии за него, господаря, и сына его, Владислава, Богу молити.
– Это же страшный грех! Чтоб Православная Церковь молилась за католика! – в ужасе воскликнул князь.
– Тот грех отпущен преподобным Дионисием! – важно провозгласил монах. – Ибо делалось сие во имя процветания обители.
– Ложь во спасение! – грустно усмехнулся Дмитрий. – Но ложь все равно остается ложью! И значит – это зло, в какие бы красивые слова она ни облекалась.
…Наконец решено было перевезти Пожарского из монастыря в его поместье Мугреево. Здесь его ждало новое огорчительное известие. Его сосед, давний завистник Григорий Орлов, в момент московского восстания находился в Кремле, в услужении думским боярам. Узнав об участии Пожарского в восстании и его тяжелом ранении, Орлов тут же накатал донос на имя польского короля:
«Наияснейшему великому государю Жигимонту, королю польскому и великому князю литовскому, и государю царю и великому князю Владиславу Жигимонтовичу всея Руси бьет челом верноподданный вашие государские милости Гришка Орлов. Милосердные великие государи! Пожалуйте меня, верноподданного холопа своего, в Суздальском уезде изменничьим княжь Дмитриевым поместенцом Пожарского, селцом Ландехом Нижним з деревнями; а князь Дмитрий вам государем изменил, отъехал с Москвы в воровские полки, и с вашими государевыми людми бился втепоры, как на Москве мужики изменили, и на бою втепоры ранен. Милосердные великие государи! Смилуйтеся, пожалуйте».
Это прошение Орлов подал Гонсевскому, и тот милостиво приказал Мстиславскому выдать изменнику жалованную грамоту. Дума, не замедля, известила крестьян Нижнего Ландеха о их новом владельце: «И вы б все крестьяне, которые в том селе и в деревнях и в починках живут и на пустошах учнут жити, Григория Орлова слушели, пашню на него пахали и доход ему помещиков платили».
От неприятных волнений вновь начала кровоточить рана на голове. Мать князя, Мария Федоровна, велела срочно доставить знахарку, бабку из дальней лесной деревни. Бабка ловко обрила отросшие за время болезни волосы на голове раненого, обнажив страшный кровавый рубец.
– Фу-ты, Боже мой! – бормотала старушка. – Рана чистая, нет синей опухоли.
Она ловко сжала шрам указательным и большим пальцами и, поплевав на него, зашептала слова заговора:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь! Лягу благословясь, стану перекрестясь; выйду из дверей в двери, из ворота в ворота; погляжу в чистое поле – едет из чистого поля богатырь, везет вострую саблю на плече, сечет и рубит он по мертвому телу, не течет ни кровь, ни руда из энтова мертвого тела! Дери дерись, земля крепись, а ты, кровь, у раба Божия Дмитрия Михайловича уймись!
Все это старушка повторила три раза, не переводя дыхания. Потом она смазала рану смесью из медвежьей желчи, куриных яиц, дрожжей и горелого вина. Кровотечение остановилось, и князь сразу почувствовал себя легче. Прошло немного времени, и в одно прекрасное утро он смог без посторонней помощи сесть на своего доброго коня, а рука его, как прежде, сжимала рукоять сабли.
Но радость оказалась преждевременной. После того как Дмитрий проскакал несколько верст и спешился у крыльца, он неожиданно рухнул на землю, и его руки и ноги задергались в судорогах.
– Черная немочь! – в ужасе воскликнула мать, выбежавшая на крыльцо, чтобы встретить сына.
Да, хотя страшная рана на голове и совсем зарубцевалась, однако князю навсегда теперь было суждено страдать от приступов черной немочи, или падучей, как еще называли эту болезнь. После каждого приступа он лежал в бессилии по нескольку дней, страдая от мучительной головной боли. Отныне он выходил из дома только в сопровождении своих стремянных, чтобы не разбиться во время внезапного приступа. К счастью, припадки постепенно стали приходить реже.
Однажды, когда Дмитрий отлеживался на широкой лавке в горнице после очередного приступа, к нему приехали гости из Нижнего Новгорода. Это был старый знакомец Пожарского, с которым вместе они разгромили банду Лисовского, сын боярский Ждан Петрович Болтин, а с ним печерский архимандрит Феодосий и несколько именитых купцов.
Жена подложила под спину князя подушки повыше, так что он смог встретить гостей сидя. После учтивых приветствий гости чинно расселись на лавках напротив князя. Пожарский был смущен, он не любил показывать свою слабость на людях.
– Какие новости привезли, гости дорогие? – спросил он наконец.
Гости переглянулись, решая, кто заговорит первым. Слово взял на правах человека, уже знаемого князем, Ждан Болтин:
– Нижний Новгород гудит, что твой пчелиный рой!
– Что так?
– Были у нас на посаде первого сентября, по случаю Нового года, выборы. Избрали среди прочих земским старостой Козьму Захаровича Минина-Сухорукого. Может, слыхал о нем, князь?
– Знаком я с ним. Добрый муж, честный, – ответил Пожарский. – В голодное время, еще при царе Борисе, он закупил для меня скот в понизовье. Без его помощи мне бы моих крестьян не прокормить…
– Он с нами был в ополчении под Москвой, – продолжал Болтин. – А когда Ляпунова убили и казаки бесчинствовать над земцами начали, мы и пошли прочь по домам…
– Позволь, Минин – в ополчении? – недоуменно переспросил князь. – Ведь у него одна рука…
– Точно, левая плохо действует. За что и прозвище Сухорукий получил, – ответил Болтин. – Он еще в малолетстве, когда с отцом соль варил, упал в яму, откуда соль брали. Вот руку и сломал, она и расти перестала. Потому Козьма в город и подался, торговлей стал промышлять.
– Да ведь наш Минин и с одной рукой неплохо управляется! – не выдержал один из купцов. – Он одним ударом кулака любого быка завалит.
Все рассмеялись, но тут поднял руку архимандрит Феодосий, гася неуместный смех. Он продолжил рассказ:
– Когда Минина в старосты избрали, он здесь же, на площади, ко всему народу и обратился. Рассказал, что, когда грамоту от Гермогена у нас в Нижнем на посаде зачитали, в следующую же ночь будто бы ему диковинное видение было. В эти дни он не в доме, а в саду ночевал, в повалуше. Так вот, лежит он в темноте, вдруг сверху яркий свет и голос: «Повелеваю тебе, Козьма, казну собирать, ратных людей наделять и с ними идти на очищение Москвы от ворогов». И понял Козьма, что слышит он голос святого Сергия! Однако когда проснулся поутру, сомнение его взяло – точно ли видение было? Да и видано ли, чтобы ему, черному мужику, такое дело было доверено? Никому ничего он не сказал, а ночью снова голос слышит: «Разбуди всех уснувших и иди на Москву». И опять Козьма не поверил. А на третью ночью – тот же голос, но уже грозно рек: «Вставай и иди! На то есть Божие изволение помиловать православных христиан и от великого смятения привести в тишину!»
Все перекрестились на красный угол, где находился иконостас с горящими свечами. Пожарский, опершись на локоть, жадно слушал рассказ святого отца.
– И что же Минин? – нетерпеливо спросил он.
– Пришел Козьма в трепет от этого нового видения и долго лежал не шевелясь. Как раз в этот же день избрали его земским старостой, и понял Козьма, что это случилось по Божию указанию. И тогда обратился Минин ко всем людям посадским, рассказал им о своих видениях и рек еще: «Московское государство разорено, люди посечены и пленены, невозможно рассказать о таковых бедах. Бог хранил наш город от напастей, но враги замышляют и его предать разорению, мы же нимало об этом не беспокоимся и не исполняем свой долг!»
– Ну и что люди на это ответили? – спросил снова Пожарский.
– Сначала многие, особенно из лучших людей, сомневались, – ответил один из купцов. – Особенно стряпчий Иван Биркин разорялся. Обидно ему показалось, Господь Минина избрал, а не кого-нибудь из более достойных, вроде его самого. Вот он и начал кричать, что не верит Козьме. Тут посадские вступились за своего старосту: «Зато мы верим! Он никогда не кривил, всегда честным был. А ты, Ивашка, Тушинскому вору служил». Тут Минина протопоп Савва из соборной церкви поддержал, призвал всех стать за веру. Так мы и решили – будем ополчаться!
– Молодцы, истинно молодцы! – воскликнул Дмитрий. – Как это у вас говорится: «Нижегородцы – не уродцы. Дома каменные, люди железные!»
– Запомнил, князь? – удивился Болтин.
– А как же таких воинов забыть?
– Да вот только воинов-то у нас маловато, – сокрушенно ответил Ждан. – Посадские люди не искусны в ратном деле, потому решили клик кликать по вольных служилых людей.
– А где такую большую казну возьмете?
– Сбор начали. Уже две тысячи пятьсот человек посадских, каждый третью деньгу отдал, всего тысячу семьсот рублев набрали. У Минина было накоплено триста рублев, так он сто отдал. А одна вдова десять тысяч отдала в сбор, а себе оставила всего две.
Пожарский порывисто приподнялся на постели:
– Великое дело творите, мужи нижегородские!
– И не только нижегородские! – ответил ему архимандрит печерский Феодосий. – Удивительно то, что по всей Руси соблюдается пост во имя очищения! И не по повелению Церкви, а во исполнение воли Божьей! Это откровение свыше явилось благочестивому человеку по имени Григорий у нас, в Нижнем Новгороде. Велено было ему это Божие слово проповедовать по всей Руси. Этот Григорий сподобился страшного видения в полуночи: будто снялась с его дома крыша, и свет вечный облистал комнату, куда явились два мужа с проповедью о покаянии, очищении всего государства нашего! Сказывают, будто и во Владимире было такое же видение. И после этого во всех городах всем православным народом приговорили поститься, от пищи и питья воздержаться три дня даже и с грудными младенцами. И по приговору, по своей воле христиане постятся: три дня – в понедельник, вторник и среду ничего не едят и не пьют, а в четверг и пятницу – едят сухо…
– Воистину – то диво дивное! – перекрестился Пожарский, а следом и гости.
Князь опустил голову, задумался, потом твердо сказал:
– Спасибо вам, гости дорогие, за вести добрые. Верьте, что как только силу почувствую, буду я в вашем ополчении, буду сражаться за землю Русскую.
Гости поклонились в знак благодарности, однако уходить не спешили, переглядывались и перешептывались.
Пожарский понял это по-своему:
– Относительно моего имущества не сомневайтесь: не то что треть, а больше отдам!
Ждан Болтин торжественно произнес:
– Видно, мне выпала честь произнесть главную весть!
Князь вновь приподнялся на подушках:
– Что такое? Аль вы еще не все сказали?
– Нет! Не сказано главное!
– Главное? – занедоумевал князь.
– Да, главное. Весь нижегородский мир просит тебя, Дмитрий Михайлович, стать во главе нашего ополчения!
Князь не поверил своим ушам, переспросил:
– Во главе? Мне?
Гости дружно встали и поклонились ему до земли. Рука Пожарского внезапно задрожала, он ухватился ею за нательный крест, а на щеках появились предательские слезы. Чтобы скрыть их, он опустил голову на грудь, потом выдавил:
– Благодарю вас и весь мир нижегородский за столь высокую честь, которой недостоин! Да и взаправду: много есть мужей, которые выше меня по месту своему возле престола царского.
Болтин бросил с вызовом:
– Конечно, есть и повыше, да только где они все? У престола Жигимонта либо у престола нового самозванца! Ты один, князь, всегда прямил только государям законным, всегда честь свою и слово блюл и воинскую славу себе только в правом деле стяжал! Не думай, люди все видят и знают!
Пожарский неожиданно тяжело понурился:
– Неужто никого из бояр нет, чтобы изменой себя не запятнал?
– Назови сам…
Дмитрий, знавший всех придворных, мысленно перебрал их поименно и лишь тяжело покачал головой.
– Нет, что-то не упомню…
– Мы не торопим тебя, князь-батюшка! – снова продолжил Болтин. – Нам ли не знать, коль тяжело это великое дело! Но отказываться тебе никак нельзя.
– Вся земля Нижегородская тебя просит! – поклонились купцы.
– Точно ли вся земля? – спросил Пожарский. – Давайте договоримся так: пусть все нижегородцы, от мала до велика, подпишут приговор стоять заодно, за правду неподвижную! И пусть этот приговор привезет мне Козьма Минин, как выборный человек всей земли вашей. Тогда-то мы и обсудим, как действовать далее.
Когда гости удалились, в комнату Дмитрия вошла Мария Федоровна.
Пожарский тревожно взглянул на нее:
– Слыхала, матушка, зачем гости приезжали?
– Не слыхала, да сердцем поняла!
– Ну и что скажешь? Благословляешь ли?
Та приникла губами ко лбу князя:
– Сынок мой ненаглядный! Что я могу сказать? Разве что: тебе исполнилось тридцать три года. То возраст для великих деяний. Не гости нижегородские, тебя Бог позвал Россию, нашу матушку, из беды вызволить.
Через несколько дней к Пожарскому прискакал Козьма Минин. Был он намного старше князя, но столь же высок и широкоплеч. Он попытался было отвесить встречавшему его на крыльце хозяину земной поклон, но тот властно удержал его за плечо:
– Вот это не надобно. Коль мы оба поставлены на ополчение, поклоны друг другу бить – делу помеха!
– Так ты же меня поставил?
– А разве нижегородцы тебя не избрали всем миром? – насупился Пожарский.
– Избрали…
– То-то же. Пошли в дом.
Усадив гостя в горнице в передний угол, князь без проволочек спросил:
– Приговор привез?
– Привез…
– Все ли подписали?
– Сначала те, что из лучших, колебались, да их собственные дети стыдить начали.
– А что так?
– Так ведь чем больше деньжат, тем жальче с ними расставаться.
– Это точно. Давай грамоту, прочитаю.
Минин протянул свиток.
– Сам-то внимательно читал? Нет ли каких уверток? – поинтересовался Пожарский, разворачивая свиток.
Староста неожиданно понурился:
– Не обучен я грамоте. Так что хотя сам и сочинял, а читать не читал…
– Это плохо! – строго сказал Пожарский. – А счет знаешь?
Минин лукаво улыбнулся:
– Обязательно. Чай, сызмальства торговлишкой занимаюсь.
– Ну, это важнее! – засмеялся и Пожарский. – Мы ведь теперь с тобой два сапога – пара! Мое дело – ратное, а твое – хозяйство вести: деньги собирать и смотреть, чтоб каждая копейка рачительно использовалась, а мздоимцев чтоб духу не было. Согласен? Давай-ка я приговор прочитаю.
Он быстро пробежал глазами грамоту, не скрывая одобрения прочитанному:
– «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем; на жалованье ратным людям деньги давать…»
Однако следующая фраза вызвала у Пожарского недоумение. Нахмурившись, он прочитал вслух:
– «…А денег недостанет – отбирать не только имущество, а и дворы, и жен, и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было…»
Это как же понимать? – Князь строго взглянул на Минина, бросая свиток на стол. – Идем воевать за правое дело, чтобы начальный порядок на Русь вернуть, чтоб все православные вздохнули свободно, а тут вдруг порешили жен и детей продавать? Мы что, литва проклятая?
Но Минин не смутился под взыскующим взглядом, ответил спокойно:
– Никто и не собирается их продавать.
– А как же тогда понимать? Зачем словоблудие сие?
– Для крепости сказано, – сказал Минин и даже улыбнулся. – Чтоб каждый твердо усвоил – коль подписал приговор, нести ответ. А для тех, кто к шатости способен, знал угрозу – коль будет утаивать деньги, окладчики и стрельцов пригонят, и имущество отнимут, а в крайнем случае и домочадцев со двора сведут в приказную избу. И это больше не бедняков, а наших богатеев касается. Ведь бедному полушку отдать – ничего, он с нее не разбогатеет. А вот гостю богатому отдать треть от своих пожитков накладно – и тысяча рублей, и больше может быть. Вот для таких и угроза: коль захочешь утаить деньги – жену и детей заберем.
– Круто берешь! – произнес, подумав, Пожарский. – Но, наверное, так и надо. Иначе дела не сделать. А скажи мне, Козьма Захарович, много ли служилых людей в Нижнем? Есть кому из казны собранной платить?
Тот сокрушенно покачал головой:
– В прежние годы в городе более трехсот служилых дворян да детей боярских было, а сейчас десятков пять едва наберется – кого убили, кого в полон взяли, кто к другим городам пристал.
– Где же мы будем ратников брать? Ведь из посадского мужика, хоть сколько ему плати, воин настоящий не скоро выйдет…
– Клич кликнем по всем городам! – бодро ответил Минин. – Уже сейчас в наше ополчение смоленские дворяне просятся.
– Смоленские дворяне? Откуда? – удивился Пожарский.
– Когда Жигимонт Смоленск в осаду взял, они побросали свои поместья и ушли от разорения вместе с домочадцами под Москву. А бояре московские отправили их подальше от греха, на дворцовые земли сюда, под Арзамас. Послать-то послали, а следом грамотку в эти волости направили, чтобы мужики им ничего в кормление не давали. Вот и стоят они, горемычные, в городе, и что ни день, с мужиками у них стычки из-за съестного.
– И сколько их?
– Поболе двух тысяч. Как узнали, что у нас в Нижнем затевается, проситься стали в ополчение.
– Пусть ко мне самых достойных мужей пришлют. Я посмотрю, какие из них воины. Коль глянутся, почин хороший случится!
– А поскольку платить будем служилым? Как считаешь, князь?
– Скупиться на это дело не надо, – как о решенном, твердо заявил Пожарский. – Думаю, что десятникам и сотникам надо дать на поход по пятьдесят рублев, всадникам – по сорок, стрельцам – по тридцать, а остальным – не менее двадцати рублев. И позаботься, чтобы коней добрых в Нижнем можно было купить, и упряжь, и доспехи. И чтоб на прокорм в достатке денег осталось…
Еще не раз в Мугрееве появлялись гости из Нижнего, а чаще других сам Минин. Рассказывал князю о том, как идут дела со сбором денег, что строится для него терем в кремле, сообщал о новых гонцах из ближних городов от служилых людей, выражавших готовность идти в ополчение. То были вяземские и дорогобужские дворяне, также бежавшие от польского разорения и остановившиеся в городе Ярополче. Прибыли к Пожарскому и представители смоленского воинства. Договорились, что весь отряд смолян придет в Нижний одновременно с самим Пожарским.
Князь чувствовал себя в эти октябрьские дни, как некогда, полным сил и энергии. Наконец и он отправился в дальнюю дорогу вместе с верными дружинниками, захватил всех своих чад и домочадцев. Он понимал, что если когда и вернется в родовое гнездо, то это будет очень не скоро.
Все горожане высыпали на улицы встречать своего героя. Они приветствовали его радостными выкриками. У Спасского собора в кремле Пожарского ждали «лучшие» люди – протопоп собора Савва, архимандрит Феодосий, воеводы князь Василий Андронов Звенигородский и Андрей Семенович Алябьев, дьяк Василий Семенов, стряпчие Иван Биркин и Василий Юдин и конечно же его ближайшие соратники – Козьма Минин и Ждан Болтин.
Оставив семью устраиваться в новом, еще пахнущем хвойной смолой просторном тереме, Пожарский, не теряя времени, сделал смотр смоленским дворянам. Он остался доволен их видом и велел немедля выдать им жалованье. Осмотрел он и пригнанный из понизовья табун ногайских лошадей.
– Что-то больно худые! – сказал он укоризненно Минину.
– За месяц, пока готовимся к походу, откормим! Будут добрые кони! – заверил подошедший табунщик.
Потом все собрались в съезжей избе, чтобы составить грамоту для всех городов с призывом идти в Нижний Новгород для схода в ополчение, а также побыстрее слать деньги и припасы.
…И вот вновь помчались гонцы из города в город, неся весть о начале нового движения за освобождение отчизны. В Казань был послан Иван Биркин, некогда отправленный Ляпуновым и Пожарским в Нижний Новгород, чтоб поднимал служилых людей. Теперь с этой же целью Пожарский послал Биркина в Казань. Дело в том, что после убиения Бельского в этом городе не было воеводы, а всем правил дьяк Никанор Шульгин, мутивший посад. Биркину были даны Пожарским полномочия воеводы с тем, чтобы он навел в Казани порядок и с ратью шел на подмогу нижегородскому воинству.








