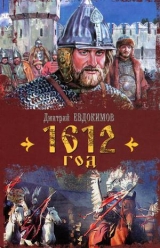
Текст книги "1612 год"
Автор книги: Дмитрий Евдокимов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Часть третья
Власть во лжи
Англичанин Майкл Кнаустон, Жак де Маржере и его капитаны, и шотландец Альберт Лантон, были званы в Кремль только через три дня после той страшной ночи. Въезжая на Красную площадь через крытый Воскресенский мост, полковник увидел, как на противоположной стороне площади, обращенной к Москве-реке, вдоль торговых рядов вздымается облако пыли. Маржере пришпорил свою лошадь и приблизился к толпе, скучившейся у Лобного места. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь происходит. Пьяный мужичонка из «божедомников» в рваном зипуне и в невыносимо грязном треухе, сидя верхом на пегой кляче, орал богохульные проклятья и нахлестывал по крупу свою лошаденку, тащившую страшный груз. К веревке, притороченной к седлу, был привязан за ноги обнаженный, начавший уже разлагаться синюшный труп. Старый вояка, навидавшийся за свой бурный век немало покойников, подъехал поближе и, вглядевшись попристальнее в изуродованное сабельными ранами лицо покойника, узнал Димитрия, точнее, то, что от него осталось после надругательства толпы.
Невольно сняв шляпу с пышным белым пером, Жак с ужасом перекрестился, прошептав:
– Сколько же ты нагрешил, Димитрий, если тебя постигла такая страшная участь!
В толпе, с улюлюканьем сопровождавшей «траурный поезд», вдруг раздался ясный, звучный голос, говоривший с мягким украинским акцентом:
– Та не он это! Точно вам говорю!
Маржере увидел говорившего. Это был комнатный слуга царя Иван Хвалибога, которого начальник телохранителей много раз встречал во дворце. Возбужденно отталкивая стрельцов, напиравших на него с бердышами, Хвалибога продолжал орать:
– Вы только гляньте, люди добрые! Этот толстый какой-то и ростом ниже. А Димитрий ведь был благолепен. Точно вам говорю – подменили царя нашего батюшку!
Хвалибогу неожиданно поддержал мужик, сидевший на телеге, полной речной, резко припахивающей рыбы:
– Жив Димитрий, воистину жив! Вот мой крест! Я самолично видел, как он у Серпухова через Оку перебирался. Когда на тот берег высадился, то рек паромщику: молись, деи, за меня, я государь твой!
В толпе началось смятение.
– Глядите, Бог от Москвы отвернулся! – пронзительно закричал юродивый, воздев руки к небу.
Из внезапно налетевшей черной тучи повалил крупными хлопьями снег, покрывая пушистым белым одеялом только что буйно распустившуюся сочную майскую зелень.
– Свят, свят, свят, – начали креститься на Покровский собор мужики и бабы. – Прогневался Господь на нас за Димитрия…
Потуже напялив шляпу и поплотнее запахнув плащ на меховой подкладке, чтобы спастись от налетевшего ледяного вихря, Маржере повернул коня к Фроловским воротам Кремля:
– Не забывайте, господа, нас ждут.
Во дворце, еще носившем следы побоища, их встретил думный боярин Михаил Татищев. Никогда не отличавшийся воспитанностью, сейчас он был особо груб и заносчив. Широкое румяное лицо выражало нескрываемое торжество. Татищев чувствовал себя героем дня. Еще бы! В те поры, когда Васька Шуйский бился лбом об пол, вымаливая прощение, а Митька Шуйский, стоя на коленях, неловко подставлял скамеечку под ноги самозванцу, он, Михайла, во всеуслышание рек о греховной любви Димитрия к телятине, за что едва не поплатился головой. И в ночь мятежа не прятался боярин за спину наемных убийц. Когда Петька Басманов, отбиваясь мечом от наседавшей черни, повернулся к нему боком, всадил ему прямо под сердце длинный нож, вытащенный из-за голенища сафьянового сапога. Сейчас боярин надменно поглядывал на иноземцев маленькими, налитыми кровью глазами и вместо приветствия вдруг спросил Маржере, стоявшего несколько впереди:
– Что, полковник, здоровье на поправку пошло?
И, не дожидаясь ответа, зычно захохотал, тряся здоровенным брюхом, выпирающим из собольей шубы. Его торжествующая ухмылка давала Маржере ясно понять, что Татищев хорошо знает истинную причину болезни командира гвардейцев. Несомненно, что он присутствовал на том тайном совещании во дворце Василия Шуйского, где Исаак Масса передал сообщение польского посланника Александра Гонсевского о том, что полковника не будет во дворце в день мятежа.
Жак, слегка покосившись на своих капитанов, не догадываются ли они о причине веселости боярина, сделал вид, что не понял насмешки, и невозмутимо ответил:
– Старая рана в левом боку открылась. Должно, к непогоде. Вишь, как снег повалил.
Боярин глянул в слюдяное оконце, удивился:
– В мае снег? Такого пять лет не было. С того самого голода… – Помрачнел, подумав про себя: «Дурной знак для нового царя…» Вслух же произнес: – Почто звал я вас? На то воля государя…
Иностранцы, встрепенувшись, вопросительно уставились на говорившего.
– Чай, слышали уже? Вчера по Москве царем выкликнули Василия Ивановича Шуйского!
Истово крестясь на красный угол с иконами, Татищев тем не менее не спускал испытующего взора с бывших телохранителей Димитрия, проверяя, как отнесутся они к такому известию.
Маржере почтительно склонил голову и сказал нечто противоположное тому, что говорил в своей квартире с глазу на глаз Исааку Массе:
– Мудрый выбор сделали московиты. Не случайно Василия Шуйского в Польше и Литве, в Римской империи и иных землях давно называют «принцем крови».
– Что это значит? – подозрительно спросил боярин.
– Имеется в виду, что Шуйский по знатности своего рода имеет наибольшие права на престол.
Татищев задумчиво пожевал бороду и не согласился:
– Федор Мстиславский, пожалуй, познатнее будет. Не случайно рядом с Шуйским на Лобном месте стоял. Однако же выкликнули Шуйского. По заслугам его! Это ведь он поднял Москву на самозванца Гришку Отрепьева, блядова сына! Не убоялся, что второй раз на плаху потащат. А когда с площади пришли в Успенский собор, Шуйский крест целовал в том, что править будет, согласуясь с боярским приговором. На том все бояре стояли…
Маржере показалось, что занавес в дальней части палаты шевельнулся. Уж не подслушивает ли их беседу хитрый лис Шуйский?
Поэтому он не поленился и снова сделал поклон:
– Какие указания будут нам, его телохранителям?
– Государь крепко держится отцовской веры и иноземцев не жалует. Все льготы, что были даны прежде торговым немцам и литве, собирается отменить. И войско сократит, бо злодей Гришка казну здорово опустошил своим разгульством…
Телохранители переглядывались, не скрывая разочарования.
– Однако вас сказанное не касается! – повысил голос боярин. – Если вы будете служить царю-батюшке верой и правдой, он проявит к вам свое благоволение.
Понизив свой громоподобный бас почти до шепота, что уверило Маржере в присутствии невидимого свидетеля, Татищев добавил:
– Не верит Шуйский стрельцам. Может, и правильно делает.
Маржере горделиво приосанился:
– Когда прикажете выходить в караул нашим ротам?
– Государь завтра переберется в Кремль со своим скарбом. Будет жить в старом, годуновском, подворье. Здесь не желает, поскольку дворец осквернен мерзким еретиком. Так что завтра с утра и заступайте…
…На площади их вновь встретил шум толпы. На телеге везли какой-то труп, покрытый попоной.
– Кого хоронить собрались? – окликнул Маржере зеваку-лоточника.
– Петьку Басманова, – ответил тот, флегматично жуя собственный товар – пирожок с вязигой.
– Тоже в яму?
– Не-а. Сказывают, у церкви Николы Мокрого, рядом с могилой матери. Ведь его сводный брат – князь Голицын.
– Вот как! – протянул Маржере. – Один брат защищал государя, а другой поднял на него меч!
– Бывает, – флегматично бросил лоточник, отправляя в рот следующий пирожок. – Вон отец Петьки, Федор, своего отца Алексея, по указу Ивана Грозного, перед его очами прирезал. Прямо на пиру. А потом и сам на плаху пошел. Так что промеж сродственниками все бывает.
– Однако тело брата все же хоронить собрался, – кивнул на проезжавшую телегу Маржере. – А у Димитрия и такого родственника не нашлось. Даже родная мать не заступилась…
– Не заступилась? Так она же его анафеме предала, – сказал лоточник. – Вон послушай, что дьяк кричит. Это он ее грамоту читает.
Маржере двинул лошадь поближе к Лобному месту, где дьяк Сыскного приказа натужно выкрикивал:
– «…А мой сын Димитрий Иванович убит в Угличе передо мною и перед моими братьями и теперь лежит в Угличе. Это известно боярам и дворянам. А когда этот вор, называясь ложно царевичем, приехал из Путивля в Москву, за мною долгое время не посылал, а прислал ко мне советников и велел беречь, чтоб ко мне никто не приходил и никто со мной не разговаривал. И когда он велел нас привезти в Москву, то был на встрече у нас один, и не велел к нам пускать ни бояр, ни других каких людей, и говорил нам с великим прельщением, чтоб мы его не обличали, угрожал и нам, и всему роду нашему смертным убийством. Он посадил меня в монастырь, приставил за мной своих советников, чтобы оберегать меня, и я не смела объявить в народе его воровство, а объявила боярам и дворянам и всем людям тайно…»
«Какая бесстыдная ложь, – подумал про себя Маржере. – Ведь царицу вся Москва встречала! И все братья ее в Государственном совете заседали».
Будто отвечая на его мысли, в толпе кто-то воскликнул:
– Люди добрые! Не слушайте! Не писывала Марфа эту грамоту. Я сам слышал, что, когда царя убили, Васька Шуйский к ней гонцов послал, чтоб подтвердила, деи, самозванец не сын ее! А Марфа отвечала: «Вы бы спрашивали меня об этом, когда он был еще жив, теперь он уже, разумеется, не мой».
Маржере увидел, что это кричит тот самый лоточник, который только что равнодушно поедал свои пироги. Этот малый оказался далеко не так прост! Толпа загалдела, чувствуя себя обманутой. Не впервой Шуйский обманывал москвичей. Сбил их с толку, когда звал в Кремль, якобы защищать царя от поляков, а теперь и Марфу втянул.
Дьяк, однако, не оробел перед напиравшими на него людьми:
– Стойте. У меня здесь подлинные грамоты самозванца на латинском, взятые в его хоромах. Ссылался он по-воровски с Польшею, Литвою и папой римским, хотел попрать истинно христианскую веру и учинить латинскую и лютеранскую! А писарь его Ян Бучинский на пытках показал, что хотел вор с помощью Литвы перебить бояр, дворян и иных московских людей. Доподлинно известно также, что под личиной Димитрия скрывался расстрига Гришка Отрепьев. О том показал бывший его сотоварищ Варлаам Яцкий, что сидит сейчас в Кремле под стражей!
От такого вороха вестей помутнело у людей в головах. Даже Маржере, знавший царя и видевший Гришку Отрепьева, недоуменно покачал головой. Такого нагромождения лжи даже ему, человеку бывалому, слышать не доводилось. Он молча направил коня в сторону от Лобного места.
«С этим Шуйским надо держать ухо востро! – сделал он единственный вывод. – Соврет – не дорого возьмет, как говорят русские».
Тем не менее наутро во главе своих драбантов он приступил к караульной службе в старом дворце. Здесь уже распоряжался Дмитрий Шуйский, младший брат будущего государя, также не отличавшийся дородностью и с такими же юркими бесцветными глазками. Он велел Маржере находиться в зале, где царь будет держать совет с ближними боярами.
Скрестив руки на груди и опершись на колонну, поддерживающую потолок в центре зала, Жак с иронией наблюдал за суетой слуг, раскатывающих ковры и расставляющих покрытые красным сукном лавки вдоль стен. Внесли кресло с высокими подлокотниками, отделанное затейливой резьбой из слоновой кости. Маржере узнал трон, на котором обычно сидел Борис Годунов. Давно ли он принимал здесь польских и шведских послов, очаровывая их своим величавым видом! А рядом тогда стоял трон поменьше, где сидел его сын, будущий наследник. Умным воспитателем был царь Борис, натаскивал сына, как породистого щенка, сызмальства приучая его к нелегкому делу управления государством. Да не суждено было Федору поцарствовать…
От печальных мыслей о бренности жизни полковника отвлекли пронзительные звуки тулумбасов.
– Государь пожаловал! – почтительно произнес Дмитрий Шуйский и бросился встречать старшего брата.
Маржере не удержался от любопытства и глянул в слюдяное оконце. Хотя Шуйский еще не был коронован, ему спешили оказать царские почести. Извлекали его из колымаги два знатнейших вельможи – Федор Мстиславский и Василий Голицын и повели по ковровой дорожке к высокому крыльцу, держа под локотки так высоко, что руки беспомощно болтались в воздухе. Это создавало известное неудобство будущему государю, да и шапка Мономаха, которую он поспешил напялить, была ему явно велика и сползла на нос. Но что не перетерпишь ради престола!
У Красного крыльца, низко склонясь в поясном поклоне, так что виднелись одни обритые затылки, встречал нового царя весь цвет старой московской знати. Пропустив Шуйского, они, бесцеремонно толкая друг друга, устремились вслед.
Маржере скомандовал: «На караул!» – и его гвардейцы замерли, эффектно опершись на алебарды, подаренные им Димитрием, – с серебряными рукоятями и двуглавыми орлами на шишаках. Сам полковник встретил Шуйского у входа в зал, поклонившись так, что страусовое перо его шляпы задело за носки сапог. Шуйский одобрительно кивнул ему и бросил, уже устремляясь к трону:
– Ужотко поговорим.
Полковник занял свое место у створчатых дверей, продолжая в правой руке держать шляпу, а левую положив на рукоять шпаги. Он с интересом наблюдал, как рассаживаются на лавках бояре, строго соблюдая свои места. Шуйский тем временем взгромоздился на трон, поправил наконец шапку и не без удовольствия поелозил по сиденью задом. Давно, ох как давно мечтал «принц крови» восседать на этом троне. Наконец-то мечта, в которой он едва ли признавался даже самому себе, сбылась.
Шуйский поглядел на лица своих советников и товарищей по заговору, однако следов радости и торжества по случаю одержанной победы не углядел. Напротив, многие из бояр казались смущенными и подавленными.
Шуйскому это не понравилось, но, как всегда, он ничем не выдал своих чувств. Сделав благостное выражение лица, начал расточать милостивые улыбки направо, где сидело высшее духовенство, и налево, где расположились члены думы.
Не получив ответных улыбок, Шуйский вдруг вспомнил, на чьем кресле он сидит, и произнес писклявым голосом:
– Надо государя Бориса и его семью похоронить, как подобает по чину. В Архангельском соборе, где находится прах владык московских – Рюриковичей, ему, конечно, не место. А вот Троице-Сергиев монастырь – и почетно, и по чину!
– Тело царевича же Угличского, – продолжал он, – надо перенести тоже. С подобающими почестями – к могиле отца его, Ивана Грозного.
Шуйский истово перекрестился. Остальные последовали его примеру.
«Не великий князь, а великий похоронщик», – подумал с иронией Маржере.
Взгляд Василия устремился вправо, туда, где расположилось духовенство. В кресле патриарха сидел митрополит Ростовский Филарет. В день, когда на Лобном месте выкрикивали имя будущего царя, бояре назвали и будущего патриарха, взамен Игнатия Грека, сподвижника Димитрия.
Шуйский, умудренный в дворцовых интригах, хорошо понял это решение своих сподвижников. Филарет, он же Федор, старший в Романовской династии, пользовался любовью москвичей и обладал огромным влиянием среди знати. Такой человек с помощью Церкви смог бы, по мнению бояр, противостоять действиям нового царя, если тот начнет своевольничать.
Хитроумный лис сделал вид, что несказанно рад такому решению, а сам в то же время искал и нашел ловкий ход, как убрать хотя бы временно будущего патриарха из столицы.
– Тебе, Филарет, поручаем мы это благородное дело. Пусть раз и навсегда замолкнут злые языки, деи, царевич чудом спасся. Я лично видел убиенного младенца и твердо говорю вам, что его зарезали по приказу Бориса! Крест целую на том.
Шуйский торжественно поцеловал свой нательный, усыпанный драгоценными каменьями крест, снятый с тела предшественника, когда оно еще не остыло. По округлым щекам государя потекли неподдельные слезы.
Бояре смотрели на это лицедейство с плохо скрытыми ухмылками. Трижды на их памяти клялся Шуйский в связи с делом удельного князя Угличского, и все три раза – по-разному. Первый раз, когда еще царь Федор поручил ему возглавить следственную комиссию. Тогда Шуйский всенародно заявил, что царевич истинно мертв и что он порезался сам, играя в тычку острым ножичком. Второй раз, когда войско самозванца шло к Москве, Шуйский так же всенародно, на Лобном месте поклялся, что царевич был спасен, а он видел труп какого-то поповича. Теперь он поклялся в третий раз.
Пристально вглядывался в круглое лицо Шуйского и Жак де Маржере, он даже слегка подался вперед, нарушая этикет. В одном случае из трех Шуйский непременно сказал правду. Ведь действительно, царевич либо был мертв, либо остался жив. Если же он был мертв, то могло быть лишь две возможности – либо он зарезался сам, либо его зарезали. Так как угадать, когда этот великий лжец все же умудрился не соврать? Было ясно только одно – каждый раз Шуйский клялся, нисколько не заботясь о правде, а лишь о выгоде. Сейчас ему было нужно, чтобы царевича убили. Ведь Церковь не может канонизировать самоубийцу.
Понимали это и все присутствующие. Понимал важность своей миссии и Филарет. Но восторга не выразил. Подавляя вспыхнувшее подозрение, глухо произнес:
– Почто такая честь? Есть и более достойные.
– С тобой и будут самые достойные! – снова благостно улыбаясь, ответствовал Шуйский. – Святейшие отцы, астраханский епископ Феодосий, архимандриты спасский и андрониевский, бояре Иван Воротынский да Петр Шереметев, а также брат царицы Григорий и племянник Андрей.
Шуйский не скрывал довольства – ведь одним махом он убирал еще одного опасного для себя человека из партии Мстиславского – Шереметева.
– Как видишь, все самые достойные. Но тебе быть на челе! – сказал Василий. – Не будешь же ты спорить, что Романовы ближе всего к прежним государям. Твоя тетка, Анастасия, была первой женой Ивана Грозного.
Филарету ничего не оставалось, как поклониться, благодаря за честь. Чтобы окончательно усыпить его подозрения, Шуйский продолжал:
– А быть вам обратно повелеваю к моему величанию на царство. К тому времени и духовный собор утвердит тебя патриархом.
– Сначала надо, чтоб собор снял сан патриарха с Игнатия, – качнул высокой митрой Филарет. – А сделать это можно только с его согласия.
– И вовсе нет! – возразил Шуйский. – У нас в руках письмо православных владык из Польши, что расстрига был тайным католиком. А Игнатий хотел это скрыть. Потому по нашему указу он заточен в Чудов монастырь, откуда в свое время бежал расстрига, чтоб начать свои дьявольские козни.
Шуйский свирепо насупился, и шапка Мономаха начала опять сползать на его вислый нос. Поправив шапку, он твердо произнес, обращаясь к боярам:
– Думаю, настал черед и тех, кто творил злодеяния рядом с самозванцем. Всех их из Москвы – по дальним городам: Афоньку Власьева, что с поляками якшался да католичку в Москву, в царицы привез, – в Уфу, Михайлу Салтыкова, как ближнего советника самозванца, – в Ивангород, Рубца-Масальского за то же – в Корелу, а Богдана Бельского, что врал, будто он царевича спас, в Казань. Полюбовника же расстриги, «латынянина» Ваньку Хворостинина – в монастырь. Пущай в вере православной укрепляется!
Бояре согласно закивали своими длинными бородами. Однако Татищев, любящий говорить наперекор, ехидно заметил:
– Государь наш еще три дня назад крест целовал, будто не станет никому мстить за мимошедшее.
Шуйский насупился еще больше и угрожающе произнес:
– По черному цвету соскучился, Михайла? Я тебе не самозванец и обид так легко не прощаю, ты же знаешь! Могу и собственноручно тебе по губам надавать, чтоб глупостей не рек!
Шумливый и наглый Татищев вдруг оробел. Да и другие бояре притихли. Ярый приверженец старины, Шуйский напомнил им об обычае, что царил при русском дворе еще до Ивана Грозного. Боярин, попавший в опалу, обязан был носить одежду черного цвета. Подвергался провинившийся и другому, более изощренному наказанию. На заседание думы приглашался дьяк, который пальцами выщипывал бороду опального, а думные приговаривали: «Что это ты, мерзавец, бездельник, сделал? Как у тебе и сором пропал!» Ходить с голым, как задница, лицом, да еще в черном кафтане, всем на смех не хотелось. Татищев, смешавшись, забормотал:
– Ты прости, государь, меня, окаянного! Не подумавши сболтнул.
Смирение известного строптивца успокоило Шуйского, и он вновь благостно заулыбался:
– Я ить вовсе не держу зла на холопей, что около расстриги терлись. Но ведь народ не поймет, – в голосе Шуйского послышался кликушеский пафос, – если мы их при нашем дворе оставим! Надо бы и всех стольников перебрать. Тех, кто в службе самозванцу усердствовал, – отнять поместья и вотчины!
Подьячий Разрядного приказа старательно заносил на свиток каждое слово нового государя, беспрестанно обмакивая гусиное перо в висевшую на груди чернильницу. Бояре, соревнуясь друг с другом, припоминали и выкликали все новые и новые имена тех, кто, по их мнению, был в особой милости у Димитрия. Число опальных перевалило за сотню, пока наконец Шуйский не остановил думных:
– Буде, буде! Так я совсем без двора останусь. Многие ведь служили по неразумению. Проклятый еретик умел глаза застить. Еще по сю пору некоторые верят, что он был истинный царевич. Сатанинское отродье!
– На площадях сказывают, будто его тело земля не принимает! – боязливо перекрестившись, произнес Мстиславский. – Нищие видели, как он ночью по пояс из земли высовывается и скалится, а из глазниц – зеленое пламя пышет.
– То колдовские чары действуют, – внушительно произнес Филарет. – Церкви доподлинно известно, что расстрига, как из Чудова монастыря сбег, душу дьяволу запродал.
Глаза Шуйского наполнились ужасом. Он безумно боялся колдунов. Заерзав на троне, робко спросил у митрополита:
– Что же делать, чтоб от него избавиться?
– Колдуны огня боятся. Труп надо сжечь.
– Сжечь? – По лицу Шуйского пробежала хитрая усмешка. – В Коломенском его крепостица стоит, что «Адом» прозывают. Пусть он в «Аду» и сгорит. Для верности труп смолой облить. А пеплом из пушки выстрелить в сторону Польши. Пусть знают, как к нам колдунов засылать!
– Польские послы приема у твоей милости требуют! – подал голос Воротынский, приставленный к посольскому двору.
– Вот как! «Требуют»! – насмешливо повторил Шуйский.
– Особенно Гонсевский шумит, – не унимался Воротынский. – В неблагодарности тебя уличает. Деи, если б не он, не царствовать тебе.
Маржере почувствовал, как налились жаром его смуглые щеки. «Неужто Гонсевский проболтался?» – мелькнуло в голове. Тем не менее, внешне невозмутимый, он с напряжением ждал, что ответит Шуйский. Тот, однако, ничуть не смутился и даже гнева не проявил, лишь покачал головой:
– За дерзость такую, хоть и посол, смертной казни достоин. Но не в наших планах сейчас с Жигимонтом, королем Польским, в раздор вступать. Чести видеть государя посолишка недостоин. Примите его вы, думные бояре. Только не сразу, погодить надо. Да выскажите ему все вины польского государя за то, что самозванца к нам послал и войско свое дал!
Шуйский в сердцах ударил об пол посохом, а потом, не скрывая злой насмешки, добавил:
– Что касается благодарности, которую хочет этот холоп, так пусть спасибо скажет, что в ту ночь сам жив остался…
Бояре одобрительно закивали горлатными шапками, однако Воротынский возразил:
– Жигимонт обиду своим послам не простит, войско свое на нас пошлет. До того ли сейчас нам…
– Жигимонт пусть сначала со своими дворянами справится, что мечи на него подняли, – парировал Шуйский. – А послов его мы из Москвы не выпустим, пока королишка не подтвердит прежние условия перемирия, что заключил с ним царь Борис.
– Истинно молвит государь, – внушительно произнес Василий Голицын. – Пущай послы подольше побудут у нас в гостях, да и другие знатные вельможи тоже. Глядишь, охолонут, не будут болтать, деи, самозванец вовсе не Гришка Отрепьев, а истинный царевич! Нам сейчас такие разговоры на Литве ни к чему.
Шуйский милостиво улыбнулся в знак полного согласия с самым влиятельным из заговорщиков и, не желая продолжать разговор на столь скользкую тему, пригласил думных отобедать с ним. В столовой избе, где стены еще помнили пиры Годунова, государю прислуживал новый, назначенный им кравчий – Иван Черкасский, который то и дело наполнял блюда, стоявшие перед Василием.
Размягший от великолепного меда, доставленного во дворец из погребов Шуйского, старик Мстиславский воскликнул:
– Пора тебе, царь-государь, о наследнике подумать. А то, глядишь, боярышня Буйносова, которую тебе в невесты самозванец определил, в девках пересидит. Поди, ей пятнадцать уже минуло?
– Сейчас – не могу! – благостно вздохнул Шуйский, облизнувшись как кот на сметану. – Ведь царице, – он сделал ударение на слове «царица», – по чину отдельные хоромы требуются. А дело это – не скорое…
– Почто так? – не удержался от ехидства Татищев, обсасывающий лебяжье крылышко. – Вон Гришка Отрепьев для себя и своей крали мене чем за полгода хоромы отгрохал.
– Потому что казна государская – пуста! – с надрывом воскликнул Шуйский и даже прослезился. – Расстрига нас по миру пустил. После брачной ночи своей потаскухе на радостях пятьдесят тысяч отвалил. А сколько раздал тестю и прочим сродственникам – не счесть.
– Так отобрать немедля! – не унимался Татищев.
– Силой негоже, – возразил Шуйский. – Пусть сами вернут. Ты, Татищев, завтра и пойдешь к Марине, а потом к ее родителю и скажешь, что не отпустим ее к отцу, пока все до копейки не возвернут.
Когда после обеда бояре чинно отправились по домам, чтобы соснуть до вечера, Шуйский велел Маржере следовать за собой в опочивальню. Дав постельному слуге знак, чтоб подождал со сниманием с него многочисленных одежд, государь обратился к начальнику стражи:
– Доволен, что оставил тебя при дворце?
Жак склонился, бормоча слова благодарности.
– Ладно, ладно! Будешь верно служить, милостью не оставлю.
Маржере, осмелев, не удержался:
– По-моему, я вправе ждать государевой милости после той ночи.
– Той ночи? – покраснел от досады скупой Шуйский. – А разве я тебе что-нибудь обещал?
– Гонсевский обещал…
«Наследный принц» гнусно захихикал, ощеря гнилые зубы:
– Так пусть тебе Гонсевский и платит. Если сможет.
Маржере понял, что вознаграждения ему не видать как своих ушей, и поклонился, чтобы побыстрей ретироваться.
– Погоди, – остановил его Шуйский. – Завтра пойдешь с Татищевым к Мнишекам. Дьяк не силен в посольской науке, может нагрубить и все испортить. Будешь вести переговоры как переводчик. Переводи не все, что он будет говорить, особенно если ругаться будет! Главное, добейся, чтобы Мнишеки вернули все подарки в государеву казну. Вот тогда можешь рассчитывать на мою милость, в том тебе мое слово.
Маржере очень засомневался в слове Шуйского, тем не менее, расправив грудь, изъявил готовность исполнить монаршью волю.
Наутро Маржере пошел разыскивать Татищева. Искать его долго не пришлось: дьяк уже околачивался возле Красного крыльца. Предупрежденный Шуйским, он ждал переводчика. Идти им было недалеко – Марина содержалась все в том же дворце, где стала русской царицей. Стрелецкая стража у крыльца расступилась, и гости вошли в приемный зал, куда вскоре вошла и Марина, предупрежденная фрейлиной. Жак встретил ее с чувством смущения, ожидая увидеть женщину, измученную трагическими переживаниями. Но прекрасное лицо бывшей императрицы было по-прежнему упруго-свежим, а огромные глаза выражали лишь любопытство и, пожалуй, лукавство. Она даже милостиво улыбнулась, узнав в статном офицере начальника телохранителей своего супруга.
Жак изящно поклонился, взмахнув шляпой, однако дьяк, не снимая своей высокой шапки и не подумав ради приличия сказать какие-то слова приветствия, с грубым нажимом спросил:
– Сказывают, плачешься, будто к отцу не пускают?
Маржере, памятуя о напутствиях Шуйского, сообщил по-польски, что присланы они сюда новым государем, который приносит свои соболезнования и осведомляется, в чем нуждается вдова и не хотела ли бы она вернуться под родительский кров. Дьяк подозрительно вслушивался, улавливая отдельные, схожие с русскими, слова, и хмуро осведомился:
– Чего это ты распетушился, как на именинах? Скажи, что будет сидеть здесь под стражей, пока не отдаст все, что ей самозванец подарил.
Жак постарался перевести это как можно деликатнее, но Марина, было прослезившаяся при словах о соболезновании, поняв смысл ультиматума, заговорила горячо, с вызовом:
– Пусть забирают все – и драгоценности, и дукаты, и лошадей, и даже платья. Да, да! Даже платья! Хотя видит Бог, что я шила их еще в Кракове. Уйду к отцу в одной рубашке! Об одном лишь прошу – отпустить со мной моих фрейлин. Бедные женщины! Они столько натерпелись от этих грубых мужиков. И если можно, прошу отдать моего арапчонка, мне так без него скучно.
При этом Марина уныло вздохнула, а Маржере подумал: «Боже мой, ведь она совсем дитя. Потеряла корону, а жалеет об утрате арапчонка!» Перевел же Татищеву красноречивый и пылкий ответ царицы весьма лаконично:
– Она согласна на все!
Дьяк довольно хохотнул:
– Почувствовала, что у меня не отвертишься. Ну, пошли теперя к ее родителю. Сегодня же все и заберем, а они пусть друг с другом милуются сколько влезет.
– Мы идем к вашему отцу. Что-нибудь ему передать? – «перевел» Маржере.
Марина лишь грустно покачала головой:
– Передайте то, что слышали.
Когда Маржере повернулся к выходу, до него донеслись тихие слова, произнесенные по-французски:
– Скажите, полковник, правда ли, что император чудом спасся?
«Так вот оно что, – мелькнуло в голове старого вояки. – Бедная девочка верит, что Димитрий жив!» Ему так хотелось оставить ей надежду, но он решил, что Марина должна знать правду, какой бы горькой она ни была.
– Не верьте слухам. Я вчера видел тело государя. Он мертв.
– Чего она еще хочет? – недовольно спросил Татищев, остановившись в дверях.
– Просит вернуть своего слугу-арапчонка.
– Эту нечисть черную? Кажись, Шуйский себе прибрал. Тоже всякую погань во двор тащит: и ведунов, и бабок, и шутов, и юродивых. Тьфу, дьявольское отродье!
…Не чувствовалось особого уныния и в хоромах тестя императора, Юрия Мнишека. Он встретил послов хитроватой усмешкой:
– А что, говорят, новый государь еще холост? И не спешит жениться на дочери русского князя?
Маржере удивленно взглянул на хозяина: быстро же весть о том, что говорилось за обедом у Шуйского, долетела сюда.
Видимо, и Татищев подумал о том же самом. Буравя поляка злыми заплывшими глазками, пробасил:
– Коль об этом знаешь, значит, знаешь, зачем и мы сюда пожаловали, – за добром, что тебе зять на радостях подарил!
– Поверьте, панове, добра того не так уж и много. А против нашего с ним договора, можно сказать, совсем ничего! Так, несколько камешков.








