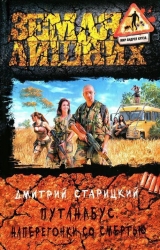
Текст книги "Наперегонки со смертью"
Автор книги: Дмитрий Старицкий
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Дмитрий Старицкий
ПУТАНАБУС Книга третья
НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ
Очнулся я от громкого настойчивого стука в стекло, задребезжавшего в щелястой оконной раме. Стучали обстоятельно, но без хулиганства. Причём стучали со двора, так как с улицы все три окна были ещё до заката прикрыты деревянными ставнями и если бы стучали в них, то стук был бы совсем другой по тональности. Я откуда-то это знал, хотя глаз пока не открывал, кутаясь в мягкую перину с головой. И с кровати не слезал. Думалось лениво и сонно: постучат и уйдут. Или кто другой им откроет. «Фигвам. Индейская национальная изба». [1]1
«Национальная индёйская изба», нарисованная Шариком для кота Матроскина в мультфильме «Зима в Простоквашино»
[Закрыть]
Стучать стали только сильнее. И уже не только в окно, но и чем-то твердым в дверь. Такие не уходят. Придётся вставать.
Сна уже не было. А настойчивый стук всё продолжался. Пришлось, покряхтев, слезать с кровати, винтажной такой с медными шишечками. Привычно (что меня не на шутку удивило) одним движением влезть босыми ногами в подшитые кожей войлочные опорки, накинуть на плечи старый романовский полушубок, и, как был в бязевом исподнем, пойти в сени.
По дороге привычно хлопнул ладонью по выключателю но того на привычном месте около двери не оказалось.
Оглянувшись, посмотрел на потолок и не увидел там не только люстры, но даже примитивной «лампочки Ильича».
– Это где ж такая глушь, что даже электричества нет, – пробормотал себе под нос, нашаривая на простой дощатой столешнице коробок спичек и огарок свечи в низком медном подсвечнике с ручкой кольцом.
Вспыхнувший огонек осветил типичную деревенскую рубленую избу средней полосы России, сверкнув по серебряным окладам икон с погасшими лампадами и шарикам спинки медной кровати, по белёному боку большой печки и тёмным крышкам двух больших сундуков. Не бедную избу, но и не богатую. Так, серединка на половинку по зажиточности, даже гнутые «венские» стулья есть. И сам тут же удивился этим своим мыслям о зажиточности. По меркам начала двадцать первого века вокруг была жуткая убогость.
К тому же обстановка в избе характеризовала, что никого кроме меня в этом помещении больше не живет.
«А девочки где? Автобус?» – не въехал я в ситуацию, – «Где это я?».
Потрогал нос – целый, но я хорошо помнил, что перед тем, как потерять сознание, была сильная боль от удара по носу. И домов там, в горах, рядом не было никаких.
Значит, мне это всё спьяну приснилось? Новая земля. Орденский город Порто-Франко. Путанабус. Чёртова дюжина красавиц из эскорта. Бой с бандитами. Проводы полкового козла на пенсию. Однако какой реальной силы был этот сон. Какие цвета! Какие тактильные ощущения! Какая эротика. Тинто Брасс отдыхает и нервно курит в сторонке. Жаль, что это был только сон, пусть даже в конце этого сна меня убили.
Видать хорошо я тут вчера нажрался с Вовиком на их корпоративной вечеринке, вот он меня и засунул сюда отсыпаться с глаз большого начальства подальше. Но пили явно что-то очень качественное, ибо никакого похмельного синдрома вообще не наблюдается.
Снова застучали в дверь, уже нетерпеливей. Увидали, гады, свет в окошке. Возбудились.
Пришлось шкандыбать в сени.
Там, приникнув ухом к входной двери, прислушался к бормотанию людей за дверью, но ничего не разобрал.
– Кого черти носят тут по ночам, – крикнул через дверь.
– Открывай, давай, – требовательно заорали со двора. – Фершал нужон. Срочно. Взяв в правую руку топор с лавки, левой скинул щеколду с двери и потянул её на себя, не раскрывая полностью.
В сизом предрассветном мареве на крыльце стоял явно военный. По крайней мере, он был в характерной такой фураньке и с шашкой на боку. За ним, ниже крыльца, во дворе стояло ещё трое с длинными винтовками за плечами. Отблески поздней луны посверкивали на тонких штыках.
– Ну, я фершал. Чё надоть? – с удивлением услышал хриплые звуки своего собственного голоса.
– Собирайся, поехали, – сказал тот, что с шашкой.
– С какого такого бодуна?
– Ранетые у нас, – пояснил он.
Ага. Шнурки только поглажу и побегу.
– Так везите сюда, раз уж разбудили ни свет, ни заря.
– Не доедут они. Сильно ранетые.
– Мил человек, так ведь я ни разу ни дохтур, – выдал ему свои резоны, – Им дохтур нужон если они так сильно покоцанные, что до меня довезти их не могут. Не та у меня квалификация, чтобы операции делать. Зубы драть, мозоль вырезать, грыжу вправить, перевязать, ну… Рану ещё почистить, чтоб до дохтура жилец доехать мог – это ко мне. А все что сложнее, извини, на копейки учился.
– Да что с ним гутарить, с контрой. Иваныч, поставь его к стенке на хер, а мы зараз, – крикнул один из тех, что с винтовками, однако, не снимая оружие с плеча.
– Ша! – дернул рукой в запретительном жесте тот, что с шашкой, кого Иванычем назвали. – Фершал вам не контра, а несознательный пока исчо, но трудовой елемент. Сами ноги бьёте только потому, что сдуру доктора в расход пустили. Не понравилось вам, что тот из дворян был. А ранетых кто лечить будет? Вы штоль?
Троица во дворе виновато потупилась на свои облезлые ботинки с обмотками.
«Бред какой-то» – думал я, смотря на весь этот спектакль.
– Вот это видел? – повернулся ко мне военный, доставая из рыжей кобуры австрийский револьвер, ткнул его дулом мне под нос.
Память моментально выдала справку. «Раст и Гассер» калибр 8 миллиметров, в барабане 8 патронов. Год принятия на вооружение Австро-венгерской армии 1898. Простой как молоток и так же надежный. У самого точно такой же с фронта привезен и надежно припрятан. Только патронов не густо.
– Не пужай, пуганые ужо. Я всю Великую войну на фронтах, да на санитарном поезде. Две георгиевские медали за храбрость имею, – слышал я, как со стороны, свои собственные речи и ошизевал. Слова слетали с губ помимо моей воли. – Ну шлёпнешь ты меня тут, сильно тебе это поможет?
Военный засопел и револьвер убрал. И тон сменил.
– Дорогой мой человек, если бы ты знал, какие люди сейчас страдают, то сам бы впереди меня побежал их лечить.
– Для меня все люди одинаковые – больные, – выдал ему следующий резон. – Других я почти не вижу. Где твои раненые?
– В соседнем селе.
– Неее… – ушел в отрицалово. – Я туда не пойду, тем более, ночью…
– Какая ночь, отец, окстись. Рассвет уже.
Интересно, почему это я ему «отец»? Парню этому где-то чуть больше двадцати на вид, мне тридцать пять. На отца вроде как не тяну совсем.
– Всё равно пешком двенадцать вёрст не пойду. Давай транспорт.
– Да откуда я тебе его возьму? – удивляется совершенно натурально.
– Твои заботы. Село большое, – сказал равнодушно и, повернувшись, ушёл в сени, бросив по дороге топор в угол. Из сеней в комнату, где от оплывшей уже свечи запалил семилинейную керосиновую лампу с надраенным отражателем. Теперь хоть можно глаза не ломать.
Выехали уже со светом. По солнышку.
Пока военные добывали по селу подводу, я успел не только собраться, но даже побриться. Не только подбородок, но и голову. Собрать фельдшерский саквояж и накинуть сверху хорошо уже поношенной одежды рыжий брезентовый плащ. Длинный почти до земли и с капюшоном. На ноги пришлось надеть порыжелые сапоги из юфти, которые уже «просили каши», но ничего более приличного в избе не нашлось. Не айс. Нанковая косоворотка и серый пиджачишко с брюками от разных пар. И кепка-восьмиклинка. Что-то подсказывало мне, что одёжка получше есть в сундуке, но, в то же время, это же самое подсказывало, что не стоит при этих вроде как военных выделяться справным платьем.
Подвода, которую пригнали к моему дому, была собственностью знакомого мне мужика-односельчанина Трифона Евдокимова. Как и мерин – длинногривый соловый русский тяжеловоз, которого он привел в село с собой в семнадцатом году, когда дезертировал из артиллерии, в которой служил ездовым при пятидюймовых гаубицах в учебном полку. Гаубицы, правда, были 48-линейные [2]2
48 линий = 4,8 дюйма = 122 мм; 5 дюймов = 127 мм.
[Закрыть], но Трифону больше нравилась круглые цифр.
Стянув с головы войлочный шляпок, Трифон с поклоном поздоровался со мной, когда я под конвоем солдат с винтовками выходил из избы.
– Доброго утречка вам, Егорий Митрич.
– И тебе Трифон не хворать, – ответил ему и уселся рядом с ним на облучок. Поглядел на солдат, смолящих махорку в самокрутках, и сказал ехидно.
– Что тормозим, служивые, или у вас люди не так шибко раненые, как обсказывали? Принадлежность этих с позволения сказать воинов была неясной. Никаких знаков различия они на своей форме – сильно потрепанной летней форме русской армии, не несли. Ни кокард каких, ни лент на головных уборах не было. Как и погон.
– Трифон, – спросил тихонечко, – Напомни мне: какое сегодня число?
– Так это… – вылупил на меня он белёсые зенки. – Сентябрь на дворе пятый день.
– А год?
– Год осьмнадцатый. Второй как царя скинули. И второй год республики уже пять дён как [3]3
Республика в России была провозглашена 1 сентября 1917 года.
[Закрыть].
– Дела… – только и промолвил.
Пошарил по карманам, но сигарет не обнаружил.
– Трифон, у тебя закурить не найдется?
– Так не смолишь ты, Митрич, и нам всегда пенял на то, что вредно это для организьмы.
– Что-то захотелось, – отвернулся я от мужика.
Военные в это время, поплевав на окурки, пригасили их о каблуки и полезли на телегу, в заботливо накиданное Трифоном сено.
– Кудыть ехоть-то? – спросил их Трифон не оборачиваясь.
– В Лятошиновку, – ответил тот молодой, что с шашкой.
– Ну, хоть недалече, – с облегчением выдохнул Трифон и, набрав полную грудь воздуха, треснул вожжами по крупу своего мерина. – Но… Пошел, проклятый заклейменный.
Мерин невозмутимо и привычно застучал большими копытами по траве между колеями дороги, легко таща за собой телегу с шестью людьми. Всё же этот артиллерийский конь был привычен таскать вшестером две с половиной тонны походного веса гаубицы. С ездовыми. Что ему шесть не сильно откормленных человеческих тушек.
Я осмотрелся. Лес за селом действительно стал покрываться желтым листом. Но ещё как-то робко. В низинах стоял жидкий туман. Убранные поля желтели стернёй. Действительно осень уже.
Голода я не чувствовал, хотя изо всей еды выпил с утра только кружку колодезной воды из ведра в сенях. И конвоиры меня понукали, чтоб быстрей собирался. И этих дармоедов мне кормить совсем не хотелось. А пришлось бы, засвети перед ними я снедь.
– Господа военные, осветите темным селянам политический момент, – вдруг спросил Трифон.
– Господа все у прошлом году кончились, – спокойно, даже с некоторой ленцой, ответил один из солдат, – А те, кто не кончились, тех мы докончим. Всенепременно. Последнее слово он сказал с какой-то мечтательной интонацией.
– Ну, так как насчет политического момента? – пропустил Трифон мимо ушей революционную сентенцию, – Продразвёрстку исчо не отменили?
Хохот был ему ответом.
– Кто ж тебе её отменит, когда в Москве и Питере голод, – сказал молодой.
– Ну, да. Ну, да… – скуксился Трифон, – Оно понятно.
Но молодой, как оказалось, не всё сказал.
– Три дня назад ВЦИК [4]4
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет Съезда Советов. Законодательно-исполнительная власть Российской республики после переворота 25.10.1917
[Закрыть]постановил превратить республику в военный лагерь. Создан Революционный военный совет, который возглавил товарищ Троцкий. Все красные партизанские отряды сводятся в единую Красную армию, – и уточнил, оттенив голосом, – Рабоче-крестьянскую Красную армию. Вашу армию. А её тоже кормить надоть. Так что нескоро продразвёрстка ваша кончится. Скоро придут к тебе из Пензы. Мешки готовь.
И красные партизаны снова заржали.
Чувствовалось, что они как-то ощущают свое превосходство над сельскими жителями. И это превосходство, скорее всего, кроется не в идеологии, которой им промывают мозги, а просто в том потёртом оружии, которые они держат в руках. «Винтовка рождает власть», – так, кажется, Мао сказал в сороковых годах. А сейчас восемнадцатый. Эти мужики в форме не могут так четко выразить свою мысль, как образованный китаец по имени Цзедун, но чувствуют то же самое. И это чувство им нравится.
Анархистская революционная вольница, которую скоро «лев революции» Троцкий станет лечить расстрелами популярных партизанских командиров.
Угораздило попасть. Да что там попасть – вляпаться! Хуже, чем на эту Новую Землю, на которой меня убили. Долго я тут не протяну. Не с моим длинным языком жить при красных. «Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется». [5]5
цитата из песни Владимира Высоцкого.
[Закрыть]У них сейчас одно наказание за всё – расстрел.
Только мне уже всё по фиг. Я, наверное, теперь Агасфер. Тот самый «вечный жид», только не в собственной мумии по свету шатаюсь, а так вот переселяюсь незнамо как из тела в тело из времени во время. И это открытие что-то меня не радует.
Через час неспешной прогулки на трясучей телеге среди зеленеющих еще дубрав остановились перед двухэтажным домом волостной управы в соседнем селе.
Молодой партизан, придерживая шашку, тут же пташкой взлетел на крыльцо и пропал, хлопнув дверью.
Военные повылезали с телеги, тут же принявшись смолить махорку.
К телеге подошел мужик, несмотря на тепло, в справном армяке поздоровался с нами и поинтересовался.
– Как там у вас, Трифон, Лятошинский сад ноне с урожаем?
И выщербился довольной улыбкой из густой бороды.
– А тебе какое дело? – ответил Трифон, сворачивая цигарку.
– Да вот хотим княгинюшку пощипать на яблоки-груши. Сушки на зиму нарезать. Им всё одно столько не сожрать, даже вторую жопу отрастив. А продать столько нынче негде. Да и вывезти нечем.
– А чё мальцов не пошлёте? – спросил Трифон, заклеивая цигарку языком.
– Дык, сам знашь, сторож-то у книгинюшки дюже злой. И берданка у него солью заряжена. Жалко мальцов-то.
– А свою жопу тебе, знать, не жалко? – усмехнулся Трифон, чиркая колесиком фронтовой зажигалки самодельной из латунного патрона и с наслаждением прикуривая. Эту занимательную беседу дослушать не удалось, так как молодой партизан, выглянул из двери управы и крикнул.
– Фершал, пошли со мной. Товарищ Фактор требует.
Товарищ Фактор оказался субтильным молодым ещё человеком, которому на вид не было и тридцати. На его белобрысой голове стриженной довольно смешно, вся под «ноль», а на лбу короткий чубчик, так любили стричь мальчишек-дошколят в дни моего детства, резко выделялись нафабренные чем-то черным огромные «будёновские» усы. Одет он был в шевиотовую защитную гимнастерку без погон, а щегольские синие диагоналевые галифе были заправлены в желтые сапоги со шнуровкой по всей голени. На обычном офицерском поясе висела порыжелая нагановская кобура. Холодного оружия товарищ Фактор не признавал.
– Вы врач? – спросил товарищ Фактор.
При этом, он посчитал совершенно не нужным со мной здороваться. Но не преминул высверлить мой мозг белесыми глазами в рыжих ресницах и по-жандармски «прочитать у меня в сердце». [6]6
Цитата из повести М.Е. Салтыкова-Щедрина «Русский человек за границей».
[Закрыть]
– Нет. Фельдшер, – ответил я, решив не представляться, если со мной не здороваются. Ибо не фиг.
– На вас выпала благородная задача вернуть к жизни великого революционера, который начинал бороться с проклятым царизмом ещё в конце прошлого века в Бунде [7]7
Бунд (букв. «союз» на идиш) – Всеобщий еврейский рабочий революционный союз социал-демократической направленности, действовавший в кон. 19 – начале 20 веков. (подробнее – см. Глоссарий)
[Закрыть]. Проникнетесь этой ответственностью, ибо права на ошибку у вас нет. Товарищ Нахамкис должен жить и вести угнетённые трудящиеся массы к светлому социалистическому будущему.
Товарищ Фактор заложил левую руку за пояс, а правой, сжав её в кулак, стал неуёмно жестикулировать. Чувствовалось, что в таком трансе, в который он себя сейчас загонял, он мог говорить часами.
– Вы только проникнитесь свой миссией и ответственностью – вылечить такого великого человека. Одного из отцов русской революции…
Тут мне вся эта комедия надоела, и я невежливо перебил увлёкшегося оратора.
– Может, вы меня сразу расстреляете?
Товарищ Фактор замолчал и застыл, будто наткнувшись на неожиданное препятствие.
– Зачем? – удивился он недоумённо.
Даже его мелкие круглые глаза стали ещё круглей и похожи на оловянные пуговицы.
– А кто вылечит товарища Нахамкиса?
А я нарывался уже не по-детски.
– Тот доктор, которого вы уже поставили к стенке, и вылечит. Я же не Христос, и товарищ Нахамкис не Лазарь. Воскрешать мертвых не умею. Но подозреваю, что когда вы закончите читать мне проповедь, товарищ Нихамкис благополучно переселится в Могилевскую губернию, штаб к Духонину. Если вам так необходимо чудо, то не стоило беспокоить этим простого сельского фельдшера, а надо было выписать из Любавича цадика, чтобы тот это чудо совершил. Ему это не трудно. А мне так непосильно.
– Вы что себе позволяете? – взвизгнул товарищ Фактор, – Это контрреволюция! Вы подлый наймит буржуазии, призванный изничтожать верных сынов революции. Вы просто враг народа!
– Нет, это что вы себе позволяете, – я тоже на горло брать умею, – Будите среди ночи единственного в селе фельдшера. Везёте черте куда. И вместо того чтобы допустить его к больному, читаете проповеди на отвлеченные темы. Не говоря уже о том, чтобы приглашенного медика, хотя бы чаем напоить, если накормить жадность обуревает.
– Идите, – сказал Фактор, раздувая ноздри, – К раненым вас проводят, кипяток принесут. И отвернулся к окну, скрестив руки за плоской заднице. Прямо мисс Майлз какая-то.
Молоденький Михалыч, тот, который красовался драгунской шашкой, вывел меня из здания управы и решил проводить до импровизированного госпиталя.
Я его остановил на крыльце, сказав, что надо взять с телеги свой фельдшерский саквояж.
Неторопливо разрывая сено в кузове, тихонечко сказал Трифону.
– Триш, я сейчас пойду раненых пользовать, а ты потихонечку сматывайся отседа, пока у тебя товарищи коня не реквизировали. Меня не жди, домой сам доберусь. За избой моей лучше присмотри, а то она так открытая и брошена. Ключ от дверей в сенях висит справа от косяка. Давай, двигай, пока не поздно.
Трифон сдвинул шляпок на лоб, чеша активно затылок всей пятернёй.
– Ой, ёж ты… Егорий Дмитрич, как жа… А эта…
Но я уже махнул рукой и с саквояжем в руке двинулся вслед за Михалычем, который повел меня на задворки здания управы, где в каретном сарае они и устроили свой госпиталь. Нашли место… Одно слово – товарищи.
Товарищ Нахамкис в одном исподнем бился под скомканной простынёй в горячке на принесенной из какой-то зажиточной избы железной кровати, показывая всем на обозрение свои грязные пятки. Сознанием товарищ был не обременён.
Его протирала водой с уксусом типичная сестра милосердия из благородных, каких много было на Великой войне. Для многих – второй Отечественной. Было ей не больше двадцати пяти лет, но возможно и меньше – война, как любая тяжелая работа, старит. Волосы ее были убраны под сестринский платок до бровей, из-под которых смотрели пронзительные васильковые глаза мудрой женщины. Серо-бежевое платье до щиколоток было покрыто белым сестринским передником. Когда-то белым. Но чистым, недавно стираным.
Я поздоровался, представился.
– Волынский Георгий Дмитриевич, фельдшер санитарного поезда. Кандидат на классный чин.
Женщина улыбнулась. Кивнула. Представилась сама.
– Наталия Васильевна фон Зайтц. Полковница. Сестра милосердия санитарного поезда.
И тут же поинтересовалась:
– Вы на каком фронте были?
– На Юго-западном.
– А я на Кавказском.
– Что ж вас в наши палестины-то занесло недобрым ветром.
– Так получилось. Кисмет. [8]8
Кисмет (турецк.) – судьба.
[Закрыть]
– А здесь вы?…
Она не дала мне договорить вопрос.
– Считайте, что пленная. Нас с доктором Болховым товарищи с поезда сняли в Пензе и привезли сюда. Николай Христофорович, осмотрев раненых, заявил, что этот, – она показала на Нахамкиса, – Обязательно умрёт. Они его вчера за это расстреляли. Предварительно спирт медицинский из его запасов весь выпили.
– А что с этим? – кивнул я на Нахамкиса.
– Сепсис, – ответила Татьяна Васильевна. – Запущенный. Антонов огонь уже. Не жилец. У меня за три года глаз намётанный, кто выживет, кто нет. Но они с ним носятся, как с куличом на Пасху. Вот сижу тут, и жду, пока саму к стенке поставят. Я же баронесса. Классово чуждый элемент. Всё, как в Великую Французскую революцию. Всех дворян на гильотину.
– Да нет, – возразил я, – У вас, милая Наталия Васильевна, слишком оптимистичный взгляд на мир. Товарищи шире мыслят. Не только дворян, но ещё и буржуев они хотят уничтожить. Всех поголовно. Купцов, заводчиков, фабрикантов, лавочников. Интеллигенции тоже достанется, потому, как просто выглядит по-господски. И говорит по-русски правильно.
Она мне не ответила и пауза затянулась. Чтобы сбить неловкость, спросил про остальных раненых.
– Упокоились оба сегодня под утро. Без операции и надлежащего ухода. Николая Христофоровича товарищи расстреляли, не дав даже им помощь оказать. Мне ничего товарищи не дают, ни лекарств, ни бинтов. Только требуют. Как тут людей лечить я просто не представляю.
– Ну, это у них в заведении, – подтвердил я ее мысли, – требовать.
– Хотите чаю, Георгий Дмитриевич, – предложила баронесса, наверное, чтобы прекратить неприятный для себя разговор.
– Всенепременно, Татьяна Васильевна. Из ваших нежных ручек я даже яд приму с удовольствием, – улыбнулся.
– А вы, Георгий Дмитриевич, тонкий ловелас, как я посмотрю.
Улыбается хорошо так, приветливо, но совсем не обещающе. Не сексуально. И руки за спиной прячет.
Совсем не барские у неё руки после трех лет работы в санитарном поезде.
– Что ещё остается делать под угрозой расстрела, не на Луну же выть? – улыбаюсь в ответ.
Её глаза улыбнулись. Господи, как она на мою Наташку похожа.
– Вы литвинка? – спрашиваю.
– Да, я из Беларуси, с Гродно, – подтвердила она мою догадку. – Моя девичья фамилия Синевич. А как вы догадались?
– По внешности, конечно. Самые красивые женщины у нас либо из Белоруссии, либо с Волги. Но на Волге абрис лиц другой.
В целом в этом каретном сарае стараниями Натальи Васильевны было не так уж и плохо. Дощатый пол выметен и вымыт. Стекла в маленьких окнах чистые. Три железные койки тоже содержались в чистоте. И белье постельное под Нахамкисом было свежее. На остальных кроватях матрасы были скатаны в рулоны. В дальнем углу, за ширмой, на удивление богатой такой китайской шелковой ширмой с вышитыми аистами, стоял грубый топчан самой сестры милосердия, застеленный тонким серым одеялом. Стол. На столе примус, коробок серных спичек, и что-то еще накрытое чистой тряпицей.
Над столом лениво кружила запоздавшая муха, громко жужжа как тяжелый бомбардировщик.
У стола стоял грубо сколоченный трехногий табурет с овальной дыркой-хваталкой посередине сидушки.
На стене над столом висели потертые хомуты.
Загудел примус. На него поставили медный котелок с водой.
– Чай только морковный, – словно извиняясь, произнесла Наталия Васильевна.
– Это не страшно, – заверил я ее, улыбаясь. – У меня с собой, по случаю, пару щепоток настоящего байхового завалялось в саквояже.
Глядя на эту милосердную сестру, мне постоянно хотелось улыбаться. И я ничего не мог с собой поделать, сознавая, что выгляжу все же немного глуповато.
Наверное, и Наталия Васильевна так же себя ощущала, потому что тоже постоянно мне улыбалась.
– А где ваш муж? – просил, чтобы внести ясность в наши отношения, по крайней мере, с моей стороны. Жена боевого офицера – это святое.
– Муж мой, – вздохнула Наталия Васильевна, – зауряд-полковник фон Зайтц, командир армянской ополченческой дружины погиб в шестнадцатом году при штурме Ризе, предместья Трабзона.
– Простите, – смущенно промолвил я, снимая закипевший котелок с примуса..
– Не надо извинений, дорогой Георгий Дмитриевич, все слезы по нему я уже выплакала. Больно мне только за то, что смерть его оказалась напрасной. Товарищи все его завоевания Кемалю [9]9
Кемаль Ататюрк – первый правитель республиканской Турции. Друг и союзник Ленина. (подробнее – см. Глоссарий)
[Закрыть]отдали.
– А вы женаты? – в свою очередь поинтересовалась вдовая баронесса.
– Да вот как-то не сподобился, – пожал плечами.
На этом анкетная часть нашего знакомства была закончена. Мы, молча поглядывая за спящим Нахамкисом, иногда сами встречаясь взглядами, пили хороший китайский чай. Последний настоящий чай из моих запасов. Больше взять такую роскошь было негде. Но я был рад доставить этой героической женщине такое гастрономическое наслаждение. Сидел и улыбался, как дурак, любуясь, как она аккуратно ест.
Завтрак наш был вскладчину. Со стороны Наталии Васильевны была выставлена горбушка свежего подового серого хлеба фунта [10]10
Русский фунт = 400 грамм; 40 фунтов составляли пуд (16 кг)
[Закрыть]на два, испеченного здесь же, в Лятошиновке. С моей стороны – сало, которое я прихватил из дома тайком от товарищей в фельдшерском саквояже вместе с чаем. Небольшой кусочек в четверть фунта – все, что было дома в пределах доступа без любопытных глаз товарищей.
Операцию Нахамкесу мы все же сделали. Даже с анестезией. В вещах, оставшихся от доктора Болхова, оказался пузырек с настойкой опия. Так что ранбольной не мешал мне делать с ним, что мне заблагорассудится. А заблагорассудилось мне отрезать ему обе ноги. Это было единственная возможность оставить ему жизнь. Но даже на это оставалось очень и очень мало времени.
Оба временные санитара, которых по нашей просьбе нам прислали из краснопартизанского отряда, дружно попадали в обморок как гимназистки, когда я стал пилить хирургической ножовкой кости нахамкисной голени.
– Не отвлекайтесь на них, Наталия Васильевна, – прикрикнул я на сестру милосердия. – Пусть валяются. Сейчас они мне не нужны.
Баронесса кивнула мне, в знак понимания, и протерла марлевой салфеткой мой покрытый испариной лоб.
Хотя мне приходилось на войне присутствовать при ампутациях и даже ассистировать врачам, сам я это делал в первый раз в жизни. Но решился, так как смерть товарища Нахамкиса означала и нашу с Наталией Васильевной смерть.
Я уже не понимал, где сознание гуманитария Жоры из двадцать первого века, а где сознание фельдшера Георгия из начала двадцатого. Самое интересное, что шизофрении, как двух центров управления одним телом, одним разумом, я не наблюдал за собой. Может, со стороны это было сильнее заметно?
Но в целом я с задачей справился и даже культи под протезы получились не совсем корявые. Я был собой доволен. А Наталия Васильевна смотрела на меня просто влюбленным взглядом.
– Да вы кудесник, Георгий Дмитриевич. Вы случайно не тайный профессор хирургии?
Слышать эту лесть было приятно. Особенно от нее. Человека знающего и повидавшего.
А потом начался дурдом. В прочем дурдом, как дурдом. Даже где-то образцово-показательный коммунистический дурдом имени Клары Целкин.
К нам в каретный сарай прибежал сам товарищ Фактор. Орал. Махал на нас наганом. Обзывал нас с Татьяной Васильевной по-всякому, в том числе проявив незаурядное знание русского матерного. Кричал, что мы специально отрезали ноги выдающемуся революционеру ранга Ленина и Троцкого, за что должны понести заслуженную революционную кару. Что с нас с живых шкуру спустить мало. Больше всего его бесило, что мы отрезали товарищу Нахамкесу ноги, не спросил у него разрешения. Не у «овоща» Нахамкеса, а у комиссара Фактора. И даже тыканье ему в нос отрезанной ногой с явными следами газовой гангрены этого твердолобого дурака не убедили. Большевик, одним словом.
Короче нас взяли под арест.
Сначала содержали в том же каретном сарае, вместе с товарищем Нахамкесом, которого надо было перевязывать, угощать уткой, поить с ложечки и все такое прочее.
Нас даже покормили обедом. Перловой кашей с тонкими волокнами мяса. И какой-то бурдой отдаленно напоминавшей взвар из дули – груши дички.
А чай мы себе организовали сами. Морковный.
И долго разговаривали друг с другом обо всем на свете, не обращая внимания на кемаривших у входа наших то ли конвоиров, то ли охранников. Скорее конвоиров, так как в дощатый сортир на дворе нас водили по очереди, обязательно под винтовкой с примкнутым штыком.
Вечером товарищ Фактор привел какую-то бабу крестьянского вида, мне незнакомую, для ухода за товарищем Нахамкесом.
А нас вывели во двор, поставили перед строем красных партизан и зачитали приговор о нашем расстреле за вредительскую деятельность, саботаж и действия в пользу мировой буржуазии.
Расстрел был назначен на следующее утро. А пока нас заперли вдвоем на сеновале, у которого двери были крепче, чем у каретного сарая и совсем не было окон.
В абсолютной темноте сарая, пытаясь на ощупь определиться в пространстве, я случайно коснулся рукой Наталии Васильевны и моментально был ею агрессивно зацелован и удушен в объятиях. Словно это легкое касание явилось сигналом к давно ожидаемому действию.
– Что это было, Георгий Дмитриевич? – спросила вдовая баронесса громким шепотом, с трудом усмиряя учащенное дыхание.
– Любовь, милая Наталия Васильевна, – ответил так же порывисто отдышливо. – Может даже страсть. Взаимная.
– С ума сойти. До сих пор голова кружиться. Почему это так? Почему только сегодня? Почему у меня такого наслаждения не было никогда раньше?
– Потому, милая моя, что сегодня вы отдавались мне без оглядки на что либо, как последний раз в жизни.
– Но, это же не в последний раз было? – спросила она с надеждой.
– До утра еще далеко, – успокоил я ее. – А там, как Бог рассудит.
Как только прошла торопливая отдышка от безумного страстного секса, которого я никак не ожидал от такой скромницы, я вдруг решил напоследок жизни похулиганить, и нашептал на ухо баронессе, что мы могли бы здорово разнообразить это занятие и даже предложил как.
– Георгий Дмитриевич, – возмущенно прошипела мне в ухо баронесса, – что вы такое мне предлагаете? Я порядочная женщина, а не кокотка. Я хоть и медичка, но все-таки не готова к таким половым экспериментам, на которые и не каждая кокотка-то согласиться.
Пользуясь тем, что в темноте моего масленого выражения лица не видно, я без зазрения совести продолжил развращать молодую женщину.
– Наталия Васильевна, завтра утром нас расстреляют, – привел я неубиваемый резон. – На какой период времени вы желаете отложить своё знакомство с этими, как вы выразились, половыми экспериментами?
– Где вы всему этому научились? – прошипела сестра милосердия уже заинтересовано.
– Да шатало меня по свету. Одно время у меня даже гарем был из очень развратных женщин. Временно.
– Простой фельдшер, а какая загадка, – она потянулась в сладкой истоме, – Тогда Георгий Дмитриевич, поцелуйте меня… ТАМ. Всю жизнь мечтала о таком наслаждении с мужчиной, а сознаться в этом мужу было очень стыдно, вот и молчала.
– Значит, с женщинами такие половые эксперименты вы уже проводили? – не то спросил, не то утвердил.
– Экий вы… Всё-то вам знать надо, Георгий Дмитриевич. Конечно, проводила. Я же курсистка. А все курсистки делятся на тех, кто вырвался из дома, чтобы пуститься в столице во все тяжкие и тех, кто, несмотря ни на какие соблазны, сохраняют себя для мужа. Часто эти последние вскладчину снимают большую квартиру комнат на шесть-семь. Так кстати дешевле выходило, чем по отдельности комнаты снимать в мебелирашках. И жили там общежитийным монастырём, куда мужчин не допускают ни под каким видом. Мебели вечно не хватает, так что приходилось с кем-то делить койку и…
Тут она замолчала, хмыкнув. Еще раз хмыкнула и договорила.
– В общем сапфические игры в этой среде процветали.
– Вы бестужевка?
– Нет, высшие женские курсы Герье. В Москве, на Девичьем поле.








