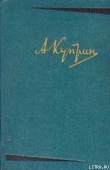Текст книги "Медовые реки"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
VI.
Вечером, когда господа уехали в гости к мировому судье, Агаѳья урвалась на минуточку к Марье Тимоѳеевне. Ее давило предчувствие какой-то неминучей беды. А вдруг Ѳедор Иваныч накроет сибирских старцев... И все из-за нея, скверной. Сердце Агаѳьи замирало от страха, а мысли в голове путались во что-те безсвязное и безвыходное. Шатровыя ворота у избы Марьи Тимоѳеевны, как во всех раскольничьих домах, всегда были на запоре, и калитка отворялась по-старинному только тогда, когда гость "помолитвуется" под волоковым оконцем. Марья Тимоѳеевна выглянула в окно и узнала в темноте Агаѳью. – Чего примчалась, свет?– ласково спрашивала она, когда Агаѳья вошла в избу. – Ох, матушка Марья Тимоѳеевна, тошнехонько...– шептала Агаѳья, сдерживая слезы.– Вся сама не своя... Места не найду... и страшно до смерти... – Вот, вот, матушка...– жалела ее Марья Тимоѳеевна.– Извели тебя вконец, бабочка. В избу вошла Палагея и злыми глазами посмотрела на гостью. Она слышала, как Игнат избил жену, и радовалась. Так и надо вам, мужния жены... Маленькая жестяная лампочка плохо освещала избу, и Палагея никак не могла разсмотреть Агаѳьиных синяков. – Ужо, пойдем в заднюю избу,– предложила Марья Тимоѳеевна. Изба Марьи Тимоѳеевны, не особенно казистая снаружи, вместе с надворными постройками и крытым двором, являлась чем-то в роде деревянной крепости. Самая изба большими сенями делилась на две половины: передняя изба – жилая и задняя – "на всякий случай", главным образом для приема гостей. Сейчас в задней избе, заменявшей моленную, сидел за столом старец Спиридон и писал раскольничьм уставом "канун о единоумершем" по заказу какого-то милостивца-питателя. – Матвея-то нет еще?– довольно грубо спросила Марья Тимоѳеевна, державшая сибирских старцев в строгости. – А придет, куда ему деваться,– спокойно ответил Спиридон, не подымая глаз от своей работы.– Не мешок с деньгами – не потеряется... – Беда мне с вами, вот что,– поодолжала Марья Тимоѳеевна.– Того гляди, Ѳедор Иваныч накроет... – А ты терпи, Марья Тимоѳеевна,– с прежним спокойствием ответил Спиридон.– Не за нас будешь страдать, а за правильную веру... Условный стук в окно прервал эту сцену. В избу вошел старец Матвей и сердито бросил какой-то мешок в угол под лавку. Агаѳья стояла у двери и чувствовала, как ее начинает бить лихорадка. Марья Тимоѳеевна не приглашала ее сесть на лавку и начала разсказывать, как давеча ей грозила докторская "полубарыня". – Грозится на меня, а от самой смрад табачищем... Я-то из-за чего терпеть все это должна? В сам-то деле прикачается Ѳедор Иваныч и заморит в тюрьме... – Будет тебе,– резко остановил ее Матвей.– Какия слова неподобныя выговариваешь? Другая радовалась бы, что свою часть в страдании приемлет, а ты, как коза, новых ворот боишься. Агаѳья, ты ея не слушай... И протчая во страданиях да не минует. Табачников да щепотников испугались, а того не боитесь, что душу свою вот в этом самом страхе губите. Не Ѳедором Иванычем заперто царствие небесное. Что сказано в писании: "нуждницы восхищают царство небесное". А вы: Ѳедор Иваныч... Вот наложу послушание, тогда и будете знать. – Подобострастный я человек, Матвей Петрович,– заговорила другим тоном Марья Тимоѳеевна.– Боюсь по своей женской слабости страдания... – А ты себя бойся... Что тебе показано? Тверди одно: "щепотью молитесь, против солнца ходите, табак курите, рыло свое скоблите"... Вот и вся ваша грамота. Старец Матвей снял с себя кафтан и остался в одной рубахе из синей крестьянской пестрядины, которая выдавала во всех подробностях его могучее сложение. Он раза два взглянул на Агаѳью и погладил косматую бороду. Старец Спиридон продолжал писать, время от времени присматривая свою работу к унылому свету оплывавшей сальной свечи. – А ты ничего не бойся, Агаѳья,– заговорил Матвей, не глядя на нее.– Страх и отчаяние пуще смертнаго греха. Тебе страшно, а ты побороть старайся. – И терпеть надо,– прибавил Спиридон, продолжая писать свой канун.– Все терпеть... Потом старцы как-то сразу накинулись на полубарыню и принялись ее ругать такими словами, что даже Марья Тимоѳеевна вступилась. – И что она вам далась?! – А зачем табачище курит? Разве это подобает женску полу?!.. И волосы подстригает в образ козы... В постные дни жрет скоромное... Дохтур немец и творит волю пославшаго, а она в свою голову антихристу служит. Вот как прилепилась к антихристову окаянству... Что было дальше – Агаѳья плохо помнила. Очень уж складно говорил старец Матвей и даже кулаком себя в грудь колотил. Для нея было ясно одно, именно, что она еще может спасти свою грешную душу и что еще не все погибло. – Дщи {Дщи – дщерь, дочерь.}, уже близится час,– говорил старец Матвей, когда она собралась уходить.– Да не будет уныния и протчая... Маловерни, ежели в вас песть горчичнаго зерна веры... Это была не речь разумнаго человека, а какие-то истерические выклики, и Агаѳья отлично понимала их как-то всем своим грешным бабьим естеством. Ах, какая она была грешная, вся грешная, до последней косточки... И как она чувствовала сейчас свой женский грех и чувствовала, как далеко желанное спасение. И муж ей казался еще больше грешным. За что он ее бил, как не бьют лошадь? – Уйду, уйду...– шептала она, возвращаясь в свою кухню.– Уйду... Ее смущало только одно: полубарыня Прасковья Ивановна, конечно, была кругом виновата, а все-таки была добрая. Никогда не обидит и всегда очестливая такая. Вот только ничего настоящаго не хочет понимать и не может даже понять. Когда Агаѳья вернулась домой, господа были уже дома. Игнат отпряг лошадь и лежал на полатях. Он притворялся, что спит. Агаѳью дожидалась на крылечке горничная Паня и успела шепнуть: – "Он" опять тебя будет бить? – А пусть его бьет...– совершенно спокойно ответила Агаѳья. Действительно, ничего особеннаго не произошло. Агаѳья, не раздеваясь, прилегла на лавку около печи и хотела заснуть. Она до того устала, что, как говорится, рада была месту. – Агаѳья...– послышался голос Игната. – Была Агаѳья, а теперь нет Агаѳьи,– ответила она со смелой простотой.– Чего тебе? Молчание. Потом послышались какие-то сдавленные вздохи и всхлипыванье. – Агаѳья... – Да отстань, постылый!.. Опять молчание, опять всхлипыванье. – И что же это будет?– слышался в темноте голос Игната.– Убью я тебя, Агаѳья... – Бей... – Агаѳья... – Бей, говорят тебе!.. Мало еще бил?.. – Агаѳья... – Молчи, постылый... – Так ничего и не будет?.. – Ничего...
VII.
Что делалось в кухне, доходило в докторскую квартиру через Паню, которая все вызнавала с ловкостью ящерицы. Так гражданин Рихтер узнал, что Агаѳья уже больше не ест из одной чашки с мужем, молится только своему образку, а главное – неистово постится. Игнат больше ея не бьет и все молчит. Одним словом, кухонная трагедия продолжала разыгрываться, оставаясь непонятной и загадочной. Сначала доктор отнесся к этой семейной мужицкой драме совершенно равнодушно, как к самому обычному проявлению жестокой народной тьмы, но потом начал интересоваться все больше и больше и как человек и как врач. – Должны же быть какия-нибудь основания Агаѳьиной психологии,– разсуждал он.– Раскол расколом, социальныя условия сами по себе, а по-моему, тут причины кроются гораздо глубже... Если, например, смотреть на Агаѳью, как на нервную больную? – Она и в действительности больная,– подтверждала Прасковья Ивановна.– Я уже говорила вам об этом. И Марья Тимоѳеевна тоже больная, а ея дочь Пелагея форменный эпилептик. – Да, все это так... Но почему наклонность к истерии в Агаѳье приняла форму упорной религиозной мании? По-твоему, все простыя бабы истерички, но не все так неистово предаются спасению души. Чрезвычайно интересная и типичная форма психическаго разстройства... С этой точки зрерия доктор и приступил к своему делу. Ведь факт – все, а выводы и заключения приклеиваются к нему, как штукатурка к готовым стенам. Доктору начало казаться, что, по существу дела, и вся русская история только curriculum громадной народной истерии. Разве солдат, который идет в огонь, не истерически храбр? Наукой установлен факт, что все великие исторические герои были самые обыкновенные истерико-эпилептики, которым настоящее место в психиатрической больнице. А история, сама по себе, разве не есть история массовой истерии? Первые века христианства, эпоха крестовых походов, священная инквизиция, реформация, наш родной русский раскол – все это только отдельныя звенья одной общей органической цепи. Агаѳья являлась в этом круговороте громадной исторической концепции только минимальным фактом, той бактерией, которая создавала незримо самую историю. И чем больше вдумывался доктор в находившийся пред его глазами материал, тем сильнее убеждался в его громадности и, рядом, в недостатке собственных средств для его изследования, проверки и точнаго научнаго анализа. Он походил на человека, который голыми руками хочет схватить раскаленное добела железо... Все это было и безсмысленно, и обидно, и как-то больно, больно той тупой болью, какая является только при серьезных хронических заболеваниях. Чтобы быть последовательным, нужно было по частному вопросу об Агаѳье обратиться к ея родовому прошлому, как первоисточнику. Случай не заставил себя ждать. К доктору сразу явились отец и мать Агаѳьи, очень почтенные люди, составлявшие по-заводски "справную семью". Они часа два просидели в кухне, прежде чем решились безпокоить господ. – Ах, да, я очень рад вас видеть,– с торопливой виноватостью заговорил доктор.– Вы относительно Агаѳьи? Отец Агаѳьи, рослый и сравнительно молодой мужик, тупо переминался на одном месте и ничего не отвечал. Красноречивее оказалась мать Агаѳьи, преждевременно состарившаяся женщина. – Все, дохтур, через Марью Тимоѳеевну,– быстро заговорила она, выступая вперед.– Все через нее, поскуду... Муж дернул ее за сарафан, но это оказалось безполезным – Она первую дочь заморила в скитах,– продолжала мать Агаѳьи с нараставшим азартом.– А вторая дочь Палагея ни к чему, вот она и ухватилась за нашу Агаѳью. – Для чего же ей именно ваша Агаѳья?– спрашивал доктор, но понимая ничего. – Марья-то Тимоѳеевна знает, для чего... У ней всякое лыко в строку. На части ее мало растерзать... У ней и тетка такая же была. В третьем году померла... Она вся в тетку. – Вы тетку Агаѳьи оставьте,– заявил доктор, шагая по кабинету.– А вот что мы будем делать с Агаѳьей? Мать Агаѳьи, как и следует даме, в ответ расплакалась, а отец, переминаясь с ноги на ногу, заявил: – Конечно, Агаѳья, напримерно, нам единоутробная дочь, а промежду прочим у ней муж... Муж и должон отвечать за родную жену. – В таком случае, зачем вы пришли ко мне?– спросил доктор, ставя вопрос ребром. Кстати, через ту же всеведущую Паню он знал, что отец и мать Агаѳьи "прикержачивают", т.-е. тайно сочувствуют расколу, хотя и числятся православными. Это для доктора имело громадное значение, потому что (следовательно) Агаѳья только фактически довершала реальным фактом невыясненное стремление всей семьи. – Так, значит, как же быть?– решительно поставил вопрос доктор.– Мое дело сторона. Вам ближе знать... Доктор смотрел на отца и мать Агаѳьи, как на первоисточники ея религиозной мании, а эти первоисточники решительно ничего не давали для собственнаго оправдания. Самая обыкновенная семья заводских рабочих – и больше ничего. Никаких ненормальных признаков, кроме некоторой тупости и обычной русской апатии. Они говорили о родной дочери, как о постороннем лице, не проявляя ничего особеннаго. – Прасковья Ивановна, я в отчаянии,– заявлял гражданин Рихтер.– Отец и мать Агаѳьи – совершенно нормальные люди. – Не может быть?!– горячо протестовала Прасковья Ивановна.– И вам говорю, гражданин Рихтер, не может быть!.. – У меня уже составилась целая теория, а они ее нарушают самым безсовестным образом. Это какие-то пещерные люди, т.-е. я хочу сказать – люди пещернаго периода. Прасковья Ивановна выкурила, по крайней мере, две папиросы, пока ответила совершенно определенно и категорически: – Гаврила Гаврилыч, а я сочувствую вот именно этим пещерным людям. По наукам, как вам известно, я ушла не особенно далеко, но чувствовать могу. И если бы... да... – Если бы я был кучером Игнатом и бил тебя смертным боем... – Гаврила Гаврилыч, есть предел даже для шуток, а я говорю совершенно сесьезно... – Слушаю-с... – И слушайте... Я завидую вот этой самой Агаѳье, завидую, конечно, не потому, что она ходит в синяках, а тому, что у нея... – Спасение души? – Да! Прасковья Ивановна не замечала, что она повторяется,– все это она высказала еще раньше. С Прасковьей Ивановной делалось что-то странное, чего раньше не было. Ну, скажите, пожалуйста, при чем тут какая-то кухарка Агаѳья?!. Гражданин Рихтер самым добросовестным образом отказывался что-нибудь понимать. – Прасковья Ивановна, ты, просто, как говорится, чудишь,– категорически резюмировал все происходившее гражданин Рихтер. – Я?!..– Она засмеялась и так странно засмеялась.– Гражданин Рихтер, ведь вы никогда не думали о душе? Да? А правда, совесть, та маленькая правда, которая творится в четырех стенах?!.. Прасковья Ивановна плакала, смеялась и опять плакала, как живой препарат истерии. Гражданин Рихтер только махнул на нее рукой, потому что давно убедился в безполезности всяких средств, когда дело коснется дамских нервов. Да, есть именно дамские нервы, хотя и принято смеяться над этим определением, как есть нервы раскольничьи (читай: Агаѳья).
VIII.
Гражданин Рихтер делал несколько попыток разговориться по душе с Агаѳьей, но из этого ничего не вышло. Она из слова в слово повторила те же безсмыслицы, какия говорила барыне. Игнат оказался толковее жены. На допросе он сообщил много интереснаго. – Сказывают, уж пятая труба прошла... – Какая труба? Кто сказывает? – Ну, те уж знают, барин, которые сказывают. Будет всех семь труб до светопреставленья... Две кровавых звезды упадут. Первая-то пала еще при третьей трубе, а вторая, сказывают, недавно свалилась... Это похуже будет первой, потому как отворила кладезь бездны. – Кладезь? – Точно так, Гаврила Гаврилыч. Прямо сказано в писании: и возгласи труба пятая. – Да ведь ты неграмотный, Игнат, как же говоришь о писании? – А сказывали... Те уж знают. – А отчего я не знаю, хоть и грамотный? Игнат уставился глазами в угол и долго подыскивал ответ. – У господ совсем наоборот, барин... – Значит, по-твоему, спасутся только простые люди и купцы? – Точно так... Только купцам гораздо труднее, потому как состоят при собственном капитале. Носившись напрасно с Агаѳьей и кучером Игнатом, доктор догадался, что делал именно то, чего ни в каком случае не следовало делать. Конечно, о его разговорах и разспросах все доводится до сведения сибирских старцев; те примут, с своей стороны, соответствующия меры, так как в их глазах он, гражданин Рихтер, вместе с Ѳедором Иванычем, только любезный антихристов сосуд. Нужно было начать с Марьи Тимоѳеевпы, которую Прасковья Ивановна прогнала совершению напрасно. Из-за последняго у доктора с Прасковьей Ивановной произошла горячая семейная сцена, прячем он чувствовал себя совершено правым и должен был просить извинения. – Если вам ее нужно, так я ее приглашу,– сделала с своей стороны уступку Прасковья Ивановна.– Она такая безсовестная, и ее трудно огорчить. – Так, пожалуйста, пригласи ее. Марья Тимоѳеевна явилась по первому зову, как ни в чем не бывало. Она, конечно, догадалась, в чем дело, хотя и не выдавала себя ни одним словом. Когда доктор заявил ей о своем желании познакомиться с сибирскими старцами, Марья Тимоѳеевна только замахала руками. – И что ты только придумал, Гаврила Гаврилыч? И любонытпнаго-то ничего в них нет... Просто, мужичье сиволапое. – Ну, это мое дело, Марья Тимоѳеевна, а вы все-таки приведите как-нибудь их вечерком. Будто пришли полечиться – я не имею права никакому больному отказывать в приеме. – Ужо, поговорю... Может, как-нибудь завернут ко мне. – Я вам даю честное слово, что разговор останется между нами и Ѳедор Иваныч никогда ничего о нем не узнает. Ведь старцы ходят же в мою кухню... – Уж не знаю, право... Поговорить поговорю, а только... А ежели спросят, для чего их надобно тебе? – Хочу поговорить о старой вере... – Значит, насчет Агаѳьи? – И насчет Агаѳьи, между прочим... Сибирские старцы расхохотались, когда узнали о желании доктора познакомиться. – Никак в нашу веру хочет перейти,– шутливо говорил старец Матвей.– В самый бы раз... Вот только зачем постов не соблюдает, да табачище курит, да с женой не по закону живет. – А ты его и обличи,– советовала Марья Тимоѳеевна. – И обличу... Даже очень это просто. Дня через три Марья Тимоѳеевна привела старца Спиридона в кухню и послала Агаѳью сказать об этом барину. Было уже темно, по старца провели в столовую не прямо, а через садик, чтобы никто не видал. – Так-то лучше будет, ежели с опаской,– обяснила Марья Тимоѳеевна. Опыт оказался совершенно неудачным. Старец Спиридон решительно ничего не знал, кроме своих канонов, и нес какую-то околесную. – И нужно терпеть...– повторял он ни к селу ни к городу. Доктор попросил его показать язык, сосчитал пульс и выслушал сердце, которое работало неправильно. Старец жаловался на одышку и на то, что от постной пищи у него "голову обносить". Потом старец ходил по комнате с закрытыми глазами, стоял на одной ноге, растопыривал пальцы на руках, попеременно раскрывал глаза и т. д. Когда доктор для полноты диагноза хотел смерить температуру старца, последний обозлился. – Не согласен, ваше благородие,– грубо заявил он.– Это вы уж других обманывайте, кто попроще... – Ведь вы же сами говорите, что нужно терпеть? – Терпеть, да не от антихриста!.. Другим показывай свою антихристову машинку... – Хорошо, хорошо... А как вы относительно водки? – По уставу, когда разрешение вина и елея... Доктор только теперь догадался, что это совсем не тот старец, котораго ему нужно, и спросил: – Это вы дрались с моим кучером Игнатом? – Никак нет-с,– по-солдатски ответил Спиридон, принимая почему-то виноватый вид.– Хилый я человек, и куда мне драться. – Ну хорошо. Это я так... Может-быть, вы какого-нибудь лекарства желаете получить? – Сохрани, Господи... Можно себе представить то впечатление, которое произвел разсказ старца Спиридона, когда он вернулся к Марье Тимоѳеевне. Даже никогда не смеявшийся старец Матвей хохотал до слез. – Вот-вот, оно самое,– повторял он.– Ты кому язык-то показывал? Ах, Спиридон, Спиридон... это ты бесу показывал. Ты язык высунул, а бесу это и надобно... Он уж знает, что ему нужно. И персты растопыривал? А какую руку? Правую? Вот-вот... Щепоть и вышла. А на одной ноге, как журавль, к чему стоял? Христос-то когда на одной ноге стоял? Ну-ка? – Неученый я человек...– хмуро отвечал сконфуженный Спиридон. – Вот то-то и есть... как есть ничего не понимаешь. На одной-то ноге вот как грешно стоять, потому как Христос стоял на одной ноге, когда садился на осла... Ах, Спиридон, Спиридон, потешился над тобой бес... Спиридон наконец озлился. – Да я-то что же? Все это Марья Тимоѳеевна... Она меня подвела. Доктор-то наказал тебя прислать. Вот ступай и покажи свою храбрость. Марья Тимоѳеевна тоже грешным делом посмеялась над простотой Спиридона. Очень уж смешно все вышло. Она скрыла, что Прасковья Ивановна и ее тоже заставляла стоять на одной ноге и ходить по комнате с закрытыми глазами. – А зачем ты бесу мигал?– не унимался старец Матвей.– Ах, Спиридон, Спиридон... И оба глаза закрывал? Бесу вот это самое и нужно, чтобы человек оба глаза закрывал – он в эту пору и цапает его своей мерзкой лапой. – Вот что, Матвей Петрович,– заговорила Марья Тимоѳеевна, косвенно вступаясь за Спиридона.– Осудил ты Спиридона и посмеялся над ним, значит, грех-то и перекачнулся на тебя. Ты бы лучше пошел сам к доктору и переговорил с ним... – А ты думаешь, не пойду?– храбрился Матвей.– Ничего я не боюсь... И еще обличу от писания. – Так-то лучше будет, миленький. – Зачем доктор и его полубарыня вцепились в Агаѳью? Не стало им других кухарок? Небойсь, пока Агаѳья не думала о спасении души, так ея и не замечали... Вот пойду и обличу. Подвела старца Матвея честнйя вдова Марья Тимоѳеевна. Позахвастался он грешным делом, и отступаться от своего слова было поздно. – И пойду,– упрямо повторял он.– Может, еще и беса посрамлю...
IX.
Старец Матвей сдержал свое слово и через несколько дней вечером "обявился" в докторской кухне. – В горницы я не пойду,– заявил он Агаѳье.– А твоему доктору могу сказать словечко, если придет сюда. Так и скажи... Агаѳья побежала сначала к барыне, бледная и перепутанная. Прасковье Ивановне сделалось ея жаль. – Да вы не волнуйтесь, Агаѳья,– старалась она ее успокоить.– Ничего особеннаго не будет. Поговорят – и только. Гражданин Рихтер сидел у себя в кабинете и что-то читал, когда Прасковья Ивановна сообщила ему о появлении старца Матвея. – А, отлично... Взглянув на Прасковью Ивановну, он прибавил: – Ты, кажется, волнуешься? – Да... так... Прибегала Агаѳья – лица на ней нет. – Пустяки... Мне хочется выяснить себе некоторые вопросы с чисто-научной точки зрения. Ты, может-быть, думаешь, что этот старец будет бить меня, как Игната? – Нет, я этого совсем не думаю, а только... Мне нельзя итти в кухню вместе с вами? – Гм... Думаю, что лучше этого не делать. Ты только будешь мешать нам... Прасковья Ивановна сочла долгом обидеться, хотя и понимала, что гражданин Рихтер был прав. Все нельзя... И это с ранняго детства: "ты – девочка, и тебе это нельзя". Девушке тоже все "нельзя", а теперь она женщина, все может понимать – и все-таки проклятое слово "нельзя" остается, как у каких-то дикарей слово "табу". Никто не виноват, а одно слово висит у всех на языке, как замок. Кстати, когда гражданин Рихтер был чем-нибудь недоволен, он называл Прасковью Ивановну Прасковьей Ивановной; когда он был в хорошем настроении, то называл Пашей или Параней, а когда в совсем веселом – попросту Приськой. Прислуге и пациентам он неизменно говорил "вы", кроме отдельных случаев, и не обижался, что они все говорили ему "ты". Старец Матвей сидел в кухне, на лавочке у самой двери. Это была его привычка, точно он вечно хотел куда-то бежать, а бегать ему приходилось всю жизнь. Когда доктор подходил к кухне, ему загородила дорогу Агаѳья и умоляюще прошептала: – Барин, папиросу бросьте... – Ах, да... Он бросил папиросу и вошел в кухню. Старец Матвей поднялся и молча поклонился. – Здравствуй, барин... – Садитесь, пожалуйста. Агаѳья осталась караулить у двери, чтобы кто-нибудь не вошел. Она вся замерла от страха и чувствовала, как бьется собственное сердце в груди. Что только и будет – подумать страпшо. Как на грех, еще наедет Ѳедор Иваныч... По привычке доктор прошелся несколько раз по кухне, прежде чем заговорить. Сибирский старец ему понравился с перваго раза, как великолепный антропологический экземпляр. Таких сохранившихся субектов ему приходилось встречать в своей практике не итого. Настоящий крестьянский богатырь. – Да, так мне хотелось переговорить с вами относительно Агаѳьи,– начал доктор, точно продолжал только-что прерванный разговор. – Нестоящее это дело, барин,– спокойно ответил Матвей. – Как нестоящее? – Первое дело – баба, а второе дело – силом никого в царство небесное за рога не тащат. Кому, значит, дадено. – Однако вот вы уговариваете Агаѳью уходить в скиты? – Я?!.. И даже не подумал... А ежели она сама, напримерно, желает спасти душу. Да... Сама пристает ко мне, а я что же Кухня освещалась слабым огнем дешевой жестяной лампочки, и доктор не мог хорошенько разсмотреть выражение лица старца Матвея, когда он говорил. Доктору казалось, что этот загадочный старец смотрит на него с улыбкой, и он начинал чувствовать себя неловко. Матвей, с своей стороны, тоже присматривался к доктору и в свою очередь остался доволен. И борода и усы – все как следует, хоть и немец. Вот зачем он только шею себе удавил "галстусом". – Вот ты со мной разговариваешь, барин,– заговорил Матвей.– А мне, может, и слушать-то тебя грешно... – Почему? – Да вот креста-то, поди, на тебе нет, а вместо него галстус удавления носишь... – Это пустяки. Ты просто не смотри на мой галстух. – Но твоему-то оно, точно, что все пустяки... – Грех совсем не в том, как человек одевается или что он ест и пьет, а в том, живет он по совести или нет... Не правда ли? Вот ты читаешь писание, а в писании сказано, что не сквернит человека входящее во уста, а исходящее из уст. – Сказано-то оно сказано, да только это самое надо понимать тоже по писанию. В седьми-толковом Апокалипсисе пряменько говорится... Прочитай-ка Изложение Филарета патриарха – и там найдешь. Вот вы и ученые, а все сидите в челюстях мысленнаго льва... Старец Матвей с ловкостью записного полемизатора отводил речь от Агаѳьи и засыпал доктора совершенно непонятными для него цитатами из разных раскольничьих цветников и еще более непонятной терминологией. Так могут говорить только религиозные маниаки, для которых слова дороже их содержания. По всему было видно, что Матвей привык поучать и говорил учительским тоном, и что больше всего на его "послушников" и "послушниц", как Агаѳья, действовал именно этот убежденный и страстно-повелительный тон. Вероятно, так же говорил Стенька Разин, Гришка Отрепьев, Емельян Иваныч Пугачев, "изящный скиталец" протопоп Аввакум и другие вожаки и коноводы, потому что за шелухой их ненужных иногда слов чувствовалась стихийная сила, та почвенная поёмная вода, которая неудержимо подмывает самые крутые берега и крушит все на своем властном пути. Конечно, сибирский старец Матвей только ничтожность сам по себе, особенно рядом с крупными историческими именами, но он действовал отраженной силой, как отработанный пар "Если бы смерить у него температуру...– думал доктор, слушая старца Матвея.– Или, по крайней мере, сосчитать пульс..." А старец Матвей уже вошел в раж и принялся обличать барина в "галстусе". – А что тебе далась Агаѳья? Конечно, баба, а свою телесную бабью немощь жаждет отложить и мужецкую крепость восприять... Господам-то этого и не понять, потому как у них одно сладкое житье на уме. Зачем вам далась Агаѳья? – А разве нельзя спасти душу у себя дома, а нужно бежать куда-то в горы, в лес?.. – Никак даже невозможно... И опять вам этого невозможно понять, значит, подвига. В миру со всех сторон грех плывет, а в пустыне кругом одно спасенье. Там и мысли другия... Ты вот как посмеялся над старцем Спиридоном, да еще надо мною хотел Пошутить... – И не думал... Я просто не понимаю, зачем для спасения души непременно нужно куда-то бежать. Вы побежите, я побегу... – Не побежишь, барин... Некуда тебе бежать, да и от самого себя не убежать. – И спасенья нет? – Нет. Странное дело, гражданин Рихтер, разговаривая с сибирским старцем, начал испытывать что-то такое особенное, для чего не было названия. В безсвязных словах старца Матвея была своя гипнотизирующая логика, было то, что называется настроением. Доктор точно начинал что-то такое понимать, как мы с радостным страхом начинаем иногда понимать морской прибой, торжествующий ропот дремучаго леса, подавляющую красоту гор... Ведь и здесь мысли и чувства шли могучим прибоем и застывали каменными громадами. Вчера мертвое и даже ничтожное слово принимало глубокое внутреннее значение, смысл и силу. Это начинавшееся настроение было прервано появлением испуганной Агаѳьи, которая побелевшими губами едва могла прошептать: – Ѳедор Иваныч приехал...
X.
Наступило лето. Сибирские старцы куда-то исчезли и больше не показывались в Ушкуйском заводе. В докторской кухне водворились мир и тишина. Кучер Игнат, как ни в чем не бывало, исполнял свои кучерския обязанности, а Агаѳья управлялась в своей кухне. Прасковья Ивановна была рада, что все уладилось само собой. – Старцы ушли в горы,– сообщала горничная Паня. – Совсем? – Неизвестно... Марья Тимоѳеевна знает, но ничего не говорит даже Агаѳье. – Ну, а что же Агаѳья? – А ничего... Все молится по-своему и ест только из своей чашки. Игнат все молчит... Агаѳья за лето сильно похудела, потому что постилась и волновалась. Синяки прошли, и она сделалась еще красивее. Глаза, благодаря худобе, казались больше и смотрели таким хорошем, вдумчивым взглядом. Доктор как-то встретил ее в столовой, когда Прасковья Ивановна заказывала обед, и невольно залюбовался ею. – Какая красивая женщина,– подумал он вслух. Прасковья Ивановна была ревнива и надулась. Помилуйте, любоваться кухаркой,– что же это такое? – Что же, я не слепой,– как то по-детски оправдывался доктор.– Да, очень красивая женщина. И лицо совсем какое-то особенное. Становой Ѳедор Иваныч еще раньше обратил свое благосклонное внимание на Агаѳью, и доктору не нравилось, что при встрече с ней он отпускал довольно свободныя шуточки. Сейчас Ѳедор Иваныч удвоил свое внимание и несколько раз повторял: – Очень приятный бабец эта ваша Агаѳья... Уж, кажется, я знаю женщин, каждую бабу в своем стану по имени могу назвать. И вообще, доктор, говоря между нами – Прасковья Ивановна не слышит?– да, говоря между нами, я предпочитаю простую русскую бабу всем этим барыням. А ваших ученых женщин – уж извините меня за откровенность – просто ненавижу. – Да где вы видали ученых женщин, Ѳедор Иваныч? – А вообще... Для меня ученая женщина напоминает собаку, выкрашенную в зеленую краску. – Да ведь вы и собак таких нигде не видали? – Не видал, а ненавижу... То ли дело какая-нибудь Агаѳья. У нея все как-то кругло выходит, и говорит она какими-то круглыми словами... У, батенька, поверьте мне, что я отлично знаю женщин. Была тут одна дьяконица... Ну, да это все равно... Вообще, отлично понимаю этот самый женский вопрос. Пренебрежительный тон, которым Ѳедор Иваныч говорил о женщинах, не нравился доктору, и он в то же время ловил самого себя в этом отношении, потому что относился к женщинам немного свысока, с прибавкой специально-докторской точки зрения на этот деликатный предмет. А такая точка зрения, к сожалению, существовала, хотя доктор и считал себя поборником женскаго образования и верил в женскую эмансипацию. Но все это было в области теоретических мечтаний, а настоящая реальная женщина (Прасковья Ивановна) как-то совсем не укладывалась в эту рамку. Почему, например, он сожительствует с той же Прасковьей Ивановной? А так, по неизвестным причинам, как складывается большинство таких сожительств. Свежая молодая девушка, которая отлично варила свой малороссийский борщ, пела малороссийския песни и танцовала с Ѳедором Иванычем гопака – вот и все. Прибавьте к этому сближающую обстановку совместной медицинской работы, полныя белыя руки Прасковьи Ивановны, заразительный веселый смех – и женский вопрос для даннаго случая был решен. В голову доктора как-то даже не заходил вопрос, любит он или не любит Прасковью Ивановну. Затем явилась привычка, и день шел за днем. Кучер Игнат относился к бабам презрительно, как все кучера. Но в одно прекрасное утро пришел к доктору и, глядя в угол, заявил: – А я к тебе, барин... – Что случилось, Игнат? – А ты бы поговорил с Агаѳьей... Совсем отбилась от рук бабенка. – А зачем ты ее бьешь? – А кто же ее будет учить? Поговорите вы с ней, барин, может, она вас больше послушает... Агаѳья в докторском кабинете. Она остановилась у дверей и смотрит на барина спокойными, добрыми глазами. Доктор только сейчас заметил, что у Агаѳьи чудные темно-серые глаза с поволокой и мягкие, как шелк, темно-русые волосы. – Вот что, Агаѳья...– начинает доктор, подбирая слова.– Приходил Игнат и просил переговорить с тобой. У вас что-то такое там вышло... Одним словом, он жаловался на тебя. – Не жена я ему больше, барин,– с покорной ласковостью отвечает Агаѳья, оправляя сарафан.– Напрасно только тебя безпокоил, значит, Игнат. – Как не жена? Ведь вы венчаны? – Жена бывает от Бога, а не от людей... – Ты его все-таки любила? Агаѳья не понимает вопроса. Доктор поправляется: – Ну, по-вашему, жалела? – И сейчас жалею... – Так в чем же дело? – А уйду я от него, от Игната... Своя-то душа дороже Игната. Ни к чему мы жили... так... Один грех. Всякая баба грешная, барин... И хуже нет нашего бабьяго греха. Мужик-то какими глазами на бабу глядит? И что ему от нашего брата бабы нужно? Вот это и есть самый настоящий бабий грех... Разве такой-то муж думает о бабьей душе? Для него что лошадь, что баба – одна одну работу работает, другая другую. И не один мой Игнат, а все мужики на одну руку. Вот я и уйду... – В скиты? – Не знаю, ничего не знаю... – А кто же знает? Агаѳья в ответь только опустила глаза. Доктор заметил, что у нея чудный, свежий рот и удивительно красивые зубы. И смущение так к ней шло. Доктору вдруг захотелось сказать ей что-нибудь такое хорошее и доброе, чтобы поддержать эту проснувшуюся душу, утешить ее, просто – приласкать, приласкать по-хорошему, как ласкают ребенка. – И вам не страшно, Агаѳья?– неожиданно для самого себя спросил он. Она посмотрела на него так просто, доверчиво и ответила тоном человека, который много страдал и привык к своему положению: – Как же не страшно, барин? И еще как страшно-то... Как раздумаешься про себя – головушка с плеч. Отец с матерью сели покорами... Мать-то как убивается. Тоже не чужая. А что же я могу? – В лесу скучно будет жить. – Богу молиться не скучно... Грехи буду отмаливать. – Да... Так что же сказать Игнату? – А то и скажи, что... что... Агаѳья закрыла лицо руками и тихо заплакала. Доктор смотрел на нее и не знал, что ей сказать в утешение. Ведь, в сущности, она была права... Да и что он, гражданин Рихтер, мог ей сказать: живи с нелюбимым мужем и спасай свою душу у меня в кухне. А ее манило пустынножительство в горной глуши, жажда подвига, страстное желание стряхнуть с себя всякую женскую скверну. Сколько в последнем для этой простой и чистой души было поэзии, смысла и неотвратимой ничем тяги... И как сейчас он, гражданин Рихтер, вот сейчас понимал ее, всю понимал, с ея нелепыми словами, полумыслями и родовыми муками внутренняго духовнаго человека. Кучер Игнат получил от барина неожиданно для него суровый ответ: – Вы, Игнат, просто негодяй и пальца не стоите Агаѳьи. Бить такую женщину – это... это... Одним словом, вы – негодяй. Кучер Игнат долго чесал в затылке, переминался с ноги на ногу, как спутанная лошадь, и кончил тем, что погрозил в пространство, неизвестно кому, кулаком.