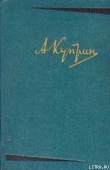Текст книги "Медовые реки"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Сибирские старцы, кухарка Агаѳья и гражданин Рихтэр.
I.
Средняго роста, плечистый и коренастый старик осторожно пробирался по огороду, выбирая дорогу между гряд так, чтобы его не было видно из окон докторской квартиры. Впрочем, сам доктор вставал поздно, а могла увидеть акушерка Прасковья Ивановна или ея горничная Паня. Старик благополучно обогнул баню, и оставалось пройти небольшое разстояние между сараями и кухней. Окна в кухне были открыты, и в одном виднелась спина кухарки Агаѳьи, месившей тесто. "Экая спина-то",– подумал старик. – Ты это куда прешь-то?– неожиданно окликнул его сердитый голос кучера Игната.– Тебе что было сказано? Позабыл станового Ѳедора Иваныча? – Оставь ты меня, Игнат,– ответил старик, стараясь придать своему голосу строгую ласковость.– И совсем даже не твое это дело... Ради Бога, оставь. Не к тебе ведь иду... Игнат, здоровенный парень, с скуластым и угрюмым лицом, чистил докторскую лошадь и в этот момент отличался особенной деловой мрачностью, а тут еще старец подвернулся. – Не к тебе иду, сказано,– повторил старик уже с некоторым нахальством. – Значит, к Агаѳье? – Значит, к Агаѳье...– вызывающе ответил старик, глядя на Игната в упор маленькими серыми глазками. Он уже хотел итти к кухне, когда Игнат вспомнил, что ведь Агаѳья его жена, и что на этом основании следует старику накостылять хорошенько шею. Игнат бросил скребницу и остановил старика, схватив за плечо. – Куда прешь, безголовый?!.. Старик только повернул могучим плечом, и кучер Игнат отлетел в сторону. – Говорят тебе: оставь!– сурово крикнул старик.– А то единым махом весь из тебя дух вышибу... Остервенившийся Игнат уже ничего не понимал, с каким-то ревом бросился на старика и, как медведь, сразу подмял его под себя. Но это продолжалось всего один момент, а в следующий уже старик сидел на Игнате верхом и немилосердно колотил его прямо по лицу, так что только скулы трещали. – Говорили тебе: оставь...– повторял старик. На крик Игната из кухни выбежала Агаѳья и с причитаньями начала разнимать дравшихся. – Голубчик... Матвей Петрович... оставь ты его, глупаго!.. Ничего он не понимает... Когда Агаѳья убедилась, что ей не разнять дравшихся, она пустила в ход последнее средство и проговорил: – Вон барыня в окно смотрит... Смотрела в окно не барыня, а горничная Паня, но дравшиеся поднялись и конфузливо пошли в кухню. Дорогой Игнат успел вытереть кровь с лица рукавом рубахи, продолжая ругаться. – Зачем по скуле бьешь, желторотый?!.. Вот приедет становой Ѳедор Иваныч, так я тебя произведу... Будешь помнить, каков есть человек Игнат... Я тебе покажу, старому чорту. – Говорил тебе: оставь,– повторял свое старик.– Я тебя не трогал... – Ох, оставьте вы грешить, ради истиннаго Христа,– умоляла слезливо Агаѳья. Кухня была светлая и большая, как и полагается настоящей господской кухне. И кухарка была по кухне – молодая, ядреная, как репа. Она носила сборчатый сарафан с чисто-заводским шиком, а подвязаппый под мышками длинный передник ("запон", как говорят на Урале) нисколько не портил могучей груди. Вообще, баба была красавица, как ее ни наряди. Она показала глазами старику место в переднем углу на лавке под образом, но он только покосился на образ и присел на кончик лавки у двери, спиной к образу. Игнат умывался у рукомойки за большой русской печью и продолжал ругаться. – Знаем мы этих варнаков, сибирских старцев... Даже очень хорошо знаем. Кто в третьем году у нас хомуты украл? Выпросился ночевать такой же варнак, а утром хомутов и не стало... Агаѳья понимала, что Игнат уже не сердится на старца и что сорвет сердце на ней. – Ну и пусть бьет,– решила она про себя, улыбаясь смиренно сидевшему на лавочке сибирскому старцу.– И пусть... Она добыла из залавка кусок вареной говядины от вчерашняго господскаго супа и подала на стол. А потом отрезала большой ломоть ржаного хлеба и певуче проговорила: – Не обезсудь, миленький, на угощении... В чужих людях живем, так уж что под рукой нашлось. Прикушай, Матвей Петрович... Сибирский старец взял ломоть хлеба, взвесил его на руке и с улыбкой спросил: – Но-твоему это, Агаѳьюшка, хлеб? – Уж как печь испекла, Матвей Петрович...– ответила Агаѳья, не понимая вопроса. – Печь-то печью, а только печаль не от печи... Мучку-то на каких весах весила? На клейменых, голубушка: на чашках-то лежит мучка, а на коромысле печать антихристова. И кто ест сей хлеб, тот верный слуга антихристов. В Апокалипсисе пряменько сказано: "без числа его ни купити, ни продати никто не может, а число его 666.." Поняла, миленькая? Игнат только-что хотел вытереть лицо полотенцем, но так и остолбенел. Вот как ловко сказал сибирский старец про клейменый-то хлеб... Игнат с мокрым лицом подошел к старцу и бухнул ему в ноги. – Уж ты того, Матвей... значит, прости за давешнее... – Не мне кланяйся, миленький, а кланяйся своему становому Ѳедору Иванычу, самому любезному антихристову сосуду,– сурово ответил старец, поднимаясь с лавки. Он подтянул ременный пояс, которым был перехвачен татарский азям, и хотел выйти, но, оглянувшись на стоявшую у печки Агаѳью, заметил стоявшую на окне пустую бутылку из-под сельтерской воды. – Это у вас что такое? – Бутылка. . – Вижу, и антихристово клеймо на бутылке вижу. А вот ты мне скажи, что в бутылке-то было?.. – Известно, вода... – Вот то-то, что вода... Вода – дар Божий и шипеть не будет. А тут вытащишь пробку, твоя вода и зашипит, потому как он, скверный, надышал в бутылку смраду. Господам, которые щепотью молятся, это первый скус... Ох, и говорить-то, миленькие, грешно об его мерзостях! Все у него щепотники, как рыба в неводу, и все он осквернил: где скверной своей лапой цапнет, где смрадом надышит, где свою антихристову печать наложит, яко свое антихристово знамение. Когда сибирский старец ушел, Игнат молча бросился на жену и зачал ее немилосердно бить. Он таскал ее по полу за косы, топтал ногами, бил кулаком прямо по лицу. – Вот тебе сибирские старцы!..– рычал Игнат, делая передышку.– Я из тебя вышибу всю дурь, змея... Агаѳья все терпела, пока муж не ударил ее ногой прямо в живот. Господская кухня огласилась неистовым бабьим криком.
II.
Отчаянный вопль Агаѳьи разбудил барыню Прасковью Ивановну. Она выскочила в ночной кофточке в столовую, где спряталась Паня. – Игнат убил Агаѳью,– шопотом заявила перепуганная и побледневшая, как полотно, девушка.– Своими глазами видела, барыня... Донесшийся из кухни новый вопль показал, что Агаѳья еще жива. Прасковья Ивановна не растерялась, а, накинув на скорую руку утренний капот, в однех туфлях бросилась в кабинет, где спал доктор Рихтер. – Где у вас револьвер, Гаврила Гаврилыч?– кричала она, на ходу Завязывая распущенные волосы в узел.– Игнат убивает жену... – Револьвер в письменном столе,– спокойно ответил доктор, потягиваясь под своим пледом.– А что касается Игната, так я тебе не советую мешаться в чужия семейныя дела... – А если он убивает Агаѳью?.. Паня видела своими глазами. – Пустяки, просто маленькое семейное недоразумение. Агаѳья повоет, а потом и помирятся. – Ничего вы не понимаете! Таких вещей нельзя позволять, и я могу только удивляться вашему безсердечию... – Успокойся, пожалуйста, и не мешай мне спать. Револьвер в левом ящике... Только будь осторожна и не подстрели сгоряча себя. Пока Прасковья Ивановна искала револьвер, доктор невольно полюбовался ею. В сущности, удивительно милая женщина, не утратившая ни в фигуре ни в движениях девичьей свежести. Даже безпорядочный утренний костюм не портил общаго впечатления. Особенно хорошо было круглое лицо с темными горячими глазами, сейчас точно вспыхнувшее чисто-южной энергией. Когда Прасковья Ивановна сердилась, она была особенно хороша, что свойственно не всем женщинам. С своей стороны, Прасковья Ивановна в спокойном равнодушии доктора видела только тысяча первое доказательство гнуснаго мужского эгоизма. Схватив револьвер, она с презрительной улыбкой проговорила: – Вы, Гаврила Гаврилыч... вы, действительно, только гражданин Рихтер – я больше ничего. – Что же, я ничего не имею против этого,– согласился доктор, позевывая. – И кухаркин сын,– прибавила уже про себя Прасковья Ивановна.– Сейчас видно кухаркину кровь... Выбежав в следующую комнату с револьвером в руках, она успела уже раскаяться в этой выговоренной про себя, тайной мысли. – Все еще убивает...– встретила ее шопотом Паня, ждавшая в столовой.– Вот как кричит Агаѳья... – А вот я сейчас его застрелю, негодяя!– энергично ответила Прасковья Ивановна показав револьвер.– Да еще барин ему задаст, когда встанет. Кухня была через двор. Когда Прасковья Ивановна спустилась с параднаго крыльца, то увидела, что Игнат, как ни в чем не бывало, чистит под навесом лошадь. Она быстро подошла к нему и грозно спросила: – Ты это что делаешь, разбойник... а? Игнат даже не повернул головы и, продолжая драть скребницей вздрагивавшую лошадь, очень грубо ответил: – Лошадь чищу... – Ах, ты, негодяй!– уже крикнула Прасковья Ивановна, подступая ближе.– А кто сейчас убивал Агаѳью? – Агаѳью? Это вас не касаемо, барыня, потому как Агаѳья мне жена, и я по закону могу делать с ней, что хочу... – Да ты с кем разговариваешь-то, разбойник? Вот я возьму и сейчас застрелю тебя... – И даже очень не смеете убивать живого человека. – А не смею... Тогда я тебя отправлю, негодяя, к Ѳедору Иванычу, и он посадит тебя в кутузку... да! Потом я буду жаловаться мировому судье... да! Наконец Гаврила Гаврилыч тебе задаст... Он уже одевается и сейчас выйдет... С ним не будешь так разговаривать и грубить, как со мной. Понял, негодяй?! "Негодяй" продолжал свою работу и все поворачивался к разсвирепевшей барыне спиной, чтобы не показать опухшаго от работы сибирскаго старца лица. При имени барина он даже ухмыльнулся самым глупым образом, что не ускользнуло от внимания Прасковьи Ивановны. – И этот негодяй еще смеется... Отчего ты прячешь лицо? Хоть и негодяй, а совестно досмотреть в глаза... Вот барин тебе задаст, и Ѳедор Иваныч, и мировой судья. – Промежду мужа и жены судья-то один Бог. И не касаемо это самое дело вас даже нисколько... Хочу и буду бить, сколько влезет, потому как я в законе с Агаѳьей. Дальнейшия разсуждения с негодяем были совершенно излишни, и Прасковья Ивановна отправилась в кухню. Агаѳья в каком-то оцепенении сидела на лавке и даже не заметила, как вошла барыня. Она была вся в крови, а лицо ея было обезображено до неузнаваемости. Правый глаз совершенно затек под громадным синяком. Паня даже вскрикнула, когда увидела Агаѳью в таком виде. – Агаѳья, тебе больно?– спросила Прасковья Ивановна по-детски.– Паня, беги скорее в аптеку и принеси мне губку, карболки, английскаго пластыря... Нет, сначала принеси губку и теплой воды. Ах, негодяй!.. Ах, разбойник!.. Агаѳья молчала. Она не плакала, не стонала, не жаловалась, а только вздрагивала и пугливо озиралась на входную дверь. Человека не было, оставалось одно избитое женское тело. Прасковья Ивановна стояла над ней и не знала, что ей делать и что говорить. – Барин одевается...– скороговоркой повторяла Прасковья Ивановна, чтобы сказать что-нибудь.– Потом я пошлю Паню за Ѳедором Иванычем... да... Вечером к нам приедет пить чай мировой судья... Одним словом, я все устрою. Игнат не имеет права бить тебя, как скотину, да и скотину никто так не бьет... – Милая барыня, оставьте,– сухо ответила Агаѳья, охая от боли в плече. – Как: оставьте?! Я о тебе же хлопочу... – Нечего тут хлопотать: что заслужила, то и получила. – Агаѳья, да что с тобой?!.. Из-за чего у вас вышла вся эта история? – Ах, милая барыня, не спрашивайте... Единственным свидетелем этого разговора был солнечный весенний луч, с любопытством заглядывавший в окно, да несколько мух, бродивших по ломтю оставленнаго сибирским старцем ржаного хлеба. Как Прасковья Ивановна ни допрашивала, ничего не могла добиться. Ее выручила вернувшаяся с водой и губками Паня, которая боялась взглянуть в лицо Агаѳье. Засучив рукава, Прасковья Ивановна опытной рукой принялась мыть лицо и голову Агаѳье, которая покорялась каждому ея движению. Когда кровь была смыта, ничего особеннаго не оказалось, т.-е. череп был цел, а пострадало одно лицо от кровоподтеков и содранной кое-где кожи. Все-таки пришлось кое-где залепить ссадины пластырем, а разбитый глаз забинтовать. Оставалась разсеченная рана на губе, но Агаѳья не согласилась ее зашивать. – Ничего, барыня, живое мясо само срастется... Когда работа кончилась и Прасковья Ивановна начала мыть руки, Агаѳья неожиданно повалилась ей комом в ноги и запричитала: – Милая барыня, не троньте вы, ради Христа, Игната... – Да ведь я о тебе же хлопочу, глупая?!.. Надо его хорошенько проучить... – Барыня, уж наше дело такое... Хоть и битая, а все же мужняя жена в настоящем законе. Прасковья Ивановна закусила губу, повернулась и вышла. Это было уже оскорбление, как и давешний ответ Игната, т.-е. намек на ея незаконное сожительство с доктором. Вернувшись в свою спальню, Прасковья Ивановна расплакалась. Она слишком переволновалась... – Это какия-то низшия животныя,– шептала она сквозь слезы,– И ничего человеческаго...
II.
Выдался нервный день. Доктор Рихтер отправился в свое время, т.-е. в десять часов утра, в больницу, обошел четыре палаты (летом оне пустовали, потому что летом заводские рабочие не любили лечиться), принял в амбулаторном отделении человек пятнадцать, сездил к двум тифозным больным и в обычное время, т.-е. к пяти часам, вернулся домой. Он после рабочаго дня вообще чувствовал себя хорошо, как человек, который не даром ест хлеб, и ехал всегда домой с удовольствием. Прибавьте к этому, что Прасковья Ивановна, как все хохлушки, была отличная хозяйка и умела из ничего выкроить что-нибудь вкусное и даже пикантное. Сегодня, как всегда, он вошел в переднюю в очень хорошем настроении. Паня его встретила, и по ея лицу он догадался, что в доме что-то неладно. Паня смотрела в землю, и это было плохим признаком. В столовой Прасковьи Ивановны не было, что было еще хуже. Доктор только теперь припомнил, что утром было что-то такое, одним словом – была глупость, и что Прасковья Ивановна на него сердится. На чисто-русском лице доктора, с присвоенном таковому окладистой бородкой, мягким носом и этими добрыми славянскими глазами, явилось недовольное выражение. Если Прасковья Ивановна не в духе, следовательно все в доме идет вверх дном, и т. д. Но "гражданин" Рихтер ошибся. Прасковья Ивановна вышла к обеду и даже извинилась, что заставила себя ждать. У нея был такой кроткий вид, и доктор понял, что все дело в сегодняшнем утреннем происшествии, о котором он совершенно добросовестно забыл. – Ну, что там такое делается?– спросил доктор, когда подали по его вкусу зажаренную котлетку. – Я ничего не понимаю, Гаврила Гаврилыч,– ответила она с продолжавшейся кротостью. Он говорил ей «ты», а она – «вы». Это как-то установилось само собой и оставалось. – Я тоже ничего не понимаю,– ответил доктор. – Дело гораздо серьезнее, чем можно было бы думать,– заговорила Прасковья Ивановна.– И пока ясно только одно: что мы с вами ровно ничего не понимаем. Скажу больше, мы даже не можем ничего понять. Какие-то сибирские старцы, что-то такое Агаѳья... Игнат прежде, чем, бить жену, отчаянно дрался с одним из этих сибирских старцев,– что Паня видела собственными глазами, когда мы спали. Заподозреть в чем-нибудь Агаѳью я не имею никакого права, и сам Игнат ни в чем ея не обвиняет. Вообще, в нашем доме творятся совершенно непонятныя вещи... – Гм... да... – И, как мне кажется, дело гораздо серьезнее, чем мы вообще привыкли думать о нашей прислуге. – Я понимаю, что прислуга такие же люди, как и мы с тобой,– заговорил доктор, стараясь сдержать нараставшее раздражение.– Да, понимаю... Может-быть, понимаю даже больше других, потому что сам – сын петербургской кухарки... Когда доктор начинал волноваться, что с ним случалось очень редко, Прасковья Ивановна сразу чувствовала себя виноватой. Опять сказывалась – да простят меня южныя женщины!– привычка восточной женщины к повиновению, в меньшем случае – к известному режиму. Но сейчас вышло как раз наоборот. Прасковья Ивановна пододвинула свой стул поближе к стулу доктора и заговорила вполголоса: – Представьте себе, Гаврила Гаврилыч, наша Агаѳья помешалась на том, что должна спасать свою душу. Да... Я ходила к ней второй раз. Она почти обругала меня, как... Я, право, не умею сказать, как она меня называла. Но в ея глазах мы с вами просто погибшие люди... Она же и жалеет нас!.. Какая-то там щепоть, хождение по-солонь, и т. д. Она мне прямо в глаза сказала что считает нас погибшими людьми. Что-то тут играет роль и ржаной хлеб, и сельтерская вода, а то, что я волосы плету не в одну косу, по-девичьи... Представьте себе, все это говорит мне наша собственная Агаѳья и говорит авторитетно, как какая-то Жанна д'Арк. – Гм... да... Кажется, дело сведется к тому, что мы должны итти и извиниться пред Игнатом,– не без ядовитости заметил доктор. – Опять не то!.. Прасковья Ивановна даже вскочила с своего места и зашагала по столовой. – Да, не то... Если вы хотите знать, гражданин Рихтер, я начинаю понимать нашу Агаѳью с ея щепотью и хождением по-солонь. Ведь весь вопрос в том, что она хочет спасти свою бабью душу, а мы... Вы только подумайте, что где-то в нашей кухни тлеет мысль о спасении души. Разве это не трогательно? – Прибавь к этому, что все эти сибирские старцы – беглые и каторжники. – Очень может быть... Мы даже могли оы сделать так, что когда приедет Ѳедор Иваныч... – Ну, это уже лишнее... – Нет, будем говорить по душе... Мне Паня все разсказала, т.-е. разсказала, что в нашу кухню приходят какие-то два сибирских старца. Одного зовут Матвеем, который сегодня дрался с Игнатом, а другого Спиридоном. Они совращают нашу Агаѳью в раскол, и в этом разгадка сегодняшней истории... Игнат жалеет по-своему совращаемую жену и на этом основании бьет ее смертным боем. Весь вечер был занят тоже мыслью о том, что делается в кухне. Паня раз пять бегала посмотреть в окно и ничего особеннаго не увидела. Игнат починял какую-то сбрую, а Агаѳья что-то шила. Даже завернувший вечерком становой Ѳедор Иваныч не мог отогнать этой мысли о кухне. Это был толстый и лысый мужчина за пятьдесят. Полицейский мундир сидел на нем мешком. Круглое лицо вечно лоснилось, точно было покрыто лаком. Ѳедор Иваныч любил хорошо покушать, хорошо выпить, хорошо соснуть и хорошо повинтить, отличался почти истеричной набожностью и боялся грома до такой степени, что во время грозы спасался на собственной постели, прикрыв голову подушкой. Между прочим, он любил острить, и одной из самых его удачных острот была та, что он прозвал доктора «гражданином». – Конечно, гражданин, потому что живет гражданским браком,– обяснял Ѳедор Иваныч, подмигивая немного косившим глазом. Сегодняшний вечер как-то не удался, как не удались пельмени у Агаѳьи, хотя по этой части она была великая мастерица. Прасковья Ивановна извинялась пред гостем, а доктор курил сигару и думал об Агаѳье. – У вас много раскольников?– спросил он Ѳедора Иваныча. – А сколько угодно этого добра, хоть отбавляй. Наш Ушкуйский завод старинное и самое крепкое раскольничье гнездо. Ох, и хлопот же мне с ними было... – А сейчас? – Ну, сейчас как будто полегче... Бывают, конечно, случаи, но особеннаго ничего не заметно. Их губит то, что они делятся между собой на разные толки и согласия и отчаянно враждуют. – Чего же они хотят? – Вероятно, они и сами этого не знаиот... Поздним вечером, когда Ѳедор Иваныч уехал, Прасковья Ивановна долго сидела на террасе одна. После весенняго теплаго дня наступила довольно холодная горная ночь. С террасы можно было видеть краешек заводскаго пруда, залегшую под плотиной фабрику, а дальше начинались горы, покрытыя лесом. Ночью фабрика была почти красива, благодаря своей вечной рабочей иллюминации – всполохами вырывалось пламя из доменных печей, высокия трубы снопами разсыпали искры, густыми клубами валил черный дым. Где-то, точно под землей, слышались удары молотов, визг и лязг железа, тяжелое дыхание паровых машин, шум воды, свистки и окрики рабочих. Прасковья Ивановна долго любовалась этой картиной и вспоминала свою далекую родину с ея чудными весенними ночами. У нея что-то ныло в душе, ей хотелось плакать. Почему она не думала о своей душе, как думает Агаѳья?
IV.
В следующие дни кухня продолжала оставаться центром общаго внимания. Оказалось, что дня через три вечером приходили оба сибирских старца и долго сидели. Игната не было дома. Старцы пришли с собственными чашками и с аппетитом ели докторский суп. Агаѳья все время стояла перед ними и слушала, подперев по-бабьи щеку рукой. В открытое окно слышно было каждое слова, но Паня ничего не поняла. – Что-то такое о горах да о пещерах все толковали,– разсказывала она.– Свиридов, худенький такой старичок, все грозил ей, что она душу свою губит... Агаѳья плакала и в ноги кланялась... Потом старцы пили водку из своих стаканчиков... Матвей все грозился, что убьет Игната, если он станет опять бить жену, а Спиридон велел Агаѳье все терпеть. А когда пришел Игнат, старцы убежали в окно... Из этого довольно безсвязнаго показания трудно было что-нибудь заключить. – Эти сибирские старцы еще нас всех убьют,– говорила Прасковья Ивановна.– Надо поговорить с Агаѳьой серьезно. Может-быть, это разбойники... – Нет, барыня, они все божественое говорят,– защищала старцев Паня.– Спиридон учил Агаѳью, как надо молиться, и сам складывал ей пальцы в ихний раскольничий крест. Паня только потом призналась, как сибирские старцы ругали господ и всячески их срамили, как безбожников. – "И молятся твои господа щепотью, и крещены против солнца, и живут супротив закона, как собаки",– обясняла Паня со слезами ея глазах.– Уж мне так было обидно... Особенно этот Матвей ругался, который бил Игната.. И потом все поминали какую-то вдову Марью Тимоѳеевну... Так страшно было слушать, так страшно!.. Доктор сначала не обращал внимания на всю эту историю, а потом заинтересовался. В самом деле, вот он живет на Урале пять лет, имеет с раскольниками постоянное дело и ничего о них не знает. Даже и не интересовался что-нибудь узнать. А эти люди живут своим собственным миром, у них свои жгучие интересы, сомнения и страстное тяготение к правде, хотя последнее и выражается иногда в довольно странных формах, чтобы не сказать больше. Конечно, тут есть и своя доля религиознаго фанатизма, и наследственность, и гипноз, и воинствующая стадность. Во всяком случае, явление громадной общественной важности, непонятое и не обясненное до сих пор, но продолжающее существовать, принимая уродливыя формы. – Да, надо этим вопросом заняться,– решил доктор, перебирая в уме злобу последних дней.– Материал самый благодарный, да и все над рукой. Взять хоть того же Игната... Доктор приступил к выполнению своего плана с самыми тонкими предосторожностями. Игнат был вызван в кабинет для совместнаго обсуждения вопроса о новом дорожном тарантасе, как эксперт. Он, как всегда, остановился у двери, заложил руки за спину и начал смотреть на барина тупым взглядом, как бык. Повидимому, у Игната явилось подозрение, что его недаром вызвали, и что, конечно, тарантас только предлог. "Вот сейчас барин учнет пилить за Агаѳью",– думал Игнат, наблюдая шагавшаго перед ним доктора. Переговоры о тарантасе кончились скоро, потому что Игнат соглашался на все: и так можно и этак можно. – Послушай, Игнат, какие это сибирские старцы ходят к вам в кухню?– спросил доктор, стараясь придать и лицу и голосу равнодушное выражение. – Старцы-то?– тоже равнодушно повторил Игнат вопрос.– А кто их знает... Сказываются сибирскими. – А зачем они ходят к тебе? – А, значит, жену Агаѳью сомущают,– откровенно признался Игнат, нисколько не смущаясь.– Значит, для спасения души... – Чем же они смущают? – Разное говорят... Одним словом, волки безпаспортные. Убить мало... – Гм... да... Я это так спрашиваю. Мне ьсе равно. Спасать душу – дело недурное. Может-быть, и ты хочешь спасаться? Игнат посмотрел исподлобья на барина, почесал в затылке и нехотя ответил: – Где уж нашему брату, которые, значит, около лошадей!.. Игната удивило, что барин ни слова не сказал про избиение Агаѳьи, а он уже приготовил чисто-кучерской ответ: "Вот тебе, барин, хомут и дуга, а я тебе больше не слуга". У Прасковьи Ивановны, которая производила допрос Агаѳьи, дело шло успешнее, вероятно, потому, что Прасковья Ивановна проявила более сильный дипломатический талант. Сначала Агаѳья отнеслась к барыне очень подозрительно и даже что-то нагрубила. – Зачем ты грубишь мне, Агаѳья? – А зачем вы меня пытаете, барыня, о чем не следует? Может, мне и разговаривать-то с вами грешно... – Чем же грешно? Агаѳья понесла какую-то околесную о щепоти, хождении по-солонь, клейменых весах и сельтерской воде. – Это научили тебя говорить сибирские старцы? При напоминании о сибирских старцах Агаѳья впала в какое-то ожесточенное состояние и даже погрозила барыне кулаком. – Вот теперь вы – барыня, а я – слуга, а кто будет на том свете в смоле кипеть?!..– истерически выкрикивала Агаѳья.– Это тоже надо понимать, ежели который человек правильный... Для вас душа-то наплевать. Вы вот и постов не соблюдаете... Прасковья Ивановна решила выдерживать характер до последняго и старалась говорить с ангельской кротостью. – Агаѳья, неужели для спасения души необходимо грубить людям, которые тебе же желают пользы? – Матвей наказал обличать. Кроткий тон барыни подействовал на Агаѳью. Она как-то сразу отмякла и расплакалась. – Барыня, ничего-то, ничего вы не понимаете,– запричитала она, вытирая слезы передником.– И того не знаете, что я, может-быть, ночи не сплю... Силушки моей не стало... и страшно как... Как раздумаешься – у смерти конец. Ведь вся-то я грешная и с мужем живу по-грешному, потому как венчали нас против солнца... И тебя сейчас осудила, а по писанию лучше согрешить, чем осудить – кто осудил, на том и грех. Ох, моченьки моей нет... Смерть моя... И вас жаль, и своего Игната жаль, и себя жаль... Никакого терпенья! Вам-то, поди, смешно дуру-бабу неученую слушать, а мне тошнехонько... Прасковья Ивановна только теперь заметила стоявшую в углу Паню и тоже плакавшую. – Паня, ты-то о чем плачешь?– спросила Прасковья Ивановна. – А не знаю...– ответила девушка, закрывая лицо руками.
V.
"Честная матёрая {Матёрая, женщина, у которой есть дети.} вдова" Марья Тимоѳеевна жила на самом краю Ушкуйскаго завода. Ея пятистенная изба стояла на самом берегу заводскаго пруда. Марье Тимоѳеевне было за пятьдесят, но она казалась гораздо моложе своих лет,– ядреная, рослая, румяная баба хоть куда, особенно когда в праздники выряжалась в кумачный сарафан. В избе с ней жила дочь Палагея, некрасивая и сердитая девушка лет двадцати, на которую временами «находило», а потом ютились какие-то подозрительные люди, в роде сибирских старцев и ра:ных скитниц, являвшихся в Ушкуйский завод из неведомой горной глуши за подаянием разных доброхотов и милостивцев. Марья Тимоѳеевна чем-то приторговывала в дощатой лавчонке на базаре, куда-то по временам уезжала и вообще вела таинственный образ жизни. Свои заводские считали ее ухом-бабой, у которой всякое дело к рукам пристает. Время от времени в избе Марьи Тимоѳеевны появлялись таинственные младенцы, которые еще более таинственно исчезали. Всем было известно, что этих младенцев привозили из женских скитов, и все молчали, чтобы не выдать честною вдову в лапы любезнаго антихристова сосуда, станового Ѳедора Иваныча. Встречая Марью Тимоѳеевну, становой непременно грозил ей пальнем и говорил: – Ты у меня смотри, сахарная.. Все знаю! – Да чего и знать-то про вдову,– отвечала Марья Тимоѳеевна.– Каждый таракан знает наши бабьи дела... Марья Тимоѳеевна за словом в карман не лазила, и Ѳедор Иваныч любил с ней пошутить. – Ужо в гости к тебе чай приеду пить, сахарная... – Милости просим, Ѳедор Иваныч... Становому, конечно, было известно кое-что про честную вдову, но он ея не трогал до поры до времени. Ничего, пусть себе живет, а когда будет нужно – от рук правосудия не уйдет. Конечно, главное подозрение заключалось в пристанодержательстве, и Ѳедор Иваныч даже берег Марью Тимоѳеевну про всякий случай. Мало ли бывало в его практике случаев, когда приходилось ловить какого-нибудь бродягу, подозрительнаго пустынника или шляющаго человека, а пятистенная изба Марьи Тимоѳеевны являлась очень удобной ловушкой. Между прочим, Марья Тимоѳеевна частенько завертывала к Прасковье Ивановне. У нея всегда было какое-нибудь неотложное дело, начиная с собственных болезней. Прасковья Ивановна только удивлялась, что такая на вид здоровая женщина и болела самыми утонченными нервными болезнями. В сущности, Марья Тимоѳеевна была форменная истеричка, как и кухарка Агаѳья. Откуда, как и почему? Гражданин Рихтер, призванный к ответу, по обыкновению, ответил уклончиво: – Удивительнаго в этом решительно ничего нет... да. Ведь это чисто-городская логика, что здоровые люди могут быть только в деревне. Нет и нет... Каждый самый простой мужик – истерик. Не смейся, Прасковья Ивановна, ибо я говорю правду... А твои деревенския бабы еще более истеричны, что уже в порядке вещей. Прасковья Ивановна даже не желала спорить с гражданином Рихтером, потому что это, во-первых, было безполезно; а во-вторых, гражданин Рихтер был прав. Лучшим примером являлась та же Марья Тимоѳеевна, как женщина для крестьянской среды незаурядная. Марья Тимоѳеевна являлась в докторском домике как-то неожиданно, всегда оглядывалась и любила говорить каким-то предательским шопотом. В ней чувствовалась та истеричная ласковость, которая гипнотически действует на толпу. Она именно так и явилась к Прасковье Ивановне дня через три после истории с Агаѳьей. Прасковья Ивановна встретила ее довольно сухо. – А вот и я пришла...– певуче проговорила Марья Тимоѳеевна.– Не ладно у вас, Прасковья Ивановна, в дому. – Нет, ничего,– неизвестно для чего солгала Прасковья Ивановна.– Кучер у нас дерется с женой... – Слышала, слышала... Поучить бы его немножко надо. Глуповат паренек... – Ну, я в этой истории решительно ничего не понимаю,– откровенно призналась Прасковья Ивановна,– Ничего не разберешь... Думаю, что вы больше знаете, Марья Тимоѳеевна, что делается у нас в доме... – Я?!.. Да храни меня Бог... Так, стороной слышала... – Перестаньте и будемте говорить откровенно... Представьте себе, что я знаю гораздо больше, чем вы думаете. Лицо Марьи Тимоѳеевны сразу изменилось, так что Прасковья Ивановна сочла нужным поправиться: – Вы, пожалуйста, не подумайте, что... Одним словом, вы понимаете, что я хочу сказать. – Вот сейчас помереть, ничего в толк не возьму. – Дело ваше,– сухо ответила Прасковья Ивановна.– А впрочем, должна сказать вам откровенно, что вы совершенно напрасно подсылаете к Агаѳье ваших сибирских старцев. Для вас же может выйти большая неприятность... – Ох, Прасковья Ивановна, какое ты словечко выговорила...– затоворила раскольница, размахивая руками.– И то ко мне Ѳедор Иваныч подсыпается. А мое дело вдовье, и ничего я не понимаю. А что касаемо Агаѳьи, так ей про себя-то ближе знать. Марья Тимоѳеевна долго наговаривала какие-то пустяки, которых нельзя было разобрать, и Прасковья Ивановна чуть не прогнала ее, сославшись на какое-то дело. – А ты не сердитуй, матка-свет, на глупую деревенскую бабу,– говорила Марья Тимоѳеевна, уходя. Ну, какой спрос с нашего брата бабы? Хуже овцы... И слова-то только самыя глупыя умеем говорить. Из господских комнат Марья Тимоѳеевна завернула в кухню, где Агаѳья была одна, и без обиняков обяснила: – Ну, нахлебалась я из-за тебя и жару и пару, Агаѳья. Как разстервенилась твоя-то полубарыня... Все грозила мне Ѳедором Иванычем. Я, грит, тебе покажу, будешь, грит, меня помнить, а сама табачище проклятый курит... Смрад от нея идет на версту... тьфу!.. Уж я думала, что и живая от нея не вырвусь. Так к сердцу и подкатывает... Агаѳья слушала эти наговоры, опустив виновато глаза. Ведь из-за нея барыня сживает со свету Марью Тимоѳеевну... Она уже видела, как ночью Ѳедор Иваныч наедет в избу к Марье Тимоѳеевне с обыском, заберет в плен сибирских старцев, да и Марью Тимоѳеевну посадит вместе с ними в острог. А Марья Тимоѳеевна смотрела на нее и качала годовой. – Ловко тебя муж-то изукрасил, Агаѳьюшка! Вон как глаза-то подбил... Агаюья старалась надвинуть платок на лоб так, чтобы не видно было мужниных синяков, но всего лица не скроешь. Сожаление Марьи Тимоѳеевны вызвало у нея слезы. – Случается, что мужья учат жен,– не унималась Марья Тимоѳеевна.– Только и учат, жалеючи... И виноватая жена своя, а не чужая. Не муж он тебе, твой Игнат... Прасковья Ивановна своим косвенным вмешательством очень помогла Марье Тимоѳеевне.