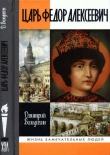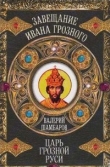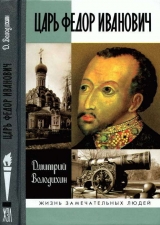
Текст книги "Царь Федор Иванович"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Иеремия заколебался было, увидев твердость позиции русского правительства. Но его к дальнейшим спорам возбуждал тот же митрополит Иерофей Монемвасийский, а также некоторые другие духовные лица из патриаршей свиты. Иерофей поносил обещанный русской стороной Владимир, считая его сущей глушью. Он же, надо полагать, или кто-то еще из ученых греков, подсказал патриарху новый контраргумент: для поставления нового патриарха у него, дескать, не хватает полномочий. Москва упорствовала. Иеремия уже готов был уступить свое благословение собору русских архиереев, дабы те учредили в Москве патриаршую кафедру самостоятельно, лишь по его позволению, а самого бы отпустили домой. Но и такое предложение российские правительственные мужи, а в первую очередь Б.Ф. Годунов, не сочли удовлетворительным. Вероятно, опасались лукавства: вот уедет патриарх с казенным серебром в Константинополь, а потом встанет вопрос о каноничности действий нашего собора, и ссылка на одно лишь благословение Иеремии окажется слишком слабым, слишком ненадежным ответом.
В январе 1589 года патриарх Константинопольский, наконец, дал себя уговорить. Он согласился поставить Иова.
До сих пор ход всего дела с русской стороны зависел от действий царя, Бориса Годунова, а также, в некоторых случаях, дьяка Андрея Щелкалова. Они направляли всю работу дипломатического аппарата, приставленного к гостям. Церковь наша, возглавленная смиренным Иовом, ждала в тишине и бездействии окончательного итога переговоров. Если бы не упорство и энергия Бориса Федоровича, если бы не благочестие государя Федора Ивановича, вряд ли Москва получила бы своего патриарха. Наверное, это и к лучшему: Русская церковь не стояла назойливым просителем у дверей патриарха Константинопольского, а сам он не потерял лица, поскольку мог, не ведя торгов с русским духовенством, даровать ему высоту патриаршего сана. Даровать – хотя бы по внешней видимости.
Незадолго до «последнего акта» по воле государя должен был сойтись для «советования» большой церковный собор. Он состоял из десяти русских архиереев во главе с Иовом, а также представителей честнейших монастырей. Церкви дали высказаться. Это не была пустая формальность, как напишут впоследствии некоторые историки. Царь всё решал, его конюший всё устраивал, но они не могли распорядиться судьбой Церкви вопреки ее устремлениям. От нее требовалось официальное согласие на два изъявления монаршей воли. Во-первых, учредить в Москве новую патриаршую кафедру, а в прочих городах «умножить» епископов, архиепископов и митрополитов. Во-вторых, возвести в патриарший сан митрополита Иова, а не иного претендента. Соборное совещание постановило во всем согласиться с пожеланиями, высказанными Федором Ивановичем. Могло ли быть иначе? Теоретически – да. В XIV веке, например, Церковь активно воспротивилась желанию великого князя Дмитрия Ивановича поставить митрополитом Михаила-Митяя – «новоука» в монашестве. Теперь этого не произошло. Но ведь и фигура Иова, вероятнее всего, ни у кого не вызывала активного неприятия. Он шел к патриаршеству неспешно, от ступеньки к ступеньке, от архимандритии к епископии, а оттуда к архиепископии и митрополичьему сану, имел большой опыт монашеской жизни, был добронравен, слыл книжным человеком. Чему тут сопротивляться?
Итак, Церковь сказала свое слово.
Теперь оставалось довершить великое дело.
У греков попросили чин патриаршего поставления. Те скоро дали просимое, однако Федор Иванович остался недоволен. Он велел переработать греческий чин, добавив туда фрагменты, взятые из русского митрополичьего церемониала. В этом эпизоде нет ни тени годуновского влияния, тут виден интерес самого царя и только его. Федор Иванович, любитель богослужебного благолепия, колокольного звона, церковного быта, желал для такого случая особой торжественности. Греки дать ее не могли. Тогда царь, в иных делах равнодушно отдающий своим слугам право распоряжаться, проявил волю.
Может быть, он единственный, кто почувствовал, сколь важный поворот происходил в судьбах России, Русской церкви да и вселенского православия. То, что совершалось тогда в Москве, будет иметь влияние на исторические судьбы Восточной Европы и, шире, всего мира на протяжении столетий, вплоть до сегодняшнего дня. Патриарший престол в Москве, то возвеличиваясь, то умаляясь, то вновь поднимаясь из ничтожества, веками играл роль главнейшего сосредоточения православных сил. Он и сейчас, после недавнего возрождения, является сильнейшим центром восточного христианства во всем мире. И лишь государь Федор Иванович, человек блаженный, христолюбивый, далекий от административных интриг, уловил тот отдаленный гром, с которым поворачивалось колесо истории. А уловив, захотел поделиться своим знанием с подданными. Пусть видит Москва, пусть видят заезжие греческие архиереи – с великой пышностью происходит великая перемена!
23 января 1589 года Иеремия впервые за время пребывания в Московском царстве посетил Успенский собор. Здесь он встретился с русским духовенством и совершил ритуал избрания кандидатов на патриарший престол. Для духовных властей в действиях грека не было ничего неожиданного, да и сам Иеремия видел свой путь до самого финала: ему предстояло назвать трех заранее обговоренных лиц[89]89
Ими были митрополит Московский Иов, архиепископ Новгородский Александр, архиепископ Ростовский Варлаам.
[Закрыть], а затем из их числа царь Федор Иванович выбрал Иова – добросердечного, смиренного Иова, близкого ему по нраву. Двое других претендентов возводились в митрополичье достоинство[90]90
Это произошло 30 января 1589 года.
[Закрыть]. Иеремия благословил на поставление в сан всех троих.
Таким образом, все формальности были соблюдены.
26 января произошло поставление Иова. Церемония была обставлена с необыкновенной роскошью, подобно венчанию Федора Ивановича на царство. Царь, патриарх и «нареченный патриарх» со свитами собрались в Успенском соборе. Любопытно, что Федору Ивановичу пришлось играть в торжественном обряде весьма активную роль. Именно он подал Иеремии драгоценную панагию, клобук и посох – знаки патриаршей власти, чтобы тот передал их Иову. Монарх также произнес речь, призывая нового патриарха молить «…Господа Бога и пречистую Богородицу, Его Матерь, и великих чудотворцев Петра, Алексия и Иону и всех святых о нас и о нашем царстве и о всем православии, яже на пользу нам и всему православному христианству душевне». Затем он вручил Иову подлинный посох митрополита Петра. Святителя Петра особо чтило и чтит московское духовенство, поскольку именно в годы его пребывания на митрополичьей кафедре престол был перенесен в Москву.
Когда церемония закончилась, обоих патриархов пригласили на пир в государевы палаты, от которого греческие иерархи пришли в восхищение. Во время пира патриарх Иов отлучился и совершил по Китай-городу шествие на осляти.
Историк Церкви А.В. Карташев пишет: «Вечером патр. Иеремия, митр. Иерофей и архимандрит[91]91
Вероятно, тут в книге опечатка: Арсений Елассонский имел архиепископский сан.
[Закрыть] Арсений получили впервые от патр. Иова приглашение пожаловать к нему на следующий день. Только теперь! Все их новые церковно-канонические взаимоотношения устроены были исключительно светской властью. Русское патриаршество – дитя царской воли». Антон Владимирович, исповедуя либеральные взгляды на исторические судьбы Русской церкви, без любви и почтения относился к тому влиянию, которое оказали на церковное управление государи московские. Он, разумеется, опечален тем, что Церковь оказалась ведомой, а не ведущей силой в столь большом преобразовании. Да, русское патриаршество – плод воли государевой. Но ведь это благая воля, через нее сказано слово Господне для России! Это воля святого блаженного царя. Это, наконец, воля, решившая давно назревший вопрос церковного строительства на Руси. Тут радоваться уместно…
В конце XVI столетия у иноков Соловецкого монастыря велось летописание. Автором дошедшего до наших дней летописного памятника является то ли соборный старец Петр Ловушка (Ловушкин), то ли сам игумен Иаков{143}. В любом случае, это был человек, хорошо понимающий жизнь Церкви. Так вот, весьма осведомленный в церковных делах составитель Соловецкого летописца написал очень точно: «Божиим благоволением благоверный царь государь князь великий Феодор Иванович, всея Руси самодержец, по совету и по благословению патриарха Царяграда Иеремия, и со отцем своим митрополитом Иевом всеа Руси, и с архиепископы, и со архимариты, и со игумены, и со вселенским собором, и с своими князи, и з бояры уложили и поставили на патриаршество на пресловущий град Москву митрополита Иева, за неделю великые мясопустны недели»{144}. Иными словами, в глазах нашего духовенства суть великой перемены выглядела следующим образом: захотел царь Федор Иванович возвысить Русскую церковь и возвысил ее, воспользовавшись «советом» и «благословением» патриарха Константинопольского; на то ему вложил мысль сам Господь.
Торжества шли еще несколько дней. Федор Иванович, любя свою супругу, позволил ей то, чего не водилось прежде за русскими государынями. К ней в «сребровызолоченную» палату привели двух патриархов, они благословляли Ирину Федоровну, говорили ей приветственные речи, а потом, к удивлению русской знати и русского духовенства, царица сама произнесла благодарственную речь. Думается, монаршая супруга принимала живое участие в тех событиях и на семейном совете поддерживала Федора Ивановича в его устремлениях.
Наконец праздничная полоса была исчерпана. Русские дипломатические чиновники и доверенные люди от высшего духовенства приступили к формальному закреплению достигнутого. По «Уложенной грамоте» об учреждении патриаршей кафедры в Москве, помимо введения патриаршества и двух новых митрополий (Ростовской и Новгородской), на Руси появилось дополнительно еще две митрополии (Крутицкая и Казанская), а также шесть архиепископий (Тверская, Вологодская, Суздальская, Нижегородская, Рязанская и Смоленская)[92]92
Архиепископий появлялись на месте епископий, а митрополии учреждались на месте архиепископий.
[Закрыть]; возникло, кроме того, шесть епископий в городах, где раньше не бывало архиерейских кафедр, – во Пскове, Устюге, Ржеве, Дмитрове, Брянске, а также на Белом озере. Греческое и русское духовенство поставило подписи под грамотой. Документ был составлен только на русском языке: московское правительство видело в нем простое оформление уже завершенного дела. Митрополит Монемвасийский, раздосадованный этим фактом, пожелал увидеть грамоту в греческом переводе. Он даже отказывался ставить подпись. Но поскольку все основные действия были уже совершены, его запоздалое сопротивление не вызвало ни сочувствия, ни понимания. Патриарх Иеремия и представители Думы общими усилиями уломали его.
В мае 1589-го греки покинули русскую столицу. Они увозили богатую милостыню, выданную на церковное строительство, многочисленные дары от царя Федора Ивановича и от царицы Ирины Федоровны.
Русское общество испытало приятное потрясение. Тогда к вопросам чести старшинства в России относились с большим трепетом и вниманием. Когда Русскую церковь почтили, возведя на более высокую иерархическую ступень в Православном мире, паства ее радовалась и гордилась таким духовным приобретением. Эти светлые чувства отразились на страницах многих летописей.
В Новом летописце сказано, что новый патриарший престол в Москве явился своего рода заместителем престола Римского, поскольку «папа… окаянный от православныя веры отпал, впаде в ересь, в латынскую веру»{145}. Московский летописец, весьма чувствительный к вопросам церковной иерархии, отношений старшинства канонического и традиционного, в подробностях изложил, как совершался обряд поставления в патриарший сан и кто из высшего духовенства присутствовал тогда в Успенском соборе. Судя по известию в Московском летописце, рассаживая архиереев и монастырские власти, устроители церемонии постарались сделать так, чтобы греки не получили первенства, но и не были обижены явным утеснением{146}. Особый интерес автор летописца проявил к чину богослужения да еще вспомнил о необычном зрелище, виденном в январе 1589-го: сразу два патриарха вели Божественную литургию под сводами Успенского собора… В Пискаревском летописце содержится заведомо ложное свидетельство: «Патриарха Еремея в Цареграде убили за то, что он на Москве патриарха поставил»{147}. В действительности же Иеремия правил до 1595 года. Но ошибочное известие Пискаревского летописца показательно: люд московский, не интересуясь правительственными интригами, да и просто не имея представления о торгах, шедших между греческим духовенством и русскими дипломатами, искренне, по-доброму уверовал в то, что греки совершили в Москве подвиг благочестия. Псковская Первая летопись, точно так же как и Соловецкий летописец, главную роль в утверждении патриаршества на Руси отвела царю Федору Ивановичу, а патриарха Иеремию представила как орудие, послушное воле православного монарха и подвигнутое самим Богом: «Слыша государеву милость, прииде ис Царяграда патриарх Иеремей, понужен Святым Духом, и с ним архиепископ, и архимариты, и причетники церковные: и по произволению государеву и по велению патриарх благословил и поставил на Москве митрополита Иева на росейское патриаршество, вместо отпадшего римскаго папы…»{148}
На этом для государя Федора Ивановича закончилась эпопея с утверждением патриаршества в «царствующем городе Москве». Все дальнейшие ее перипетии он знал главным образом по отчетам дипломатов и по разговорам о необходимости отправить греческим иерархам еще милостыню, еще, еще и еще. Более царь почти не вел переговоров лично[93]93
Исключением может служить краткая и весьма прохладная, по московским понятиям, аудиенция, данная Федором Ивановичем митрополиту Дионисию Тырновскому, приехавшему в 1591 году с греческим вариантом «Утвержденной грамоты», да еще приглашение того же Дионисия к царскому столу перед отъездом.
[Закрыть] и лишь позволял дать русского серебра и русских соболей греческим патриархам, от которых зависели канонические формальности. Самое яркое, самое красивое, самое значимое прошло перед глазами Федора Ивановича и несет на себе отпечаток его воли.
Борису же Федоровичу и Посольскому приказу еще предстояло на протяжении нескольких лет держать руку на пульсе событий, а когда течение дел тормозилось, то и стимулировать ускорение всеми доступными способами.
Итак, России требовалось официальное соборное согласие всех греческих патриархов на установления, прописанные в «Уложенной грамоте». Нет смысла лишний раз говорить, что каждый новый этап в движении к этому согласию стоил нашей казне новых расходов.
Если в русской «Уложенной грамоте» патриарху Иеремии в уста вложена громогласная похвала Федору Ивановичу: «Твое… благочестивый царю, Великое Российское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивое царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенной, во всех христианех»{149}, – то в греческом ее варианте, утвержденном в 1590 году константинопольским, иерусалимским и антиохийским патриархами, а также восемью десятками иных архиереев, Москву постарались «поставить на место». Московскому патриаршему престолу нищие и слабые греки отвели последнее по чести – пятое – место среди всех православных патриарших кафедр. Патриарх Александрийский Мелетий Пигас вообще выразил несогласие с действиями Иеремии, объявив их неканоничными. Он требовал от Иеремии «уничтожить словесно и письменно» то, что сделано им «по принуждению».
Тут московской дипломатии пришлось проявить особую настойчивость и расторопность, воздействуя на неуступчивого александрийского патриарха известным способом. Ожидая ответной благодарности, из Москвы озвучили требование сделать патриарха Русской церкви третьим по чести – после Константинопольского и Александрийского. За этим требованием стояло вполне официальное решение собора русских архиереев.
1593 год внес окончательную ясность в отношения московского правительства и Православного Востока. В феврале прошел Константинопольский собор, где вопрос о новой патриаршей кафедре все-таки получил благополучное разрешение. Мелетий Пигас сам же отыскал аргументы в пользу полной каноничности совершенного Иеремией. Перемена его мнения основывалась не на одном лишь корыстолюбии: Мелетий Пигас надеялся возродить греческое духовное просвещение, устроив училища на землях московского царя; он даже письменно призывал к этому Федора Ивановича. Но… третьего места греки Москве не дали, все-таки настояв на пятом. Москва получила соответствующую грамоту и должна была удовлетвориться. Правительству московскому, надо полагать, стало ясно, что больших подвижек в этом деле добиться не удастся, а если и удастся, то слишком значительными жертвами. Соборное решение греков хотя и вызвало в России явное недовольство, но никаких серьезных последствий не имело. Патриарх Иов не волновался на этот счет в своем покойном смиренномудрии. Хотя и он не согласился с постановлением Константинопольского собора о пятом месте для Московской патриаршей кафедры, но во всяком случае не выразил намерений вступать в борьбу. Царь же Федор Иванович, думается, рад был доброму согласию с греческими иерархами в этом великом деле и не видел надобности тешить гордыню, вновь требуя особенной чести для Москвы.
Установление патриаршества в Москве сопровождалось еще одним «нововведением» или, вернее, реставрацией одного старого, хорошо забытого, но крайне полезного учреждения. В середине XVI века Москва обзавелась собственным книгопечатанием. История его до сих пор полна белых пятен. Твердо известно относительно немногое: в 1564 году вышел Апостол – первое издание, имеющее твердо установленную дату и бесспорно относящееся к работе московских печатников – Ивана Федорова с Петром Мстиславцем[94]94
До этого, примерно с 1553 года, работала так называемая «анонимная типография», по мнению большинства исследователей, действовавшая в Москве. Известен целый ряд «анонимных изданий», явно вышедших в России в 1550—1560-х годах, но выходные данные их неизвестны.
[Закрыть]. Столица России недолго была местом их работы, вскоре они переместились на территорию Литовской Руси. Причины их отъезда трактуются по-разному: названо несколько версий, среди которых самая правдоподобная – миссия духовного просвещения и поддержки православных за литовским рубежом. Очевидно, эта миссия началась по распоряжению Ивана IV и с благословения митрополита Афанасия или, может быть, Филиппа[95]95
Отъезд из Москвы Ивана Федорова автор этих строк вслед за Е. Л. Немировским датирует весной—летом 1566 г. (Немировский Е.Л. Иван Федоров. М., 1985. С. 118). Не желая прослыть «агентом Москвы», Иван Федоров впоследствии утверждал, что в Москве подвергся незаслуженным гонениям, но это могло быть и частью своего рода «легенды». В начале 1990х гг. реставраторы Спасского собора Спасо-Ефросиньев ского монастыря в Полоцке показали автору этой книги граффито некоего Ивана Федоровича, относящееся к 1566 г. Если этот человек тождествен московскому первопечатнику, то он двигался в Литву через недавно отвоеванный Полоцк – русский форпост на литовском рубеже – и не имел причин скрываться, поскольку мог совершить в городе паломничество к святыням этой древней обители. Между тем Полоцк был на особом положении, там находился мощный гарнизон, велись масштабные фортификационные работы, и проезд через него столь крупной фигуры, да еще с подводами, груженными типографским оборудованием (известно, что часть оборудования, использовавшегося в Москве, Иван Федоров применял также и в Литве), вряд ли мог пройти незаметно, «по-партизански». Вероятнее, конечно, другое: первопечатники двигались не вопреки запрету московских властей, а по их прямому распоряжению.
[Закрыть]. Что же касается Московского государства, то с тех пор книгопечатание пребывало там в небрежении. За четверть столетия вышло всего три книги – Псалтыри 1568 и 1577 годов, а также Часовник 1577—1580 годов. Возможно, малыми тиражами издавались и другие тексты, но о них не сохранилось свидетельств в источниках, а в библиотеках нет ни единого их экземпляра. Вероятнее всего, книгопечатание возобновлялось при Иване IV от случая к случаю, на него не обращали особенного внимания.
А вот при Федоре Ивановиче – обратили. Всерьез и по-настоящему. Через 12 лет после выхода так называемой «Слободской псалтыри»[96]96
Изданной в 1577 году на территории Александровской слободы.
[Закрыть], когда, казалось, традиция московского книгопечатания исчезла, произошло его триумфальное восстановление. И оно связано, как уже говорилось, с учреждением патриаршества.
Первая после столь длительного перерыва книга, изданная московскими печатниками, Триодь постная[97]97
Печатал ее опытнейший мастер Андроник Тимофеев Невежа, ученик Ивана Федорова и Петра Мстиславца, и раньше занимавшийся организацией книгоиздательских процессов в Москве.
[Закрыть], вышла 8 ноября 1589 года. Приуроченность издания к возведению митрополита Иова в патриарший сан подчеркнута в послесловии. Прежде всего: предыдущее кириллическое издание московской печати вообще обошлось без упоминания церковных властей. В послесловии к Псалтыри 1577 года говорится, что вся работа совершалась «…благодатию и щедротами человеколюбивого Бога Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и повелением благочестиваго и Богом венчанного и хоругви правящего скипетра великия Россия государя царя и великого князя Ивана Василиевича всея Руси самодержца, и его Богом дарованных чад царевича князя Ивана Ивановича и царевича князя Феодо-ра Ивановича составися штанба, еже есть печатных книг дело…». А митрополита Московского и всея Руси словно бы на свете не существует! Между тем в московских изданиях, выходивших раньше, глава Русской церкви поминался. При Федоре Ивановиче это унизительное для Церкви забвение митрополичьего имени было уничтожено. В послесловии к Триоди постной было сказано не только то, что печать началась с благословения митрополита Иова, но также и то, что завершилась она «…в 6-е лето царства государя царя и великаго князя Феодора Ивановича все Руси самодержьца и при благочестивей царице и великой княгине Ирине и при святейшем патриархе Иове Московъском и всея Руси, в 1-е лето патриаршества его (курсив мой. – Д. В.)»{150}. Иными словами, торжество Москвы как вместилища для новой кафедры патриаршей и торжество Иова прокламируются на страницах книги, которой суждено разойтись по всем областям России, вплоть до самых дальних городов.
Кто инициировал реставрацию книгопечатания в Москве? Митрополит Иов? Борис Годунов? Сам государь?
Трудно ответить на этот вопрос однозначно.
Иов был большим книжником, весьма значительным духовным писателем и «главным идеологом страны»{151}. Он, конечно, должен был понимать великую пользу книгопечатания для христианского просвещения, он, разумеется, понимал и необходимость книжной «справы» (исправления и унификации церковных книг), возможной только с утверждением издательского дела. И он, наконец, был достаточно близок к престолу еще при Иване IV, чтобы помнить опыт первого, грозненского еще введения «штаньбы». Таким образом, Иов – весьма возможный претендент на роль идейного вдохновителя новой волны московского книгопечатания.
Борис Годунов? Менее вероятно. По общим отзывам современников, Борис Федорович, будучи человеком исключительного ума, все же не испытывал большой любви к «винограду книжной премудрости». Не его мысль. Не его пристрастие. К тому же истинный правитель России, как личность весьма честолюбивая, не преминул бы так или иначе связать свое имя со столь большим государственным делом; если этого не произошло, значит, само книгопечатание не слишком заинтересовало конюшего.
А в послесловии к Триоди постной нет ни слова о нем.
Зато роль государя Федора Ивановича показана как решающая. О его трудах по возобновлению книгопечатания источник говорит прямо: «Свет истинный, Слово Божие и Сын Отчь возсия молнию светолучныя благодати в сердцы благочестиваго царя нашего и государя великого князя Феодора Ивановича всея Руси самодержца, дабы царьство его исполнилося божественных книг печатных. И повелением его, великого государя, благочестиваго царя… начата бысть печатати в богохранимом царствующем граде Москве… во исполнение церковнаго богогласия, богодохновенная сия книга Триодь постная с Синоксари и с Марковыми главами». Выходит, сам царь Федор Иванович пожелал восстановить типографию в столице. Можно было бы, конечно, предположить «этикетный» характер этих слов: опыт прежних изданий сделал хвалу государю неотъемлемой частью послесловия. Но одно обстоятельство мешает принять подобную трактовку. Послесловие составлено так, что заставляет видеть автором своим печатника Андроника Тимофеева Невежу или кого-то из его ближайших сотрудников. А значит, человека, осведомленного в вопросе о том, кого надлежит благодарить за возобновление книгопечатания. И автор с явными нотками личного отношения к царю повторно называет его зачинателем сего благого дела: «Вси же елико вас церковные чада и сынове Евангелия, по рождении от семени неистленна, аще кому лучится вникнути в сию бого-духновенную книгу Триодь, и разумеет, что в ней потребно и полезно, тогда преже всех творцу и содетелю благим Христу Богу хвалу и славу да воздает и его верному слузе благочестивому царю нашему и государю великому князю Феодору Ивановичи) всея Руси самодерьжцу, да молит и просит душевнаго спасения и многолетнаго здравия, понеже бо он виновен бысть таковыя пользы (курсив мой. – Д. В.), да его благостроением и мы в мире и тишине поживем»{152}. Это не «этикетное» высказывание. Это слова прямые, нехитрые, исполненные простого и теплого благодарения. Похоже, не минуло еще и шести лет правления Федора Ивановича, а в народе уже начало распространяться благоговейное отношение к нему. В монархе видели молитвенника, чье постоянное обращение к Богу приносит земле «мир и тишину». И вот этот молитвенник обращается мыслью к церковным делам, милым его сердцу. Желает внести больше порядка в «церковное богогласие», коего был большой любитель. Соответственно, он возвращается к опыту издательской деятельности отца, очевидно, не ушедшему от внимания молодого царевича. Тут нет ничего фантастического.
Возможно, именно инициатива Федора Ивановича по возобновлению заброшенного в русской столице издательского дела объясняет слова князя И.А. Хворостинина, который объявил государя «любителем книг». Не пристрастие ли государя к печатной книге послужило основой для подобного свидетельства?
Так или иначе, Федор Иванович должен считаться наиболее вероятным инициатором восстановления типографского дела в Москве.
Новая волна печатных книг, появившихся в Москве, приятно удивила современников. Так, Пискаревский летописец, перечислив храмоздательские заслуги царя, сообщает о заслугах иного рода: «Повелением царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в 100-м году и в ыных годех печатаны книги: евангелия, апостолы, псалтыри, часовники, охтаи, минеи общия, служебники, треоди постныя и цветныя»{153}.
К настоящему времени историкам русской печати известны экземпляры четырех московских изданий времен Федора Ивановича: Триодь постная 1589 года, Триодь цветная 1591 года, Октоих 1594 года и Апостол 1597 года. Часовник вышел в 1598 году, уже при Борисе Федоровиче, вскоре после кончины Федора Ивановича. Что же касается Евангелий, Псалтырей, Миней и Служебников, изданных между 1584 и 1598 годами, то их еще предстоит отыскать: ни одного экземпляра науке пока неизвестно.
Государево решение возобновить книгопечатание отлично вписалось в общий курс годуновской «большой политики». Как уже говорилось выше, Россия тогда очень много строила. И строительные усилия Москвы коснулись огромной территории – от Царицына до Архангельска, от Смоленска до Тобольска. Но там, где вырастала русская крепость, в самом скором времени должна появиться православная церковь. А богослужение в храме требует множества предметов, без которых священник не может заняться своим делом. Прежде всего, речь идет о книгах. Не имея целого комплекта литургических текстов, иерей не может вести богослужение. Московское правительство поддерживало провинциальных священников, доставляя новопостроенным соборам и монастырям книги, иконы, причастное вино, церковную утварь разного рода. Но при Федоре Ивановиче по всей стране возводится множество храмов, и трудно было запастись количеством книг, достаточным для того, чтобы хватало для всех потребных рассылок. Работа книжного переписчика – долгая, трудная, кропотливая – не терпит спешки. Другое дело – печатный станок, сильно ускорявший этот процесс. Когда в казенных книгохранилищах лежат, дожидаясь своего времени, сотни и тысячи идентичных экземпляров одного издания, подьячему не нужно суетиться, отыскивая необходимую книгу у торговцев. Он просто получит ее со склада. Впрочем, когда тираж разойдется, «приказной человек» вновь должен будет идти в торговые ряды.
Именно от времен Федора Ивановича сохранились древнейшие документы (1592—1596 годов), свидетельствующие о правительственной рассылке книг, в том числе и печатных изданий, по провинциальным храмам и монастырям. Книги отправлялись в Елец, Верхотурье и Воронеж; весьма вероятно, были у подобного рода казенных обозов и другие адресаты. Строящийся в Воронеже Успенский монастырь получил из Москвы, среди прочего, «Псалтырь печатную» (1594){154}.
Москва XVI столетия скудна была духовным просвещением. Еще при митрополите Макарии много правильного говорилось о необходимости завести училища и навести порядок в умах духовенства, расстроенных невежеством, грубостью нравов, а также разного рода еретическими веяниями. На Стоглавом соборе постановили создать «училища книжные», притом не только в столице, но «по всем градом», исправлять отныне церковные книги «соборне» и «с добрых переводов», воспретить распространение рукописных книг, не прошедших справы. Книгопечатание призвано было служить этой великой цели, и основание его в «царствующем граде Москве» явилось добрым почином, едва не сорвавшимся и едва не забытым. К концу века собственных школ завести не удавалось – во всяком случае, источники того времени не сообщают о них ни единого слова; собственная академия будет оставаться в сфере мечтаний на протяжении еще целого столетия; лишь издательскую работу удалось возобновить. Вся она до великой Смуты связана была с тиражированием церковных текстов, главным образом литургических. Конечно, Часовники, Псалтыри и Апостолы можно было использовать лишь при научении простой грамотности, не более того. А все же и то элементарное духовное просвещение, которое совершалось посредством печатных книг, было изрядным шагом вперед по сравнению с первой половиной века. Оно давалось трудно, оно не утвердилось бы, не поддержи его монаршая воля. Оно было частью великого плана, исполнявшегося до крайности медленно, но все-таки не стоявшего на мертвой точке. План этот, завещанный Русской церкви святителем Макарием, заключался в преображении ее из организации богатой, влиятельной и свободной ото всякого подчинения иноверцам, но хаотически организованной и малокнижной, в собрание людей, ценящих виноград премудрости книжной и вполне искушенных в тонких вопросах богословия. Мощь колоссального тела нашей Церкви должна была напитать дух и разум ее. Русские монастыри и архиерейские дома следовало превратить в центры духовного просвещения, которые сравнялись бы с греческими и в конечном итоге возвысились бы над ними.
Таким образом, воздвижение русского патриаршества было не только знаком материальной мощи, свободы и долгой исторической судьбы православной церкви на Руси. Оно также играло роль обещания: перед русским духовенством открывается новая дверь и под ноги ему ложится новый путь. Пойти по нему – значит обрести силу знания, силу богословской учености. Государь Федор Иванович, сколько мог, способствовал тому, чтобы движение по этой дороге продолжилось.
И когда движение это прервет чудовищная судорога Смуты, отнюдь не он, последний царь из семейства Даниловичей, будет виновен в этом.