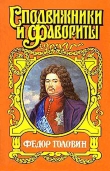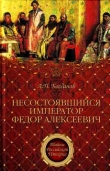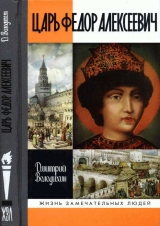
Текст книги "Царь Федор Алексеевич, или Бедный отрок"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
О временах, когда Иоакиму пришлось строить отношения с царем Алексеем Михайловичем, очень хорошо написал современный историк А.П. Богданов: «Иоаким знал, чего хочет добиться для Церкви, умел достаточно осторожно и предусмотрительно проводить свою линию, не раздражая богомольного и потому особенно склонного вмешиваться в духовные дела самодержца» [209]209
Богданов А. П.Русские патриархи (1589—1700). М., 1999. Т. 2. С. 64.
[Закрыть]. Но когда Иоаким узнал, что царский духовник завел себе любовницу, он смирил дерзкого священника, посадив его на цепь. И царского гнева не испугался: то, в чем пастырю следовало стоять твердо, он никогда не сдавал.
В первые годы соработничества с Федором Алексеевичем Иоаким мог легко водить рукой молодого монарха. В 1677 году он, например, добился окончательного уничтожения ненавистного Монастырского приказа, столь любезного прежнему государю. Тогда же Иоаким провел ряд мер, жестко унифицируя архиерейское богослужение и повышая роль богослужения патриаршего, упавшего было в авторитете. Так, «шествие на ослята», совершаемое в Вербное воскресенье и символически означающее вход Иисуса Христа в Иерусалим, отныне запрещалось совершать кому-либо из русских архиереев, помимо патриарха Московского, и где-либо, кроме столицы. Иоакиму удалось преодолеть строгий запрет, не позволявший дворянам-землевладельцам отдавать вотчины под строительство храмов.
Люди, явно мешавшие его деятельности, сейчас же отшвыривались с дороги. Тот самый духовник Алексея Михайловича Андрей Савинов, коему пришлось посидеть, смиряясь, на цепи, посмел возвысить голос против Иоакима. На отпевании старого царя «прощальную» грамоту вложил ему в руку патриарх; духовник увидел в том нарушение устоев: как же так, почему прежде это делали духовники, а тут вместо него почетную миссию исполнил патриарх? Андрей Савинов призывал дать ему войско для нападения на патриарха-«супостата». Тот созвал собор и добился решения, по которому наглого бесчинника отправили в дальний Кожеозерский монастырь. И Федор Алексеевич непутевого священника отдал, хотя тот и был любимцем его отца.
Более того, сам чин поставления Федора Алексеевича на царство сильно изменился по сравнению с таким же чином, использовавшимся при коронации его отца. Тут видно активное вмешательство Иоакима. На первое место в венчальном чине Федора Алексеевича поставлена Церковь. Новый государь, говорится там, восходит на царский престол «по преданию святыя восточные Церкви». Таким образом, царская власть санкционируется прежде всего властью духовной и вручается по ее «преданию».То, что монарх унаследовал державу от отца и деда, убрано на второй план. Во время совершения длительного и пышного обряда Федор Алексеевич должен был произнести полный православный Символ веры в ответ на вопрос патриарха: «Како веруеши и исповедуеши Отца, Сына и Святаго Духа?» Такого прежде не случалось. Притом царь воспроизводил вариант Символа веры, исправленный при Никоне и отринутый старообрядцами. Всему свету продемонстрировали не только то, что московским государем может быть лишь истинно православный человек, но и то, что ждать от него возврата ко временам дониконовского «древнего благочестия» не стоит.
Федор Алексеевич видел и чувствовал: у «духовных дел» в его державе есть крепкий и рачительный хозяин. Когда необходимо, он поддержит государя (Иоаким оказывал ему действенную поддержку неоднократно), но в опеке со стороны светской власти, даже ее главы, он не нуждается.
Исключительно важной совместной работой царя и патриарха стала христианизация нерусского населения на недавно присоединенных территориях. Речь идет прежде всего о Приуралье и, в какой-то степени, о Поволжье, где христианизация началась давно, но тормозилась то Смутой, то разинщиной. По словам современного историка Н.Ф. Демидовой, Иоаким и Федор Алексеевич «выступали здесь единым фронтом» [210]210
Демидова Н. Ф.Федор Алексеевич. С. 196.
[Закрыть]. Они использовали меры как поощрительные, так и принудительные, но вооруженной силой не пользовались. В Сибирь отправились искусные миссионеры. Новокрещенов правительство стало на несколько лет освобождать от выплаты налогов. Им выдавали серебряные кресты, иконы, новые суконные кафтаны. Все знатные землевладельцы магометанского вероисповедания, в поместьях и вотчинах которых жило христианское население, теперь могли сохранить свои владения, только крестившись. В противном случае казна забирала земли. Вместо них давали вотчины и поместья, населенные иноверцами. Правительство опасалось, что хозяева силой загонят крестьян в ислам, да и само подталкивало знатных служилых татар переходить в православие.
Где-то новая религиозная политика вызвала возмущение, а где-то привела к серьезным положительным результатам. Хороших священников-миссионеров не хватало, особенно тех, кто мог бы просвещать людей, не знающих русского языка. Знать не желала расставаться с женами, покоряясь христианскому обычаю иметь только одну супругу. Башкиры взялись бунтовать. Но все же итог царского миссионерства, скорее, положительный. Крестились почти все касимовские татары, давно жившие бок о бок с русскими. Православие приняла значительная часть нехристианских народов бывшего Казанского ханства: чувашей, мордвы. Этот успех потомки прочно связали с именем Федора Алексеевича. На его надгробном портрете сказано: «Ис тьмы махометанства и идолопоклонства множество не нужою, но христианским благочестивым промыслом во свет православныя веры приведе» [211]211
Снегирев И. М.Архангельский собор в Московском Кремле // Русские достопамятности. М., 1865. Вып. 12—13. С. 29.
[Закрыть].
Имея полное преобладание в опыте, умение ладить с аристократической верхушкой России, четко зная, куда вести церковный корабль, Иоаким долгое время чуть ли не диктовал царю полную свою волю.
Ничего худого в том нет.
Такое случалось неоднократно: умудренный первоиерарх Церкви оказывался наставником юного монарха. Русская история богата примерами подобного рода. Святой Алексий, митрополит Московский, фактически возглавлял правительство при малолетстве Дмитрия Донского. Святой Макарий поддерживал и окормлял молодого Ивана Грозного. Проживи он подольше, как знать, начался бы тяжкий «исторический эксперимент» опричнины? Митрополит Филарет вообще приходился отцом государю Михаилу Федоровичу, а потому на протяжении полутора десятилетий играл роль ведущего политика России. Филарета титуловали не «великий господин Святейший патриарх», а «великий государь Святейший патриарх», и воля его, конечно, преобладала в государственных делах над волей молодого неопытного сына. Это принесло стране благо: Филарет обладал изощренным умом большого государственного деятеля. Никон, не будучи ни отцом, ни иным старшим родственником Алексея Михайловича, добился от монарха такого же титула для себя, каким обладал Филарет: «великий государь». На протяжении нескольких лет он властно вмешивался в большую политику и проводил свой курс через «духовное чадо» – царя. Никон превосходил Алексея Михайловича возрастом на четверть века, а житейским опытом – бесконечно. Однако в конечном итоге нарвался на острейший конфликт. Подросло «духовное чадо» и пожелало большей самостоятельности в решениях…
Положение, когда глава Церкви по интеллектуальной силе, воле и, главное, опыту нависает над главой светской власти, явно превосходит его, может вести и ко злу, и ко благу. Российский опыт дает больше положительных примеров, но и у нас случалось по-разному.
Иоаким неизбежно двигался к той же ситуации, что и Никон. Государь Федор Алексеевич рос, росли его опыт и его реальный вес в управлении державой. Батюшка его влезал в церковные дела самым активным образом, и Федор Алексеевич счел, что для него уместно подобное же вмешательство. Патриарх видел, как быстро юный монарх обретает независимость, сколь явно увеличивается его тяга к самовластию. Однако Иоаким не покушался, как Никон, возвестить старшинство Священства над Царством. Он не пытался навсегда закрепить за собой право на диктат в отношении государя. Он, как мог, до последней крайности проявлял очень гибкое отношение к царю. Где требовалось, уступал, помогал Федору Алексеевичу в его затеях, соработничал.
Иоакиму не нравилось влияние «латынника» Симеона Полоцкого, оказываемое на царя. Патриарх отрицательно относился к проповедям государева учителя и даже вовсе желал запретить ему проповедование. Сочинения Симеона «Венец веры» и «Обед душевный» [212]212
«Венец веры» и «Обед душевный» – богословские сочинения Симеона Полоцкого, причем сборник проповедей «Обед душевный» был напечатан после смерти автора в царствование Федора Ивановича (1681).
[Закрыть]подверглись едкому осмеянию со стороны патриарха, дескать, венец-то «из западного терния» сплетен… Патриарх даже обвинял Симеона в «хлебопоклоннической ереси». И все же открытого конфликта не произошло, даже когда «Обед душевный» вышел из печати. Глава Русской церкви лишь не дал книге своего благословения. Его нет в выходных данных, хотя на подавляющем большинстве московских печатных изданий проставлялось: «По благословению святейшаго патриарха». Иоаким знал меру, он тормозил «латынничество», избегая ссоры с венценосным покровителем «латынников».
Царь принялся понемногу ограничивать землевладение Церкви и отбирать вотчины, приобретенные ею против закона. Патриарх и тут согласился. Особенно строгие ограничения накладывались тогда на архиереев, так или иначе присоединявших к церковным владениям земли в Сибири и на окраине Дикого поля. В Сибирь отправился жесточайший указ, налагающий запрет на продажу Церкви земельных владений, а также на их пожертвование или передачу из казны на оброк [213]213
Собрание государственных грамот и договоров.. Т. 4. С. 352—356.
[Закрыть]. Обстоятельства дела ясны: страна ведет тяжелую войну с турками, противостоит татарам, в любой момент может вновь сцепиться насмерть с Речью Посполитой, а потому земля очень и очень нужна как источник государственного дохода, как средство обеспечения военно-служилого класса. Иоаким не стал всерьез сопротивляться. Тут ведь не Порядок рушился: речь шла всего лишь о возобновлении тех запретов, которые давно стали частью русского законодательства.
Но как только ситуация потребовала выступить против, Иоаким проявил твердость без всяких сомнений и колебаний.
Отношения Федора Алексеевича с патриархом испортились, когда царь предложил масштабную «епархиальную реформу». Иоаким не просто воспротивился ей – он встал насмерть и разнес царский проект до основания.
Суть «епархиальной реформы» может быть изложена в двух пунктах [214]214
Там же. № 128 от 27 ноября 1681 года.
[Закрыть].
1. Территория Московского государства делится на 17 областей, подчиненных архиерейским кафедрам. Их занимают: сам патриарх Московский, девять митрополитов, шесть архиепископов и один епископ. По сравнению со всем остальным православным миром русские епархиальные области выглядели колоссами. Сотни, а то и тысячи храмов оказывались в подчинении у одного архиерея. Если на карте одного русского епархиального владения выложить мозаику из греческих епархиальных владений среднего размера, то их поместилось бы несколько дюжин! Небогатый греческий епископат сидел по древним, но давно оскудевшим городкам и кланялся туркам-завоевателям. Тамошний владыка иной раз имел в подчинении всего несколько храмов. Правда, он все знал и на все влиял на подвластной территории… Федор Алексеевич предположил, что и в России следует умножить число архиереев. Пусть епархиальные области сильно уменьшатся, зато духовная власть всюду сможет дотянуться и везде успеет исправить негодное. По его проекту количество кафедр увеличивалось едва ли не в пять раз. Для каждой из них царские чиновники скрупулезно высчитали земельное и денежное обеспечение.
2. Всех епископов и архиепископов предполагалось подчинить двенадцати митрополитам и патриарху. Таким образом, русский епископат делился между главами тринадцати церковных округов. Некоторые из этих округов объединяли всего две епархии, другие – десять, третьи – двадцать… Патриарх, помимо собственной области, получал в подчинение 12 митрополитов. Таким образом, между ним и епископами возникала новая, промежуточная ступень духовной власти. Исстари русский митрополит не командовал русскими епископами. Он всего лишь занимал кафедру, превосходящую все епископские и архиепископские по старшинству. Или, как говорили в старину, «по чести». В ряду архиереев митрополит оказывался «честнее» архиепископа и епископа, но никаких распоряжений отдавать им не мог. Все архиереи в равной степени покорялись патриарху. Царь Федор Алексеевич желал изменить этот древний принцип. По его мнению, промежуточная, митрополичья, ступень духовной власти сделала бы Церковь более управляемой.
Насколько подобные преобразования принесли бы практическую пользу, сказать трудно.
С одной стороны, ослабели бы епископы, так как уменьшилось бы их своеволие. Да и удобнее управлять малой епархией – тут резон царского предложения очевиден. Конечно, реформа задевала интересы уже поставленных в сан епископов и архиепископов: их канонические области разделились бы на несколько частей, доход от них упал бы, а влияние владык на общецерковные дела резко уменьшилось бы. Но для Церкви в том беды нет. С другой стороны, Русская церковь выработала оригинальную схему, делавшую увеличение епископата ненужным. Местное духовенство подчинялось «поповским старостам» и протопопам – священникам-бельцам, возглавлявшим «сороки» и «соборы» [215]215
«Сброками» и «соборами» в средневековой России называли территориальные объединения приходского духовенства, куда входило по нескольку десятков церквей.
[Закрыть]. Те получали широкие административные функции, в исполнении коих отчитывались перед своими епархиальными архиереями. Поповский староста на Москве, не имея епископского сана, реальным значением своим превосходил греческого архиерея. Что лучше: передать властные полномочия на местах «слабым» епископам и урезать их у священников-бельцов или же оставить их бельцам, помогающим «сильному» епископу? Кто надежнее как «среднее звено» в структуре Церкви: сильный поповский староста или епископ с урезанной областью управления? Вопрос не имеет однозначного ответа. Белец ближе к приходу – прежде всего как семейный человек. Но… здесь же кроется и его слабость. Радея о жене, детях и прочей родне, белец легче соблазняется извлечь из церковного имущества прибыль для своего рода. Епископ, представитель монашествующего духовенства, хуже понимает простых прихожан, но для него и соблазн «подкормить» родню не имеет разительной силы. Наверное, все-таки епископ удобнее, – если он имеет солидный «книжный», богословский багаж. Тогда он может играть роль духовного вождя в противостоянии еретикам и староверам. Белый священник и багаж такой являет реже, и обременен делами семьи, а оттого ему труднее ввязываться в бескомпромиссную духовную борьбу.
Судьба Церкви в будущем показала: епархии все равно придется «резать»… Ныне здравствующий патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит политику дробления епархий, и от этого видна только польза.
Нужна ли особая ступень в структуре Церкви – митрополичья? Нужна ли, иными словами, передача власти над епископами и архиепископами митрополитам? Трудно сказать. Но, скорее, пользы особой не видно. Появление у митрополитов подобных полномочий означает ослабление власти патриарха, ослабление связи патриарха с епископатом. Православная церковь не имеет единого центра, она состоит из многих самостоятельных «поместных» церквей – в отличие от католической, подчиненной папе. «Латинствующим» из окружения Федора Алексеевича, вероятно, нравилась идея «православного папы». Такой патриарх-«папа», мнилось, объединит под своей властью весь православный мир, подчинит себе прочих патриархов… И для управления колоссальными пространствами ему потребуется эта самая митрополичья ступень власти. Но в сосредоточении такой власти у одного человека содержится великий соблазн. И еще один великий соблазн возникает у светской власти: контролировать столь сильную персону, играя на конкуренции могущественных митрополитов. А у самих митрополитов «новой формации» появляется третий, не менее серьезный соблазн – отколоться, получить автокефалию, обратить свою митрополичью кафедру в патриаршую…
Итог: в одной части планы государя Федора Алексеевича имели свой резон и могли бы принести пользу. В другой части они являлись рискованным нововведением и чреваты были новыми внутрицерковными конфликтами, а то и новым расколом.
Планы «рационализации» церковного устройства носились еще во времена Алексея Михайловича. Государев ученый фаворит Симеон Полоцкий всегда готов был поделиться с государем мыслями на сей счет. Надо полагать, Федор Алексеевич получил от учителя изрядную порцию соображений, касающихся этого предмета. Да и сам государь, с 1680 года вошедший во вкус реформ, желал только добра, предлагая эскиз масштабного переустройства Церкви. Когда он побывал в Новоиерусалимском монастыре и увлекся идеей о перемещении центра вселенского православия в Москву, ему было всего-то 17 лет. А эта идея, как и многое, произведенное на свет клокочущей натурой Никона, – жгучая, провоцирующая на действия. Как видно, она наполнила государя энергией, жаждой преобразовательной деятельности. «Если мы средоточие православия, – вероятно, задавался он вопросом, – почему у нас все так странно и неудобно? Почему у греков иначе? Столь великая страна, на просторах которой несколько раз уложится весь Православный Восток, – и всего полтора десятка архиереев!» Телесная слабость подталкивала Федора Алексеевича к тому, чтобы доказывать миру: он – настоящий царь, он имеет силу исправлять старое и негодное, он достоин занять место вселенского православного властителя! Он горел новыми идеями. Ему хотелось поднять свою Церковь на подобающую высоту. Он желал усовершенствовать ее!
Царь взялся за дело с горячностью. И помощники нашлись: вместе с Федором Алексеевичем план реформы разрабатывали думный дьяк Илларион Иванов и боярин – князь В.Ф. Одоевский.
Однако патриарх увидел, к каким последствиям могут привести такого рода преобразования, и решил не давать им ход.
Федор Алексеевич предложил Иоакиму для вынесения на церковный собор проект большой реформы, а вместе с ней еще несколько статей, касающихся церковного благонравия. Патриарх на протяжении многих месяцев 1681 года рассматривал предложения царя. В результате он наполовину урезал количество новых епархий. И оказалось, что митрополитам «новой формации» уже особенно и некем управлять. Маловато достается им епископов… В подобном, сокращенном, виде проект реформы попал на обсуждение русских архиереев. С ними у Иоакима, думается, имелось твердое соглашение: потопить цареву затею.
«Перетягивание каната» между царем и архиереями шло на протяжении нескольких месяцев – поздней осенью 1681-го и зимой 1681/82 года. Русское священноначалие сочло особую «митрополичью» ступень церковного устройства источником «церковного разногласия и… распри и высости [216]216
Высость – здесь: высокомерие. Обычное же значение – высота.
[Закрыть], и в том несогласия и нестроения, святой Церкви преобидения и от народа молвы и укоризны» [217]217
Акты исторические. Т. 5. № 75. СПб., 1843. С. 10.
[Закрыть]. В конечном итоге она была полностью отвергнута. Что же касается числа новых епархий, то их решили устроить всего 11.
Устюг Великий, Енисейск, Холмогоры, Севск – новые архиепископские кафедры.
Арзамас, Уфа, Тамбов, Воронеж, Галич, Курск, Волхов – новые епископские кафедры.
Вятская епископская кафедра повышается до архиепископской.
Всё.
И это уже совершенно другая картина нововведений. Коренные земли Руси ими почти не затронуты, за исключением незначительного Галича. Новые епархиальные области появились там, где устроить их диктовала простая логика расширения Московского государства. Это значит: в Сибири, районах Русского Севера и на степном юге, который лишь недавно принялись осваивать наши земледельцы. Россия присоединяла новые обширные области, до того пребывавшие вне христианского мира. Создание там епископских кафедр являлось делом времени. Всё равно придется их учреждать – не сегодня, так завтра. Но сердцевина церковного устройства оставалась такой, какой была исстари. А изменения на окраинах – полезные или, вернее сказать, естественные, давно назревшие. Предложения Федора Алексеевича подтолкнули Церковь совершить их, и очень хорошо.
Более того, все 11 новых епархий когда-то уже предлагалось учредить, и даже были особые постановления церковных соборов на сей счет, но по разным причинам руки не дошли…
Практический итог вышел и того скромнее. Возникли всего четыре новые епархиальные области: Холмогорская и Важская, Великоустюжская, Воронежская, Тамбовская. Возможно, с течением времени появились бы и прочие семь, но скорая кончина Федора Алексеевича поставила точку в череде новых архиерейских кафедр. Да и те, которые все-таки появились, стали плодом крайних его настояний. Умирающий царь, жестоко страдая от болезней, мечтал увидеть, что хотя бы часть его колоссального плана претворяется в жизнь. А потому – торопил Иоакима.
6 февраля 1682 года появился документ, где патриарху в довольно резких выражениях выговаривалось за промедление с новыми епархиями. Особенно беспокоился царь о Сибири и степном юге: «…такожде и о Сибирской стране, чтоб для ея пространства и множественного народа, Христа не знающего, бытии в прибавку архиереям для исправления и спасения людей, пребывающих в тех градех, того в совершение не приведено… и чтоб ныне те доброначатые с Богом дела исправити, понеже в Сибирской стране от столичного града той епархии до Даурских и Нерчинских и Албазинских острогов и до иных… многих мест во едино лето, в полтора и в два едва приходят. А в тех дальних местах христианская вера не разширяется, развратники ж святой Церкви [218]218
Речь идет о староверах.
[Закрыть]там умножаются. Да не токмо в такой дальней и пространной стране, но и в иных многих градех, а именно: в Путивле и в Севске, в Галиче, на Костроме и в иных многих местах противники умножились, зане не имеют себе возбранения за расстоянием дальним. Понеже в епархиях град от града и место от места имеют расстояния немалые, пристойно в ту Сибирскую епархию, для ея разширения и вышеписанного непотребства и в иные града прибавить архиереев» [219]219
Собрание государственных грамот и договоров. Т. 4. С. 411.
[Закрыть].
Создание новой епархии – дело долгое и сложное. Особенно на окраинах царства. Проживи царь Федор Алексеевич еще несколько месяцев, и Русская церковь, наверное, получила бы еще с полдюжины епархий. Но он скончался. Учреждение новых епархиальных областей пришлось надолго отложить из-за недостатка средств и большой смуты на Москве – грянуло стрелецкое восстание, всё древо государства сотряслось от корней до кроны…
* * *
Стоит задуматься над одним важным вопросом: почему Иоаким провалил реформу, спланированную царем? Да, конечно, есть причины, заставляющие оценить ее как рискованную – хотя бы отчасти. Эти причины приведены выше. Но даже сумма всех частныхопасений Церкви не объясняет столь решительного «нет», сказанного Федору Алексеевичу. Русская церковь редко отказывала государям. Всякий раз для того имелись очень веские причины. А тут… собрав все теоретические и практические минусы реформы, невозможно отделаться от ощущения, что есть еще одна, какая-то магистральная причина для ее «затопления». Отчего было не увеличить число епархий хотя бы за счет Сибири и русского юга? Но даже из тех одиннадцати новых епархиальных областей, на которые Церковь согласилась, реально появились только четыре…
Так почему?
Думается, наше священноначалие ужаснулось от мысли, что государи теперь полезут кроить и перекраивать Церковь.Да, раньше они, бывало, принуждали к извержению митрополитов и патриархов из сана. При Иване Грозном, случалось, архиереев убивали. Но с предложениями наново переделать всю церковную структуру доселе не выступал никто из наших монархов.
Иначе говоря, Русская церковь в лице патриарха Иоакима и архиереев воспротивилась созданию опасного прецедента.Светская власть должна знать свои пределы. У нее хватает своих забот. Не стоит ей лезть в дела церковные. Церковь сама управит их.
Иоаким продемонстрировал: светская власть может оставить себе свои прожекты. Коллективный разум Церкви в них не нуждается. И на будущее предостерегает от напрасной траты времени.
Светская власть потом, конечно, влезет туда, куда ей не стоило встревать, и натворит дел. Младший брат Федора Алексеевича еще уничтожит патриаршество, введет синодальное управление, а Екатерина II отберет у Церкви земли. И эти образцы «государственной мудрости» крепко аукнутся их преемникам: ослабевшая Церковь будет скверной опорой трону…
Но пока твердокаменный Иоаким отстоял независимость внутренних дел Церкви от внешнего вмешательства. Надо признать за ним историческую правоту.
Федор Алексеевич получил урок. Дабы смягчить его, Иоаким согласился на многие советы царя в части церковного благонравия. По правде говоря, многое требовалось изменить в расшатанном здании Церкви. И патриарх не перечил государю, когда речь шла о нравственности священников, о благочестии монахов. Он лишь заблокировал вопросы, связанные с церковным управлением.
Соборным решением архиереев строго запрещалось настоятелям в монастырях с общежительным уставом держать у себя в кельях особую пищу, предназначенную для личной трапезы: вся братия, не исключая иноческих властей, обязана выходить на «общую братенную трапезу». Уничтожались отдельные входы в монастыри из палат мирян. Переход инока из обители в обитель теперь дозволялся только по архиерейскому разрешению. Бродячее монашество, иной раз полнившееся бражниками, ворами, людьми самого сомнительного свойства, также оказалось под запретом. Черным священникам запрещалось постригать кого-либо во иноки вне обителей – даже на смертном одре. В монастырях предписывалось не держать «вина и всякого хмельного пития», а для тех из духовенства, кто любит посещать корчмы, вводились суровые наказания. Приходским священникам более не дозволялось строить на кладбищах лавки, амбары, избы. Упорядочивалась система богаделен.
Это и многое другое сделано было в ответ на запросные «статьи» Федора Алексеевича. Таким образом, хотя большой реформы и не получилось, но польза от царского деятельного благочестия все-таки произошла.
И… отношения между государем и патриархом оказались испорченными. В перспективе их трения могли бы привести к открытому взрыву с непредсказуемыми последствиями.
* * *
Симеон Полоцкий когда-то вручил Федору Алексеевичу еще один план, гораздо более дерзкий и потому даже не вынесенный на соборное обсуждение. Он предлагал умножить количество русских патриархов с одного до пяти. Главному – Московскому – подчинились бы новые: Новгородский, Казанский, Ростовский и Крутицкий. Нравился Симеону Полоцкому опыт католической церкви, и патриарх Московский явно уподобился бы папе римскому, только на русской почве. Подобное нововведение могло привести к очередному церковному расколу – чуть ли не более страшному, нежели тот, что начался при Никоне.
Вот какая деталь привлекает внимание: на роль русского «папы» предполагалось вызвать из ссылки Никона. А Иоакима отправили бы патриаршествовать в Новгород…
Зачем любимому наставнику государя неудобный патриарх Иоаким?
Слава богу, абсолютно чужая для России идея царского учителя никогда не реализовалась на практике. У молодого царя хватило ума не навязывать ее Церкви.
Таким образом, в начале 1680-х у Федора Алексеевича имелись самые веские основания выпустить Никона из заточения. А то и возвысить его. В дальнейшем это могло привести к возвращению сурового старика на Московскую патриаршую кафедру. Как осудили Никона с помощью собора, возглавленного греческими иерархами, так и вернули бы ему новый сан, проведя через подобный же собор с иерархами того же ранга. Иоаким оказался жестче, нежели хотелось бы Федору Алексеевичу. Трения начались задолго до осеннего церковного Собора 1681 года. Иоаким не торопился выносить на обсуждение реформистские предложения царя и, очевидно, заранее показал монарху: исполнение его мечтаний, мягко говоря, сомнительно.
Вот тогда-то были предприняты важные шаги в отношении Никона. Федор Алексеевич и раньше просил Иоакима о возвращении Никона. Царь даже посылал по этому делу к греческим патриархам. Иоаким противился. Но летом 1681 года он уступил. В далекий Кирилло-Белозерский монастырь полетела царская грамота. Никону разрешалось вернуться с суровой северной окраины и поселиться в любимом Новоиерусалимском монастыре. Теперь он мог бы закончить давным-давно начатое им масштабное строительство.
Почему на сей раз Иоаким отступил, хотя никаких соборных действий, освобождающих Никона от прежних обвинений, не совершалось? Возможно, царь проявил особую настойчивость. Возможно, Иоаким расценивал подобную уступку как ход, смягчающий трения с царем из-за епархиальной реформы. А возможно… ему доложили о скверном здоровье Никона. Тот ведь и сам о себе писал новоиерусалимским инокам: «Моего житья конец приходит». Весной 1681 года прежнему потрясателю Русской церкви исполнилось 76 лет. И жил он не в самых комфортных условиях. Так что на роль «православного папы» он уже не очень годился: жизнь едва теплилась в его дряхлом теле.
17 августа 1681 года Никон мирно скончался от болезни и ветхости лет на пути из ссылки, близ Ярославля. Душа его – горячая, многомудрая и горделивая – отправилась на последний суд к Царю Небесному. Царь земной уже ничем не мог ему помочь.
Федор Алексеевич пожелал хотя бы похоронить его с великими почестями. Он просил Иоакима о патриаршем чине отпевания для Никона. Тот ответил как истинный хранитель Порядка: «Собор когда-то повелел считать Никона простым монахом, и если царь хочет похоронить его как простого монаха, то я на похороны приду. Но если станут его называть патриархом, то я не явлюсь». Ответ – тактичный, но твердый. Есть церковные устои. Негоже отменять их из-за одного только доброго отношения царя к бывшемупатриарху. Патриарх нынешнийне может нарушить заведенное Собором, даже покоряясь воле государя.
В то же время, не желая скандала, Иоаким позволил митрополиту Новгородскому Корнилию отслужить чин погребения. Федор Алексеевич обеспечил большую пышность совершаемому обряду: обрядил священников в одеяния из драгоценного китайского шелка, даровал свечи саженной длины… и даже сам встал петь в церковном хоре. При погребении Никона в Новом Иерусалиме присутствовали вдовствующая царица Наталья Кирилловна с сыном Петром, а также государева тетка царевна Татьяна Михайловна. Не каждый патриарх, упокоившийся без всякой опалы, удостаивался подобных почестей!
Великая идея Никона о перемещении центра вселенского православия в Москву вызывала у Федора Алексеевича благодарность и великое почтение к ее автору.
Минул год. 9 сентября 1682-го до Москвы добрались «разрешительные» грамоты греческих иерархов на Никона. Их действительная, законная сила повлияла на поведение Иоакима совершенно иначе, нежели прихоть молодого царя. Он с почтением сохранил грамоты в ризнице и в дальнейшем поминал Никона как патриарха, а не как простого инока. К тому времени Федор Алексеевич уже покоился в гробу. Иоакиму никто подобного приказа отдать не мог. Им руководил долг истинного пастыря: делать так, как велят законы Церкви.