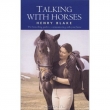Текст книги "Железный посыл"
Автор книги: Дмитрий Урнов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Пролежит не меньше месяца, – слышался голос врача.
– Дело наше такое, конное… Опасное дело. На лошади сидим, как под богом ходим, – бормотал в ответ ему директор.
Часть третья
Железный посыл
1
Драгоманова в порт приехала провожать старушка, его жена. Она тыкалась ему в плечо и повторяла: «Женя, побереги себя! Женя…» Драгоманов возвышался перед ней молча, навытяжку.
Мы ждали погрузки. Ростовские вагоны с лошадьми уже были пригнаны в порт. Польский корабль-скотовоз стоял у причала. Английский торговый агент находился на месте. Но мы не понимали друг друга – переводчик еще не пришел.
Условились встретиться в семь утра: договоримся о последних деталях и – в путь! Но переводчика все не было. Агент вышагивал по дебаркадеру с важностью, однако видно было, что нервничает, опасается, как бы не пришлось оплачивать простой судна. И правда, постукивая пальцем по часам, капитан говорил:
– Панове, Панове, отваливать самый час! План! Ведь у нас такой же план, как и у вас…
Драгоманов сказал:
– Моменто, товарищи и господа!
Взял трубку. И, когда в трубке хрустнуло, спокойно спросил:
– Ты спать еще долго будешь?
И, не дожидаясь ответа, трубку повесил. Действительно, вскоре явился малый, видно, что вскочивший с постели, наспех умытый и едва причесанный. Он заговорил с агентом с места в карьер. Быстро-быстро. По-свойски. Так, будто знают они друг друга уже давно. Тысячу лет. Будто он ему сват, брат, отец родной. О чем они говорили, кто знает! Но со временем можно было разобрать такие слова: «Шейкс-пир, Пушкин энд Достоевский». Произносили они их одинаково, очень старались, закидывая головы вверх, будто лошади от жесткого повода.
Драгоманов молчал. Что же это он? О чем они? Нам же уточнить нужно…
Драгоманов наконец сказал малому:
– Спроси, тара наша или ихняя?
Переводчик остановился, помолчал, а потом воскликнул:
– О дьявол! Забыл, как по-английски «тара»!
Агент смотрел на нас, выкатив глаза. Потом сам догадался, о чем речь.
– Боксы, боксы! – затараторил он.
И показал жестами, что боксы, то есть погрузочные ящики для лошадей, берет на себя фирма. Дела! Ждали толмача два часа, а теперь объясняемся, как дикари, руками.
– Ты что, знаешь этого агента? – спросил я у переводчика, потому что очень уж по-свойски они беседовали.
– В первый раз вижу…
Но вот портовый кран взмахнул стрелой и двинулся по рельсам к борту корабля. Первый бокс с лошадью повис над палубой. Старушка стояла, закинув голову и глядя, как ее Женя испытывает процесс погрузки вместе с лошадью. Драгоманов сам поднимался и опускался в трюм, на твиндек[25] с особо нервными жеребятами.
Затем начал грузиться Фокин, тот самый, знаменитый кучер Фокин, что ехал на тройке по Бродвею. На этот раз тройка его отправлялась вместе с нами в Англию, потому что на открытии торгов должен был быть показ национальных реликвий.
– Как же ты, Вася, на тройке по Бродвею-то ехал? – однажды я у Фокина спрашивал.
– Очень просто, – отвечал он со своим волжским «о». – Только тронул – все машины замерли, а потом мне гудками салют сделали.
Процедура с ним была – документы оформлять.
– Расписывайся, Вася, – велел начальник кадров.
Тут великий Фокин побледнел, потом у него на лбу пот выступил, он сдвинул свой кучерской картуз на затылок и, чуть язык не высунув, стал выводить буквы.
– Вот, – даже с каким-то отчаянием говорил тем временем начальник, – так каждый раз. Вчера человек из Бомбея прилетел, сегодня в Лондон отправляется, а роспись свою поставить не может. Н-нет, надоел мне этот стародедовский стиль на облучке. Я думаю о том, чтобы человек с высшим образованием, да еще со знанием языков, за вожжи взялся. А тебя, Вася, предупреждаю, если ты к следующему разу грамоте не научишься, оставлю дома! Предупреждаю!
Но, должно быть, начальник и сам понимал слабость своих угроз, потому что запросы на Фокина приходили на таком уровне, что дома его оставить было просто невозможно. Фокин ездил на коронации, президентские выборы, один раз даже на чей-то национальный траур. Его тогда вызвали телеграммой за несколько часов до начала церемонии, да еще дома застать не могли, он куда-то в поле выехал тренировать свою тройку, так что буквально из-под Юрьева-Залесского оказался он в Копенгагене, откуда транзитом должен был следовать на самолете «Люфтганзы» еще куда-то, с пересадкой в Мадриде.
– Как же ты, Вася, выжил? – я его спрашивал.
– А возле лошадей, – заокал он, – я не пропаду. От них я ни на шаг и – спокоен. С лошадьми везде и почет и дорога. Тогда у Форда я работал (он начинал парад автомобилей, причем в экипаже, в котором нашего Лебедя еще в четвертом году на Чикагской выставке показывали), так мне предлагали: «Мистер Фокин, может, в театр или на Майами-Бич вас свозить?» Я говорю: «В театр лошадей с собой не поведешь, так что уж лучше я дома отдохну».
– Ну, как он вообще?
– Форд-то?
Фокин махнул рукой:
– Скуповат. На овес не допросишься.
Спрашивал я у него и о том, как же это он без малейшего образования остался? Он ответил без объяснений: «Война». Ну, а что до людей с высшим образованием, так ведь с кучерским образованием другого Фокина все равно не найдешь. И сейчас, на погрузке, невооруженным глазом видно было, что за Фокин. Помните, в сказке:
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.
Так и фокинская тройка грузчикам и на арканах не давалась. Но вот он сам свистнул и – «кони пляшут трепака». Это был человек с таким уникальным прирожденным чутьем к своему делу, что «образовывать» его просто нечего.
Следом за тройкой грузили пару призовых рысаков, с которыми ехал известный наездник, любимец публики Вукол Эрастович Р. Называть я его полностью не стану, хотя ничего плохого говорить о нем не собираюсь, но человек он знаете какой…
– Любезный, – окликнул он переводчика, – скажи-ка мне, любезный, ты языками какими владеешь?
Переводчик, по обыкновению своему, вопроса сначала не понял, а потом сказал:
– Английским.
– И это все? – продолжал свои вопросы Вукол Эрастович.
Переводчик опять не сразу понял, но все-таки спустя немного сказал:
– Ну, по-французски, если нужно, смогу, пожалуй, объясниться.
– А немецкий?
– Вот немецкий ни слова не знаю.
Р., услышав это, такое лицо сделал, что переводчик просто всполошился:
– Но английский – свободно, свободно, вы знаете…
– Что ж, английский, – сказал Р., – один английский! В мое время молодые люди все, абсолютно все, языки знали как свои пять пальцев.
Переводчик стал перед ним просто извиняться за свой один только английский язык.
– Ну ничего, что ж делать, – отвечал Р. таким озабоченным тоном, будто языки для нас были главное, будто он сам в Англию отправлялся не на Королевский Приз ехать, а в парламенте речь держать, – ладно, сойдет, как говорится.
Переводчик ожил. Между тем Р. ему сказал:
– Прошу тебя, ты меня очень одолжишь, если попросишь агента – надеюсь, по крайней мере, на это запаса слов у тебя хватит, – чтобы он пива мне в каюту поставил.
Переводчик уж приналег на агента по-свойски, говорил «Шейкс-пир», еще чего-то говорил и в конце концов, видно, перестарался. Пришел к Вуколу Эрастовичу и доложил:
– Агент хочет знать, вам «Гиннес», «Лайт» или «Медиум»?
– Э, друг, – поморщился Р., – тебе самому, кажется, переводчик нужен. Ты и простого человеческого языка понять не можешь. Я же сказал тебе, сказал пи-ва, пива мне! Понял?
– Панове, на борт! Панове! – позвал тут, однако, старпом. – Через минуту отваливаем.
Делая буквально последний шаг по дебаркадеру, я вдруг услышал рядом голос, показавшийся мне знакомым.
– У вас просто настоящий конный ковчег.
Я обернулся и увидел, что это фельдшер, тот самый, что в горах нам дорогу показывал и в столицах не бывал. Он сопровождал лошадей с завода.
– Ну как, посмотрели теперь метро? – спросил я.
– Да нет же, – отвечал он, – от лошадей как же отойдешь. А у вас ковчег: все виды лошадей имеются.
– Па-нове! – еще раз позвали нас с корабля.
В сутолоке мы и не заметили, как оказались в море. Однако не до моря нам было, а впору к берегу вплавь добираться обратно. Доктор документы забыл. Или он их выправить не успел. Короче, лошади наши теперь плыли как беспаспортные. Со временем, конечно, все на торги пришлют, и сейчас он на таможне на своей договориться сумел, а вот что будет, когда в Англии ветосмотр явится и скажет: «Поезжайте домой!»
2
Вас интересует, наверное, как чувствуют себя в море лошади? Но вы бы лучше посмотрели на нас! Все, все полегли до единого: море, едва только покинули мы порт, поднялось дыбом и пошло нас кидать, как игрушку.
– Должно, кто-то из матросов на берегу за ночь не заплатил, – сквозь зубы сказал боцман.
– Как это?
– Да так, примета есть: не заплатил моряк за постой, с него в море взыщется.
– Ох, это не матрос, – сквозь зубы стонал Драгоманов, – это доктор документы забыл.
Серая пелена кругом, седые валы, а внутри, в душе, уж такая муть, что хоть наизнанку выворачивайся. Фокин лег мертвым телом. Он, надо сказать, так до берега британского и не вставал. Он вообще страдал «морской болезнью» на всех видах транспорта, и сухопутных и воздушных. Его мутило в самолете, в автобусе у него кружилась голова.
– А на пролетке, Вася, как же ты сидишь?
Но он только приподнял голову, взглянул на нас глазами затравленной овцы и – ни слова.
Зато Вукол Эрастович не умолкал. Он да переводчик причала, кажется, и не покидали. Шторм, от которого сам пан капитан помрачнел, на них не оказывал ровно никакого воздействия. Вукол Эрастович размышлял вслух, а переводчик не отрываясь просто в рот ему смотрел, ловя каждое слово.
– Былое время, – говорил Вукол Эрастович, – ах, былое время!..
А переводчик в ответ на это вздыхал так, что слышно было даже сквозь рев волн и гул всех четырех дизелей, которые, напрягаясь до последней степени, старались выгрести против осатаневшей стихии.
– Пиво, – вещал Эрастыч, – пиво было такое, что вам уже не пить больше такого. Впрочем, хорошо бы капитан и этого еще нам отпустил. Оно ничего, оно мне на память приносит былое. Похоже на пиво братьев Буренковых.
– Зачем ты эту контру в Англию везешь? – поинтересовался у Драгоманова капитан.
– Мастер, – отвечал Драгоманов.
Но в эту минуту отворилась дверь, и с порога закричал матрос:
– Панове, ваши лошади околевают!
И мы поползли. Говорю это буквально. Вообще море заставило нас испытать на себе силу слов, которые мы все произносим, однако не очень в них верим. Шторм, что такое шторм?
Едва только мы высунули нос на палубу, чтобы спуститься в трюм, как волна высотой с дом встала над пароходом и рухнула на эту самую палубу.
– У борта не сметь показываться! – но своим голосом накричал на нас капитан. – В прошлый раз у нас стивидора к чертям смыло.
– Как это – к чертям? – тоже не совсем своим, уверенным, голосом переспросил Эрастыч, забывая узнать, а что значит «стивидор». – Каким чертям?
– Морским.
– И… и?
– Ну, человек за бортом. Дали полный стоп вкруговую, маневр такой, возвращающий судно в точности на прежнее место, да где там… Прежде чем он за борт попал, его, наверное, о лебедки стукнуло. А вы сами видите, что за сила. У меня один раз на палубе контейнер в сорок тонн оторвало и пошло метать по всему судну, как игрушку.
– Часто это бывает?
– Бывает… Однажды полный пароход пацюков вез, так ни одного в живых не осталось. Всех в шторм побило.
– Каких пацюков? – решил все-таки выяснить Эрастыч.
– Кабанчиков, свиней то есть… Привез готовую тушенку.
«Человек за бортом», «полный вперед» – так вот слышишь, читаешь, а попробуй-ка лицом к лицу, когда это не слова, а шаг-другой и – кипящая пропасть. Однако что же делать, там, в трюме, – лошади!
Мы поползли. Первым, как и полагалось, в трюм спустился доктор, за ним – Драгоманов, потом мы с Эрастычем, а переводчика еще волной обдало.
– Представьте себе, молодой человек, что вы пересекаете экватор, – сказал ему Эрастыч.
В трюме было конное царство. По всему пространству, едва освещенному фонарем, мечущимся у потолка, видны были конские морды. Как по команде, повернулись они в нашу сторону и только что не сказали: «Что же это вы с нами делаете?!»
Доктора, как только выпустил он из рук перила, метнуло в сторону и ударило о какой-то крюк.
– Хорошо, да маловато тебе, – прошипел Драгоманов.
Доктор отдышался и пополз дальше, выискивая среди лошадей особо павших телом и духом. Но мы ведь тоже оторвать рук от перилец были не в силах.
Наконец нашли мы доктора возле молоденькой кобылки, повисшей задними ногами на перекладине. Видно, она стала от страха биться и застряла. При хорошем ударе волн у нее могла оторваться вся задняя часть туловища. «Кобылка-то ценная, – простонал Драгоманов, – дочь Памира». Конечно, это не сорок тонн, а килограммов четыреста, но это же не ящик, а живой вес! Арабы говорят, что у лошади четыре части тела широкие – лоб, грудь, круп и ноги; четыре длинные – шея, плечо, ребра, голени; четыре короткие – спина, бабки, уши и хвост. Мы свои усилия так и распределили по этим частям. На каждого пришлось по одной длинной, одной короткой и одной широкой.
– Товарища переводчика притиснуло, – сообщил Эрастыч.
– Не суйся куда не просят, – сказал ему Драгоманов, когда мы достали его, слегка испуганного, из-под лошади.
Мы двинулись с осмотром дальше. Следующий обнаруженный доктором случай был много сложнее: лошадь села на ноги. Это так говорится. Это отек конечностей. И лошадь, действительно не в силах стоять, оседает. Причина – опой. Но как это получилось – кто знает? Может быть, на погрузке жеребенок разнервничался, взмок, а ему, потному, моряки по неопытности дали воды. У лошади механизм такой, что сердце едва справляется со своей работой.
По сравнению с мощью всего организма сердце у лошади оставляет желать много лучшего. Особенно боится оно воды – лишней и не вовремя. Выход при этом один – пускать кровь, чтобы облегчить работу живого «насоса».
Нас кидало и швыряло, будто мы были клоунами в цирке. Доктора нам удалось кое-как привязать канатом над лошадью. «В крайнем случае, – заметил ему Эрастыч, – если неприятности по работе будут, пойдешь акробатом». Сами же мы старались изо всех сил удерживать лошадь в одном положении. Сверху доктор, как индеец, целился ей в вену шприцем. Наконец он ударил. Из-под иглы брызнула темная струя, залившая светло-серую шерсть.
– Держи, м-мерзавец! – закричал Эрастыч на переводчика, который все никак не мог поймать эту струю горлышком большой колбы.
– Тебя, – сказал между тем Драгоманов доктору, когда мы его уже отвязали, а лошадь спокойно переступала ногами, – либо утопить, либо шкуру с живого спустить было бы абсолютно не жаль, но на всем нашем коневодстве лошадей тогда некому будет лечить.
– Дело знает, – подтвердил Эрастыч, у которого похвалу, кроме как в его же собственный адрес, на веревке не вытащишь.
Да, это редкость – знающий дело, а не просто при деле находящийся. Таких-то довольно! Нет, знающий дело – чувствующий лошадь, как самого себя.
После врачебного обхода, или, я бы сказал, прополза, мы устроились там же, в трюме, на кипах сена. Стоны, храп, кровь – это было позади, и казалось, море буйствует уже не так дико. Но капитан по-прежнему был мрачен, валы высоки, барометр низок. На вахте, как на картинке, стоял старпом и, глядя в бинокль, говорил, будто в книжке:
– Так держать!
3
Перевели мы дух только в Гамбурге, который был первой стоянкой на нашем пути. Пароход встал под погрузку. В трюм начали опускать автомобили, а на палубу ставить цистерны, на которых были таблички с указанием: «При температуре воздуха свыше двадцати пяти градусом бросать за борт».
– Вы, молодой человек, не путаете? – спросил Эрастыч у переводчика, который и прочел нам эту надпись.
– Узнайте у капитана.
Но капитану было не до нас. Портовые краны вдруг замерли, прекратили свой визг лебедки, один «паккард» так и повис над трюмом – ни одного грузчика не осталось на погрузке.
– Забастовка, панове, забастовка, – твердил обеспокоенный капитан.
Тоже вот, слово слышали, и вдруг, пожалуйста, забастовка!
– Вы и не представляете себе, что это такое, – говорил капитан. – Это, по меньшей мере, две недели ни одна рука к нашим грузам не прикоснется. А мне по плану за эти две недели нужно сходить в Абердин за шерстью и гусятиной и идти к Бейруту.
– Чем же они недовольны?
– Да не они это именно, а весь профсоюз объявил забастовку – и баста! Солидарность – понимаете?
– Идем, – вдруг сказал Драгоманов переводчику и решительно направился к грузчикам.
– Но я по-немецки ни слова, – пролепетал переводчик.
– Дармоед, – определил его Эрастыч.
Махнул Драгоманов рукой и один спустился на причал. Бригадир грузчиков (он-то и называется стивидор) стоял неподалеку у крана.
– Нихт гут, – ветер донес слова Драгоманова. – Нах Лондон. Пферде! Пферде!
И краны задвигались. «Паккард» пропал в трюме. Палуба ожила. Через час погрузка была окончена. Грузчики попросили только разрешения посмотреть лошадей.
Вместе с ними спустились мы в наш конный ковчег. Вошли они не сразу, а совсем как наши стрелочники, только не снизу, с путей, а сверху, через люк, стали всматриваться в затерянный мир. Потом один за другим стали нащупывать ступени. «О, рейзенд! – раздались басовитые голоса. – Майн херц! Даст ист лебен!»[26]
– Что они говорят? – спросил переводчик.
– А ты не видишь? – сказал Эрастыч, указывая на грузчиков.
Один старался скормить лошадям свой завтрак, другой обхватил жеребенка руками за шею и спрятался лицом в гриве.
– Травить носовой шпринт! – тем временем звучало на судне по радио. – Поднять дек! Корабль выходит в море!
И это был голос самого капитана.
* * *
Волны трясли пароход. Фокин которые сутки подряд не мог принять пищи ни грамма. Вукол Эрастыч с переводчиком непрерывно вспоминали былое – все находились на своих, уже привычных для нас местах, когда вдруг раздалось опять, будто по книге: «Земля!»
– Земля, Панове! – говорил старпом. – Подходим до Альбиону!
Мы побледнели. Сейчас настоящая буря и начнется, когда придет таможня и ветосмотр.
– Что это вы приуныли, панове? – спросил капитан. – Уже ностальгия? Рановато, хотя столь же нормально, как морская болезнь. Но обычно ностальгия начинается через неделю.
– А у нас, – сказал Эрастыч, – как таможня придет, так сразу и начнется.
– Что вам таможня, – отозвался капитан. – Формальность! Вы же не везете контрабандой наркотиков?
– Наш доктор приготовил кое-что покрепче этих жалких наркотиков.
Между тем Драгоманов молча, с лицом суровым и с песней «На рысях на большие дела…» брил переводчика. Потом он стал повязывать ему галстук.
– Вы его женить тут собираетесь? – обратился к нему Эрастыч. – Или же, по православному обычаю, напоследок приодеться решили? Так, вероятно, нам всем надо белье сменить, прежде чем мы все, так сказать, публично… Вы меня понимаете?
Пыхтя, подвалил к нашему борту катер с удивительно блестящими медными поручнями и столь же блистательными улыбками на лицах таможенных чиновников.
Капитан их приветствовал, а они спросили то, что и без перевода понятно:
– Документы на груз?
Тут Драгоманов как с цепи спустил бритого и при галстуке переводчика. Принял этот малый примерно в тридцать, а с поворота пустил вовсю – так чесал он языком. На финишной прямой он уже работал в хлысте. Он и по ребрам бил, и в пах доставал. Он, чувствовалось, лупцует с обеих рук.
– Пушкин, – говорил он, – Шейкс-пир энд Достоевский!
Самый старший из англичан сел к столу и снял фуражку, обнажив поросячье-розовую лысину. Даже в капитанской каюте стало как бы светлее. Другие же, напротив, вытянулись, как на похоронах. Потом старший поднялся и сказал: «Идем!» Опять спустились мы в трюм.
Грузчики Гамбурга лошадей обнимали. Таможенники Лондона встали перед лошадьми на колени.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
После всего Драгоманов мне сказал:
– За это его и держу: слово знает!
Слово я и сам могу сказать, поэтому я поинтересовался у переводчика, чем же это он англичан до слез довел? А он в самом деле подтвердил:
– Главное – найти точное слово. Затем сделать единственно верную фразу. Большую часть можно опустить. Подразумеваемое действует так же сильно, как сказанное…
– Да, – подтвердил Эрастыч, – я такой рецепт знаю, читал. Одна восьмая с водой и со льдом. Но я предпочел бы семь восьмых на глоток воды, а льда вовсе не нужно.
4
Едва мы успели коснуться берега, как нас окружили газетчики. Вопросы были обычные: «Трудно ли выбраться из-под „железного занавеса“?» и «Нравится ли вам „свободный мир“?» Но потом меня попросили поговорить с редактором скакового отдела известного спортивного журнала.
Это был уже немолодой человек, спокойный, семейный, видевший все, что следовало видеть на скачках за последние тридцать лет. Ему достаточно было напомнить, как он уже подхватывал: «Ну да, в последнем повороте Люциано подходил к вам, но вы сделали поразительный рывок». (Это тогда, на Кубок Европы.)
Знаком он был со многими знаменитыми писателями, интересовавшимися скачками, дружил с Хемингуэем, а с Фолкнером даже сотрудничал, составляя отчет о Дерби в Кентукки за 1955 год, когда абсолютный фаворит Нашуа, от Назруллы, ко всеобщему изумлению, проиграл.
В этом человеке самое интересное было – это стремление понять другого. Видно это было хотя бы по тому, что иногда он честно говорил: «Этого понять я не могу».
Он меня спрашивал:
– Как же у вас скачки существуют без рекламы по телевидению?
Я объяснял. Он вздыхал:
– Трудно понять человеку со стороны.
Потом он спросил:
– Почему вы, советский жокей номер один, не приезжали до сих пор в Англию на скачки и сейчас приехали всего лишь на аукцион? Вы же победитель Кубка Европы, призер Вашингтонского Кубка и Триумфальной Арки, но в Эпсоме на Дерби не скакало от вашей страны еще ни одной лошади.
– Дерби – это Дерби. Воспитаем достойного участника – приедем. Но вы же, наверное, знаете, что троеборцы наши удачно выступали в Англии…
– Н-не знаю…
– Как это может быть? Вы же эксперт по скачкам!
– Вот именно! Мое дело скачки, и никаких троеборцев и конкуристов для меня не существует. Друг мой, вы не у себя дома. У нас каждый должен знать свое место. Что, трудно понять это со стороны?
И то же самое у нас с ним получилось, когда попробовал рассказать ему про лошадей, которых мы привезли на продажу. Корреспондент изменился в лице:
– Прошу, больше ни слова об этом. Хорош бы я был, если бы шеф узнал, что я тут с вами беседую о рысаках. Это же наши злейшие враги! Слава богу, их в Жокей-клуб не допускают. Я не понимаю, как вы могли приехать в компании с кучером и призовым наездником.
– Трудно объяснить человеку со стороны.
– О да! Это верно, хотя и грустно.
– А вам можно вопрос? – обратился к нему переводчик.
– Ради бога.
– Хемингуэй какой был?
– С ним было очень трудно, когда он бывал не в духе.
– А Фолкнер?
– Совсем другой. Но и с ним было трудно. Провинциален, болезненно застенчив, что было, конечно, оборотной стороной самолюбия. В скачках ни тот, ни другой не понимали ровным счетом ничего, хотя это не помешало им написать о лошадях прекрасные страницы.
Прощаясь, он сказал:
– Прошу вас, ни слова о том, что мы тут говорили с вами о рысаках.
В это время на дебаркадер прибыл конный автобус с надписью «Лошади Ротшильда». Эрастыч сразу угадал:
– От Веллингтона?
– О, маэстро! – эхом отозвались конюхи.
Тут подбегает какой-то толстяк:
– Вуколка!
Капитан говорит Драгоманову:
– Что я говорил, комендор?
Драгоманов молчит, а Эрастыч восклицает:
– Дядя!
Воняя сигарой и вытирая потный лоб, толстяк стал расспрашивать:
– Ну, Вуколка, как там наша Пальна? Чай, сожгли…
– Зачем же, дядя! Там по-прежнему конный завод, и я сам в нем тренером.
Лицо толстяка переменилось.
– А, стало быть, ты вроде Якова Ивановича.[27] П-предатели! Россию сгубили!
– А вы, дядя, – отвечал Эрастыч совершенно спокойно, – когда после бегов в Яре ночи прожигали и зеркала били, должно быть, спасали ее?
Дядя не ожидал, конечно, что племянник так резко примет и кинет его сразу корпусов на десять.
– Ну, брат, – пробормотал он, – ты, видно, приехал подкованный и по-летнему, и на шипы.
Чувствуя, что не попадает в пейс, толстяк взял на себя и сменил ногу, то есть сделал совсем другое лицо и начал не тем тоном.
– Вуколка, – почти прошептал он, – назови лошадок поприличней и цены, мне тут кое-кому шепнуть надо, за комиссию заплатят, а то ведь жить-то надо старику.
– Нам не жаль, – сказал Эрастыч, – но ведь лошади с молотка пойдут.
– Какая же фирма берет у вас? Васька, что ль, Выжеватов?
И как раз подъехал в автомобиле невысокий, очень гладко выбритый, средних лет человек и хорошо по-русски спросил:
– Что, ребята, укачало?
Наших лошадей сразу же начали выгружать и ставить в скотовозные фургоны с надписью «Wijewatoff».
– Пойдемте, ребята, – сказал хозяин, – по-нашему, по-русски, с дороги…
Приехали мы к нему в дом, он заговорил с женой по-английски, а она, улыбнувшись, сказала:
– Карашо!
Принесли поднос с бутербродиками.
– Эй, Василий Парменыч, – возьми да скажи ему Эрастыч, – это не по-нашему!
– Так, ребята, забыл! – засуетился хозяин. – Все забыл! А вернее сказать, и не знал никогда. Мы в российско-английской торговле со времен Ивана Грозного. Все лес да лен, лес да лен. Потом отец прибавил пшеницу и шерсть. А я вот еще и лошадьми занялся. Но я что, я ведь ровесник революции, мне и года не было, когда мы уехали. Так что и здесь я чужой, и родины я не знаю. Так вот, торгую только.
И опять обратился к жене по-английски, и она принесла еще один поднос.
– Жить, ребята, – сказал Выжеватов, – будете здесь же, у меня на ферме. Я хочу сказать – в хозяйстве. Лошадей слегка подготовим, подработаем и – торги. Работать-то кто будет? Или тренера надо нанимать?
– Какого тренера! – сказал Драгоманов. – У нас одни крэки! Это победитель Кубка Европы, мастер-жокей, а это, вы же, наверное, знаете, – Р.
– А, племянник, – отозвался сразу Выжеватов, – ну, знаете, – с дядей вашим сладу никакого нету. У нас тут, в землячестве, просто беда, или такое вот старичье, или же деписты[28] проклятые, а тоже в «русские» лезут, в «патриоты»! Но ничего, есть и стоящие люди, вы сами увидите!
5
– Ты, Николай, – говорил мне Выжеватов, – не смущайся. Если скучно будет – скажи мне, я тебя па большие скачки свезу. Тут Манчестер рядом и Ливерпуль, тут, брат, все рукой подать. Это вам не Россия. В Эпсоме сейчас по сезону ничего нет, но если ты хочешь турф, то есть круг скаковой, посмотреть, поедем, я свезу.
Но прежде нужно было, конечно, заняться делами. С утра начинали мы работать лошадей, которые за долгую дорогу успели порядочно одичать, а проще говоря, избаловались. У нас был форменный ковчег, конский заповедник, со всевозможными видами лошадей и езды. Фокин с доктором налаживали тройку. Вукол Эрастович приспособил себе в помощники переводчика, который раньше немного занимался в конноспортивной школе, а мы с Драгомановым готовили основное – молодняк на продажу. Сам я садился только на трудных лошадей, строгих и отбойных, а в большинстве ездили местные ребята – выжеватовские дети, которые не все, к сожалению, хорошо говорили по-русски. Но были они, в общем, такие же дети, только вместо «наш» говорили «мой». Но в остальном они как и наши, готовы были торчать на конюшне с утра до вечера и за счастье считали не только что поездить в седле, но хотя бы подержаться за повод.
Все вместе сходились мы иногда только за обедом и вечером, после уборки лошадей. Хотя Выжеватов и говорил: «Отдыхай, ребята, отдыхай, работа не волк, в лес не убежит», но хватка у него была хозяйская, и он следил, чтобы даром корм не проедали. Я бы не сказал, что работали мы больше обычного. Особенность заключалась в том, что работали беспрерывно. Я впервые испытывал это на себе. Прежде, когда мы за рубеж ездили, то мы были предоставлены самим себе и действовали по-своему – наваливались разом, а потом ехали в город. Но Выжеватов не гнал, он только не давал ни минуты сидеть сложа руки. Нередко мы говорим: «Ах, работа нервная!» Но тут было не то. Все время и на месте, однако чувство такое, будто нервы наматываются на ровно и медленно вращающуюся катушку.
– Ну, – вздыхал доктор, – у меня уже началось это, как его, капитан говорил, ностальгия!
– Эксплуататор ты, Василий Парменыч, и больше ничего, – со своей стороны добавлял Эрастыч, – старорежимник!
– Ребята, ребята, – твердил между тем Выжеватов, – кончил дело, гуляй смело, а нам надо всю программу выполнить. Ведь торги на носу!
Ради рекламы до начала торгов назначены были бега и парад реликвий. А еще раньше получили мы приглашение на торжественный прием по этому случаю, и в билетиках было указано: «Просьба быть вовремя и в костюмах для верховой езды». Это тоже для рекламы решено было проехать с особой церемонией по улицам города.
– Нет, – сказал на это Эрастыч, – Вукол Эрастович Р. клоунствовать не станет.
– Брось, – отвечал ему Драгоманов, – просто ты верхом ездить разучился и трусишь.
– Что?! – поднялся наездник-маэстро. – Да я еще в утробе моей матери…
– Про утробу твоей матери и все такое прошлое, – поднялся и Драгоманов, – ты лучше вон кому расскажи! – указал на переводчика.
Страшно побелел Эрастыч. Побелел и Драгоманов. Постояли они друг против друга, а вечером после уборки мы через стенку у конюшни (там же стены дощатые, не как у нас) слышали такой разговор:
– Драгоманов перед вами, разумеется, не прав, – говорил переводчик.
– Видишь ли, – говорил Эрастыч тем самым удивительно спокойным тоном знающего человека, каким объехал он вчистую собственного дядю, – Драгоманов был один раз в жизни передо мной так прав, что больше и требовать нельзя.
Я взглянул на Драгоманова. Хотел бы я и на них посмотреть, как они там, в кучерской, на мешках с овсом устроились. Но Эрастыч, видно, с мешка поднялся, и слышно было также, что щелкнул секундомер. Эта манера наездничья – вечно секундомер при себе держать и щелкать им, будто резвость своей жизни прикидывая.
– Мой отец, – произнес наездник, – прославленный Эраст Вуколыч Р., имел крупный призовой успех. Впрочем, ты это читал.
– Да, – подхватил переводчик, – в двенадцатом году на Полуночной Печали, на Хваленом. А Драгоманов?
– Драгоманов был конюшенным мальчиком у Винкфильда. Винкфильд скакал у Манташева, того, что привоз из Англии Сирокко. С лошадьми Манташев безумствовал. Это и понятно. С бакинской-то нефти голова закружится. На аукционах он любые тысячи давал, а конюшню в Москве отгрохал с мраморными стойлами. Не конюшня, а музей искусств.