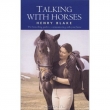Текст книги "Железный посыл"
Автор книги: Дмитрий Урнов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
«Свободно и прямо» – непременное и необъяснимое правило верховой езды. Сидеть в седле надо прямо, стройно, подтянуто, как влитому надо сидеть. Но в то же время не так, будто аршин проглотил, а свободно, как бы между прочим. Сидеть себе, и все.
Мы с тренером вернулись, впрочем, к разговору о пороках знаменитых лошадей. На минуту я представил себе, что сказал бы об этом Вильгельм Вильгельмович. Как он бы сказал! Брови, осанка, рука: «Кр-ровь!» Уж конечно он вспомнил бы Киншем, «чудо из чудес», опровергавшую все выкладки и подсчеты, все «правильные» представления о породе и скаковом классе.
Кобыла, а соперников ей не находилось и среди жеребцов. Эксплуатировали ее на скачках нещадно. Скакала она и двухлеткой и трехлеткой – до пяти лет. Что же будет с ней в заводе? А Киншем дала великолепное потомство. Но главное, разумеется, в том, что за всю историю скачек Киншем была единственной непобедимой лошадью. Бывали крэки, бывали феномены, были и непобедимые бойцы, наводившие страх и ужас на соперников, почти непобедимые, сказать точнее. Потому что, во-первых, многие из них и не встречали на призовой дорожке настоящего сопротивления. Легендарный Рибо, например, был велик – это верно, он остался непобежденным, тоже верно, но ведь выступал он всего семнадцать раз, и с каждым разом соперников у него становилось все меньше, соперники у него оказывались все менее классными. От встреч с Рибо истинные звезды своего времени предпочитали уклониться, зная действительно необычайный класс его и не желая терять своего блеска, своего престижа.
Не так было с Киншем. Напротив, никто не верил своим глазам, никто допустить не хотел, что эта венгерская кобылешка (она была родом из Венгрии) в самом деле крэк, и крэк невиданный. Все упорнее, все страшнее, все класснее становились ее соперники, и все-таки они все… оставались сзади, в побитом поле. Будапешт, Вена, Париж, Гамбург – всюду те, кто скакал с Киншем, только и видели, что пыль из-под ее копыт. Когда же наконец прибыла она в Англию, Мекку конников, против нее выставили Леди Голайтли. Казалось, Леди Голайтли берет верх и континентальная претендентка будет развенчана. Дело в том, что английские ипподромы особенные. Англичане, хотя они в отношении скачек классики, все же народ с причудами. Англичанин в седле видит перед собой игрушечные поля своей «старой доброй Англии», по которым он должен нестись с улюлюканьем и собаками, преодолевая на своем пути все: подъемы, спуски, ручейки, канавы и прежде всего традиционные английские изгороди, разграничивающие эти поля. Ату его! «Полный гон» – так это у них называется. И на ипподромах у них дорожки имеют соответственно подъемы и спуски. Думали, на горе кончится и Киншем. Но взялся за хлыст жокей, впервые, должно быть, за всю карьеру Киншем прибегнул он к этому средству – и «мадьярское чудо» понеслось так, что хотя Леди Голайтли и не пришлось глотать пыли (английские скаковые дорожки – те же газоны), но горькую чашу поражения пришлось гордой британке выпить сполна.
Пятьдесят четыре старта за три года, пятьдесят четыре первых места – такова была карьера Киншем, и такого ни прежде, ни потом не показала ни одна лошадь. Всякий великий когда-нибудь хоть бы раз да проиграл или же захромал до срока, до главных скачек. А Киншем не знала ни хромоты, ни устали, ни поражений. Лишь однажды снизошла она до того, что, придя в Баден-Бадене с другой лошадью голова к голове, разделила первое место. Но не больше того! А ведь тогда, в Большом Баден-Баденском призе, была она жестоко гандикапирована, то есть был ей положен дополнительный вес: на ней, в отличие ото всех остальных, скакал не один человек, а как бы человек с четвертью. И все же взять ее не смогли…
Одно только можно поставить ей в упрек: она умерла слишком рано, а классные лошади, как правило, отличаются еще и долголетием…
– Ну, ребята, – произнес тренер, вставая, – теперь мы с вами сделаем галоп.
Опять сделался он немного торжественным.
– Галоп, – сказал тренер, – труднейший из аллюров. Главное, следите за тем, чтобы лошадь, поднявшись в галоп, шла все время с одной и той же ноги – с правой или с левой.
– А я что-то встал сегодня, кажется, с левой ноги, – вырвалось вдруг у того, кто сидел на Зайце.
– Попрошу без шуток! – возвысил и без того приподнятый голос тренер.
Трудно было в самом деле найти более неподходящий момент для посторонних замечаний: галоп! Но и сам он, на Зайце, почувствовал это и едва усидел в седле, растерявшись от собственной дерзости.
– Крайне важно сохранять на галопе правильную посадку. Сидеть можно по-манежному и по-жокейски.
– Можно как на скачках? – вырвалось у паренька на Пехоте.
– Ты научись сначала повод держать правильно, а потом о скачках будем говорить!
До конца прошлого века в седле только сидели. Скакали, прыгали, ездили манежной ездой, все так же сидя в седле. Потом заметили, что стоит в седле приподняться, привстать на стременах, как лошадь идет быстрее. Это понятно: у лошади облегчается задняя часть корпуса, и толчок задними ногами делается мощнее. Тогда и сели жокеи так, как сидят они и по сей день: пристав на стременах и скорчившись. Такая посадка нужна, когда нужна предельная резвость, а во всех остальных случаях удобнее оставаться на «глубокой» посадке, в седле. Но у ребят в голове шумел, конечно, «вихорь шумный»: каждый мечтал нестись перед трибунами, как бы перед трибунами… Однако прежде чем приподняться над седлом, надо научиться как следует держаться в седле. Так что тренер выбрал тех, кто покрепче, и сказал:
– На Ромашке и на Прибое, поедете по-жокейски. На Пехоте и на Зайце – по-манежному. А ты, – обратился он к тому карапузу, которому он отдал свою лошадь и про которого я совсем забыл, – становись в голову. Поведешь группу.
Действительно, я как-то упустил из поля зрения этого паренька, но стоило мне услышать, что его ставят в голову, и стоило бросить мне на него один взгляд, как я все увидел, все понял. Парень этот сидел на лошади! Всадник! А был вроде бы меньше всех. Но ведь не случайно же именно ему доверил тренер своего коня. Как же я всего этого сразу не приметил!
Мы обменялись с тренером взглядами.
– Да, – отвечал он, – моя надежда. Есть у него чувство лошади.
Карапуз на сером встал в общий круг. Пехота и Заяц нервно теребили поводья, оглядываясь каждую минуту на тренера. Прибой и Ромашка, ни на кого не глядя, уже воображали себя мастерами. А все-таки в самом деле сидел в седле один карапуз! Как это сразу видно и до чего же неуловимо! Ну какая разница, казалось бы…
– Га-ло-пом… Ма-арш! – протянул тренер.
И закачались кони. Они раскланялись, как это вы все, наверное, видели в цирке, по кругу, по плацу, похрапывая.
– Держите дистанцию! – дирижировал тренер. – Не наезжайте друг другу на хвост.
Уж я следил за первым, за серым, за карапузом. Рождение спортсмена! Кем он будет? Новым Кейтоном, вторым Лиловым, Сергея Иваныча[19] затмит? Окажется ли он способным по выездке, станет ли смело прыгать, откроется ли у него понимание пейса, достойное истинного жокея, – это все вопросы будущего, а главное – он уже есть, есть настоящий конник, этот складный комочек на спине у лошади.
– Ша-агом, – запел тренер.
И кони прежде своих увлекшихся всадников выполнили его команду.
3
Уже завершилась заездка молодняка в заводе, и по конюшням стояли пусть юные, но уже готовые к тренингу лошади. На молодых лошадях вес требуется необычайно легкий. «Штатных» мальчишек нам не хватало, и я попросил у тренера:
– Слушай, дай ты мне своего Пигота! Как ты думаешь, усидит он?
– Малый с будущим, – отозвался тренер.
– Так пришли его завтра с утра на тренерскую.
– Ему ведь в школу нужно.
– Ах ты, черт…
Но с утра все равно бы ничего не получилось: меня вдруг вызвал директор.
– Уж извини, – обратился он ко мне без предисловий, – прости…
Я, конечно, не сразу сообразил, в чем передо мной мог провиниться директор. А он продолжал:
– Прости меня, Николай, за лошадей, что я тебе тогда говорил.
И пока я раздумывал, что же это он так, вдруг, директор сам раскрыл карты.
– К нам гости едут, – сказал он, – завод смотреть. И уж гости!
Он подал мне бумагу со списком. Я прочел имена, какие обычно видим на первых страницах газет.
– Прошу тебя по-человечески помочь. Надо организовать показ…
– Выводку?
– Исключительно выводку, если это так у вас называется.
– По какому ранжиру?
– Чего?
– Я спрашиваю, выводить как будем, по полному ранжиру или…
Но «или» привело директора в ужас.
– По полному! Исключительно по полному! Что ты! Для таких-то гостей! Надо же, лошадей едут смотреть, исключительно лошадей. Я думал, списывать их пора или так, в расход. Нет, говорят: будут ответственные товарищи, приготовьте лошадей. Я думал, ослышался. Свиней, говорю, или, может, отары?.. У вас там, отвечают, разве свиноферма? Овцесовхоз? Нет, говорю, но… Так и показывайте лошадей, говорят. Надо же! Подумать только, называется конный завод, значит, лошади. Мне, я тебе доложу со всей откровенностью, это исключительно никогда в голову не приходило. За лошадей меня уж который год никто и не спрашивает. Спрашивают яйцо, шерсть, молоко… И вдруг спрашивают: «У вас там конный завод?» Да, говорю, конный… Вот времена! Так что давай уж по полному, исключительно по полному… как ты говоришь?.. ранжиру покажем.
– По полному ранжиру, – отвечал тогда я, – выводятся лошади все до одной, включая больных и калек. Так лошадей показывают при ветеринарных инспекциях.
– Что же тогда делать, если не по полному? – спросил упавшим голосом директор. – Зачем же калек?
– А при особых посещениях устраивается ранжир малый, на выбор. Выводятся лучшие. Показывают производителей, и то не всех, а наиболее картинных, по себе эффектных, выводятся матки с жеребятами, потом…
– Ладно, ладно, – вздохнул директор, – я теперь на все готов. Сейчас Шкурат подойдет, и вы с ним исключительно договоритесь.
Явился Шкурат, и мы принялись составлять ранжир. С кого начинать?
Раньше само собой было ясно: выводку открывал Блыскучий. Один, без конюхов, даже без поводьев и уздечки, выбегал он на выводную площадку. Музыка мягко играла «С неба полуденного…». Конь-ветеран вылетал стремительно и останавливался в центре. Он сам знал, как надо встать. Выгибал шею, раздувал ноздри, настраивал уши, глаза горели, – конь как бы прислушивался к музыке. Потом, поймав такт, двигался с места по кругу. Все быстрее, быстрее, словно по заказу играя каждым мускулом, золотистый красавец набирал ход. И вдруг опять вылетал в центр и окончательно замирал монументом. «Смотрите, о, смотрите, что значит чистокровная лошадь!» – своим видом обращался он к зрителям, и все, кто ни смотрел, теряли головы. Будь то хотя бы отдыхающие соседнего санатория и вообще профаны, будь то ни больше и ни меньше буденновцы или даже сам маршал, всех решительно и нестерпимо поражало это зрелище.
Но Блыскучего больше не было. Пришлось нам со Шкуратом покопаться в памяти, выискивая приемы выводчиков-классиков.
– Белые кобылы на бархате хорошо смотрятся, – прохрипел Шкурат. – Поставить на красном ковре гнездо светлых маток от Лукавого.
– Не пойдет, это ампир. Нам энергичнее надо начать, по-современному.
– Да, да, – оживился директор, умолкнувший на то время, пока говорили мы со Шкуратом на своем языке, – исключительно по-современному. Я бы, например, продемонстрировал парочку бычков.
– Ну, нет, – захрипел Шкурат, – на этот раз бычков не будет! – Начальник конной части аж налился кровью.
– Понимал бы ты в бычках! – ответил ему директор, но все же замолчал, вспомнив, видимо, что тут не скотный двор, а конный завод.
Следом за выводкой нужно было устроить конные игры и, конечно, катание.
– Подадим тачанки, – сказал Шкурат.
– И повезем в отары, – подхватил директор.
– Нет, – отрезал Шкурат, – поедем в табуны. Спустим с гор два табуна до первой балки, а сами туда на тачанках подымемся. Вдоль табунов проезд восьмеркой и полуаллюром домой.
Директора просто поражало наше знание наперед, что и как делать.
– А может, козлодрание устроить? – раздумывая вслух, произнес Шкурат.
Тут мы с ним оба глубоко задумались. Да, зрелище… Две команды, впрочем, теперь это команды, а раньше аул на аул выезжали верхами в степь. Между ними туша козла. Схватить добычу и примчать в свой лагерь – вот цель! Клубок коней и всадников, борьба, бьются кони, людям остается приложить все умение и отвагу, чтобы удержать добычу и уйти от преследования. Состязание это освящено веками. Во мне самом кровь отзывается, когда слышу я храп, стук копыт, гортанные голоса, понукающие и без того кипящих коней. И даже аромат пыли, да, особенный, вместе с пылью повисающий над всадниками привкус заставляет говорить кровь.
– А если попросить чабанов коп-кари устроить… – проговорил Шкурат, поневоле обратившись тут к директору, потому что чабаны и кое-кто из табунщиков этот спорт знали.
– Ну, нет, – всполошился директор, – людьми я рисковать не могу!
Он видел один раз коп-кари, тоже на празднике, и остался под впечатлением. Тогда бригадиру чабанов Исмаилбекову, первым схватившему козла, голову между лошадьми стиснули, и на седине его виднелась кровь. «Что ты делаешь! – кричал на него директор. – Куда ты, старый, лезешь?» Но семидесятилетний рыцарь ответил, как и всякий бы на его месте сказал: «Алла-иллях-бисмиллях». Значит, возьмет аллах к себе того, кто падет в коп-кари. «Йок-берды-дурака-алла!» – горячился директор, усвоивший, хотя и со страшным выговором, наречие своих чабанов.
– Нет, уж это мы исключительно отменим, – сказал и нам директор. – Лучше решим, где хлеб-соль подносить будем – у конторы или у конюшен?
Кто подносить будет, вопроса не было. – Пантелеевна, старшая сестра Шкурата и вообще старейшая в станице.
– Может, потренировать немного бабку? – осведомился директор. – Не забыла ли она?
– Ты свою бабку тренируй, как бы она чего не забыла, – захрипел Шкурат.
– Ладно, ладно, – отозвался директор, – это я так, я вот к чему: Пантелеевна поднесет, а потом ведь, наверное, мне… Так я…
Он осмотрелся, словно боясь лишних свидетелей, и достал из кармана гимнастерки две бумажки.
– Вот… подготовился я… так, коротенько… Прошу, прослушайте.
Он покраснел. Он побледнел и зачитал чужим голосом:
– «Дорогие товарищи! Уважаемые гости! За истекший период…»
– Нет, – сказал я ему, – говорить надо так: «Движимые прогрессивными идеями, советские конники…»
– А я хотел показатели привести, – растерялся директор, – надой, мясо…
– Показатели ваши и и без того известны. А тут надо слово сказать. Слово о лошади!
– Слово?.. О лошади? – переспросил директор с таким видом, будто дни его сочтены. – Кто же может сказать?
– Я сказал бы, сказал! – вдруг опять налился кровью Шкурат. – Сказал бы все! У меня все записано, каждый шаг…
Тут только заметили мы с директором, что начкон-то пришел груженый, что у него воз тетрадей и каких-то книг, похожих на конторские. Он рассыпал их по столу и начал перед нами раскрывать.
– Каждый шаг, каждый день каждой лошади, – говорил он, и руки у него дрожали, – занесен. День случки, день выжеребки… Когда жеребенок от матери отнят, когда оповожен, когда под седло впервые пошел. Прикидки, призы – все размечено. Учтены породные линии по жеребцам и приплод по маточным семействам. Записана каждая резвая работа и условия все: «Ветер слабый, юго-восточный, дорожка мягкая, влажная, повороты крутые». Это еще на прежнем тренировочном кругу, перед войной…
Трудно передать взгляд, каким смотрел тогда директор на Шкуратовы тетради. Он-то собирался списать этих лошадей, а тут, у него под боком, летопись составлялась и каждое дыханье лошадиное заносилось в какие-то книги судьбы.
– Сказал бы я… все сказал, – хрипел Шкурат, – за сорок лет по линиям, по маточным семействам…
Тут вместе с руками у него задрожали щеки, губы. Показал он себе на горло (астма!) и махнул рукой.
– Всего-то никак не прочтешь, – пробовал успокоить его директор.
– Хорошо, – сказал тогда я, – слово я возьму на себя.
* * *
Облако пыли встало у горизонта, там, где дорога из города исчезала за перевалом. И все же первыми показались не лимузины. Как в кино про «Неуловимых», у грани земли и неба возникли ребята верхами. Одетые казачками, они полетели вниз по обеим сторонам дороги, которая петляла, опускаясь и поднимаясь, и уж следом за кавалькадой, стлавшейся под знаменем, перевалил через гребень первый сверкающий автомобиль. За дорогу машины поседели. Иногда пыль вовсе скрывала их, они, будто подлодки, погружались целиком в бурую пучину.
Ребята летели лихо. На этот случай разрешили им поседлать уж не Пехоту и Зайца. «Только держитесь! Исключительно не упадите, прошу!» – говорил им напутственное слово директор. Но ребята, еще неумелые на манеже, в степи скакали по-свойски, чутье отцов выручало их.
Все пошло по писаному. При въезде гостей встречала шеренга ветеранов в голубых шароварах с красными лампасами и в Георгиевских крестах. У выводной площади ждала с шитым полотенцем Пантелеевна, обрамленная двумя ходячими иконостасами: директор и Шкурат – у каждого на груди почти по пол-Европы.
А потом вышел… пони, шоколадный игрушечный конек. Он шаркнул ножкой, то бишь копытцем, и затряс головой в знак приветствия. На голове у него пылал бант. Пришлось попотеть с этим пузатым дармоедом. Баловень завода, он работы не знал, но «висел на балансе», и списать его было уж никак невозможно. Нашли мы применение ему, только повозиться надо было, прежде чем уразумел он этикет.
Однако не успели растаять улыбки, возникшие при виде конька-горбунка, а на плац уже ломили битюги-тяжеловозы. Мы нарядили их в точности как и пони – так смешнее. После первых реприз, показавших торжество, шутки и силу, явился тренер конноспортивной секции, тоже преобразившийся. Во фраке и цилиндре, он на вороном жеребце заплясал «Барыню», а затем перешел на «испанский шаг».
– Разве это выездка? – раздался возле меня голос одного из ветеранов.
– Что же тебе, отец, не нравится?
– Где у современных выездка? В чем? Мы делали восемнадцать фигур различных, и каких фигур! Галоп на трех ногах, вальс на переду и на заду, крупе, балансе… А теперь и четырех пассажей не наберется! С галопа в рысь перешел – считается фигура. Остановку сделал – еще фигура!..
Разговоры такие я слыхал. Нет, не сравнивать надо, «лучше» или «хуже», а просто знать – «прежде» и «теперь». Мне вот, например, самому было жаль, что парады на Красной площади уже не принимают на лошадях. А почему бы, думал я, не сохранить этого? Пусть бы всякий раз, как прежде, летел командарм перед строем, пусть себе замрут танки, самоходки, ракеты или какие-нибудь еще более современные чудеса перед краснозвездным всадником, – эта минута сделается как бы средоточием времен. Жаль, не делают этого, – так я думал. Ведь я помнил, как готовили коня, того, на котором был принят Парад Победы. Какие чувства тогда были вложены в этого белоснежного Казбека! Наши кудесники выездки, еще той, прежней школы, о которой вздыхал старый казак, создавали из него подвижную картину. Конь был приучен и к шуму, и к грохоту, и к толпе, а выезжен был так, что если бы вместо поводьев прицепить к узде ниточки и посадить в седло ребенка, он выполнил бы всю программу. Но все-таки главный берейтор, мастер выездки, волновался: всадник, кому конь был предназначен, так ни разу не сидел на нем. А день приближался! Берейтор подал рапорт: «Так и так, нынешние начальники – люди штатские, я хочу сказать, верховой езды не знают, и если произойдет падение или какая-нибудь заминка, ответственность с себя я вынужден буду снять» и т. д. и т. п. Командующий сразу приехал. «Нет, – говорит, – я, надеюсь, усижу! Ведь я, в сущности, кавалерист, специальное училище кончал». И правда, он сел в седло, сел по-настоящему. Ведь человека, который ездит, то есть знает верховую езду, определить можно, когда он еще только приближается к лошади. Разбирая поводья и берясь за стремя, командующий не сделал ни одного лишнего движения, хотя чувствовалась некоторая суетливость, что означало, впрочем, всего лишь длительное отсутствие практики езды. Однако он скоро освоился, и уж по одному тому, что не помчался сразу по манежу, как обычно делают люди, где-то и как-то ездившие и желающие показать себя знатоками и только обнаруживающие невежество свое, нет, всадник профессионально попробовал прежде всего, как конь принимает повод и сдает в затылке. Ну, это уж конь умел! «Спасибо», – сказал командующий. Спешившись, он и погладил коня умело, потому что ведь коня погладить – это не кошку за ухом чесать. Между лошадью и всадником ничего лишнего быть не должно, никаких таких «чувств»: хлопнул пару раз по шее, плотно и определенно, дал понять, что хорошо и на сегодня довольно, – так это всадник и выполнил. Берейтор наш вздохнул свободнее. А наутро весь мир следил за движениями белого коня… Вспоминая, что все мы тогда, глядя на того коня, чувствовали, я и думал: почему бы и теперь не принимать парадов на коне? А потому нельзя, что «теперь» – это не «прежде», все равно ничего не получится! Что было, то было, а если нам это и кажется, будто еще есть, то лишь в нашей памяти, а память наша просто нас обманывает: подними по желанию старого вахмистра его однополчан из-под земли, пусть делают они свои восемнадцать фигур, а мы-то увидим не фигуры, не блеск, а массу мелочей, тогда и не замечавшихся, они, эти мелочи, а не фигуры, станут резать нам глаза и вылезать на первый план. Это время. Другое дело, что нынешняя выездка действительно сделалась какой-то вымороченной, и я…
– Николай, – раздался вдруг возле меня голос директора вместе со звоном медалей на груди его, – сейчас дончаки идут, а следом твои, чистокровные…
С крутыми загривками, сбитые и упрямые, норовом под стать хозяевам своим, затопотали по конюшенному коридору жеребцы донской породы.
– Готовьте Сапфира, – сказал я тогда конюхам.
Мы работали на контрасте. «Держите крепче», – велел я ребятам, повисшим у игреневого жеребца на поводьях с обеих сторон, и щелкнул у него за спиной бичом. Он рванул из конюшни, конюхи, едва касаясь земли, летели вместе с ним по воздуху, и весь этот оживший Клодт вызвал общее «О-о!» у публики, что и нужно нам было. А следом, напротив, очень медленно, с достоинством, как бы в контрритме против общего порыва, как учил меня еще Почуев проходить после победы перед трибунами, вышел человек в жокейской форме – камзол голубой, лента красная, картуз зеленый.
– Чистокровных лошадей демонстрирует мастер международной категории Николай Насибов, – слышно мне было, как сказали человеку, сидевшему в центре группы.
– Николай Насибович, – обратился ко мне человек, сидевший в самом центре и, пожалуй, в наиболее скаковых формах, – вы показываете чистокровных, но разве другие лошади, которых мы видели, не чистой крови?
Развеяв это обычное заблуждение относительно слова «чистокровный», я указал, в частности, что чистокровная скаковая порода, называемая для краткости чистокровной и пошедшая по всему миру от англичан, имела трех прародителей, вывезенных с Востока. Из них один, звавшийся Араб, напоминал сложением, в особенности очертаниями головы и шеи, туркменского ахалтекинца. Таким образом, эта резвейшая порода несет в себе, возможно, и кровь наших лошадей.
– Возможно? – переспросили меня. – Нельзя ли точнее?
Осветив в общих чертах тип скаковой лошади, я перешел к вопросам управления.
– В чем состоит искусство управления? – говорил я. – Мягкость рук, а вместе с тем твердая воля, передаваемая едва заметно, однако последовательно, чувство равновесия и вообще чутье, позволяющее не просчитаться в решительную минуту и спросить с коня именно столько, на что он способен, – вот идеал человека, прочно сидящего в седле и знающего свое дело.
Тут уж меня выслушали, не проронив ни слова. Тогда я сказал:
– Куда бы ни приезжали советские конники, – и взглянул на министра, который был тут же, во втором ряду, и уж не мог меня остановить, а только при этих моих словах опустил глаза, – они несут прогрессивные идеи. Однако в спорте дело решает все-таки финиш. Передовые идеи лучше всего утверждать победой над соперниками. Мы не без успеха выступали в крупнейших призах мира, занимая почетные места. Но чтобы победить, нужно освежить кровь, нужен жеребец!
– Сколько же такой жеребец стоит? – спросил меня все тот же человек в центре.
Набрав дыхание, я отчеканил:
– Зависит от класса. И десятки, и сотни тысяч… Миллионы.
Среди гостей поднялся ропот.
– Что ж, подход вполне классовый, – улыбнулся между тем человек в центре.
* * *
Меня вскоре опять вызвал директор:
– Ты можешь мне сказать, куда идет жизнь?
– Жизнь идет вперед, товарищ директор.
– Не-ет, раньше я понимал: овца, мясо, молоко. А теперь говорят: лошадей! В спорт лошадей дай! На колбасу – опять лошадей! Я нашел, дал, послали итальянцам и французам состав мясных лошадей. Еще давай, говорят. А те куда ж девались? Уже съели, говорят. Так скоро?! И что же ты думаешь? В самые высшие сорта колбасы идет до семидесяти пяти процентов конины. Вот и давай! Теперь ты эту кашу заварил, с покупкой жеребца… Говорят, действуйте, но изыскивайте собственные ресурсы. Торгуйте лошадьми! На колбасу дай, в спортшколу дай, на экспорт дай – и все лошадей! Что же это происходит, я тебя спрашиваю?
Он прошелся по кабинету, вдоль стены, где висели выцветшие и пыльные фотографии лошадей.
– У меня голова не справляется, – продолжал директор, – исключительно не справляется! Голова, а не что-нибудь! Ты вообрази телегу, запряги в нее реактивный мотор и поезжай, да еще по ухабам, – вот это будет тебе моя голова сейчас.
Он все ходил вдоль стены.
– Да нам с Драгомановым на покой пора.
– Почему же? Драгоманов каждое утро верхом скачет, в бане парится…
– Бодрится! В теле призовом себя держит. Это понятно. Но колесики, винтики, – он постучал себя по лбу, – другие уже требуются. Ты слышал: «Точнее! Меньше фантазировать! Смотрите на факты!» А мы с ним как привыкли: упросил, нажал… Все ухватки у нас такие, что без фантазии не обойдешься. На фантазии, на мечте мы замешены, а теперь вот, – посучил он большим и указательным пальцами правой руки, – одни цифры подавай.
Он сел за стол и вздохнул.
– Ладно, я тебя что прошу: поднимись в табуны и отбери на продажу молодняк. Шкурат за эти дни так переволновался, что в больницу свезли. А кроме того, ты сам все это начал, и тебе же торговать ими придется. Так что давай! Машина тебе нужна? На чем в горы поедешь?
4
– Ну, едем в табуны со мной! – сказал я этому карапузу.
– Прямо в трусах? – раздалось в ответ.
Я застал его на заборе, на изгороди вдоль загона: он сидел в одних трусах на перекладине и, по-моему, воображал себя «великолепной семеркой».
Выехали мы на другой день утром. По узкой тропе лошади шли рядом, конь о конь, но стремена наши друг о друга все-таки не позвякивали, как хотелось моему спутнику, чтобы больше походить на «великолепную семерку», – длина стремян у нас слишком разная. По мере того как подымались мы над заводом, из-за гребня показывались все новые и новые солнечные лучи. Скала Чертов Палец, торчавшая прямо напротив центральной усадьбы, вся целиком так и отпечаталась на земле ясной тенью. Кони с удовольствием пофыркивали, освежая ноздри прохладным влажным воздухом, но сразу было видно, что это бывалые горные ездовые лошади. Сплошная сила и энергия, они, однако, не приплясывали, не играли, не занимались ребячеством, как это свойственно скаковым лошадям, они знали, что впереди путь долгий и все на подъем да на подъем.
Поднимаясь, дорога поворачивала так, будто нам специально показывали окрестности, то освещенные солнцем, то в тени. На одном из подъемов я оглянулся и даже вздрогнул. Что за сказка? Или это не в горы мы заехали, а на пятьдесят лет назад – на машине времени? Внизу, на большак, выходила красная конница. Краснели верхи кубанок. Белели башлыки. Сверкали самые настоящие газыри (футляры с порохом у всадников на груди). Всадников было не так много, примерно эскадрон, человек сорок. За ними ехала тачанка. Потом – кухня. Всадники были, видно, совсем зеленые. Но сзади, как и полагается, ехал самый настоящий, бывалый вахмистр.
– Что это? – спросил я своего спутника, удивляясь прежде всего, как это он, готовый не то что на любой кляче, но и на палочке верхом поездить, не в этой краснозвездной колонне!
– Каникулы, – отвечал карапуз.
Потом через силу добавил:
– Кавалерийский пробег.
И покраснел.
– А ты что же с ними не поехал? Не взяли?
Не отвечая, покраснел еще больше, а я, все понимая сам – третья четверть, неуспеваемость! – спросил только:
– По каким же предметам?
– Русский и математика.
– Нехорошо, брат! Всадник должен знать свой родной язык.
У въезда в ущелье Любви и Разлуки (когда-то два верных сердца вынуждены были здесь оставить друг друга) мы обогнали еще одного всадника. Он поил коня у Водопада Слез. Но как только конь его, насытившись, вскинул голову и он зауздал его и поехал, то сразу оказался впереди нас, шедших обычным шагом. Конь его шел тропотой, или, как еще говорят, проездом, особым ходом, не шагом и не рысью, а спорой и быстрой побежкой, удобной в горах.
– День будет добрый, – вдруг обернувшись, сказал нам всадник.
– А почему?
Он указал плеткой вверх.
– Гуд-Гора открыта.[20]
Значит, там, с пастбищ, увидим весь хребет. У нас седла были спортивные, а новый наш знакомый сидел на казачьем, с подушками. Удобно расположившись, как в кресле, он обернулся к нам и так большей частью ехал, а лошадь его сама с уверенностью выбирала дорогу.
– Метры новые в Москве проложили? – спросил он.
– Какие метры?
– А под землей.
– Метро?
– Вот-вот, я все собираюсь в Москву съездить.
– Давно последний раз были?
– Я не был. Сколько живу, а в столичных городах пока не бывал. Выше Ростова к северу не поднимался. А вы далеко?
– На Хасаут.
– Там полукровные жеребчики у нас.
– Жеребчики нам и нужны.
– Мы спортсмены верховой езды, – отвечал мальчик.
– А я фельдшер. В пятом табуне что-то порядочно кобыл абортировало, так я проверять еду.
– Говорят, роса утренняя на аборты у лошадей влияет.
– Да, так говорят, но то роса августовская.
Солнце вспыхнуло прямо при выходе из ущелья, и перед нами, насколько хватал глаз, развернулось плато – зелень и золотце, от лучей золотце. Коршуны, занимавшие столбы, кочки и вообще все сколько-нибудь подходящие для наблюдения пункты, стали перелетать с места на место чуть ли не под носом у нас, будто желая проследить, куда же это мы направляемся.
– Орел! – крикнул мальчик.
Властелин гор, впрочем, не парил в вышине, а тоже сидел всего-навсего метрах в ста пятидесяти от дороги. Но разглядеть можно было, насколько у него вид озабоченный.