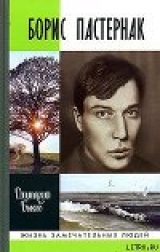
Текст книги "Борис Пастернак"
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
(«безукоризненное ничтожество, один из космополитических бездельников богачей, с большим поясом на животе, с панамой, автомобилем и всенародными формами движений развитого животного, которые зовутся у этих людей «культурой»»).
Этот человек заявил ей – «в автомобиле», что, кажется, особенно взбесило Пастернака,—
«что без дальних слов она должна стать его женой. Рассказывая об этом… она употребила бесподобное выражение: «Потом он приходил ко мне, плакал, терялся… и мне так же точно (!) приходилось утешать его…» Ты понимаешь, Шура, это значит, ее «мой бедный мальчик» – было уже неоднократно примененным средством в нужде… И я был тоже противным, далеким, домогающимся… Я думал, меня излечит эта редкая оговорка. Стало еще хуже. Какое-то странное, роковое чудо выслеживает меня; и даже в Жоне мне мерещились его чужие, недружелюбные глаза…»
Жоня – сестра Пастернака Жозефина, двенадцатилетняя девочка, которую он нашел очень выросшей и в которой увидел настоящее, не высокомерное сострадание: «Бедный Боря, ты запутался… Неужели ты стал таким, как все?!»
Что до рокового чуда – ему еще только предстояло научиться с ним жить: он и в самом деле был непонятен заурядным людям и тщетно искал у них любви и сострадания. Надо было, по-набоковски говоря, обращаться к «существам, подобным ему»,– но их-то вокруг и не было: ни киссингенская, ни даже марбургская среда не благоприятствовала поэтам. Только с творцами – со Скрябиным, иногда с отцом – он достигал взаимопонимания; прочие недоуменно на него косились.
Идеализировать Иду он еще какое-то время продолжал, и даже не без убедительности:
«Она так просто несчастна – так несостоятельна в жизни – и так одарена; – у нее так очевидно похищена та судьба, которую предполагает ее душа,– она, словом, так несчастлива,– что меня подмывало какою-то тоской, и мне хотелось пожелать ей счастья…»
Тут неточно только одно слово: на самом деле у нее похищена судьба, которую предполагает ее внешность. Душа там вряд ли что-то могла предполагать – она была, как уже сказано, «темна»; а внешность была прелестная, романтическая, и Ида не могла не чувствовать диссонанса между своею трагической наружностью и безнадежно мещанской душой. Отсюда и ее частые слезы, и вечная задумчивость. Впрочем, скоро она начала дурнеть, и диссонанс устранился.
Пастернак выдумал – для себя ли, для Штиха – любопытную мотивировку прощания с Когеном: «Я гнушаюсь тем трудом, которого не знает, не замечает, в котором не нуждается женственность». Девушки не любят – а потому прощай философия? Такое объяснение было бы непозволительно плоским, ибо «женственность» у Пастернака – то вечно-трепещущее, непостижимое и недостижимое, что правильнее было бы назвать тайной основой мира, его сутью (о нежности как основе всего он напишет в том же письме к Штиху). Этой женственности, к которой он всю жизнь только и стремится,– внятно только искусство: оно единственный язык для общения с ней. Вот почему философия кажется ему безнадежно скудной. Утром 14 июля пришла та самая открытка от Когена, которую он в «Охранной грамоте» переместил на месяц назад: Коген звал его к себе на обед, как раз на четырнадцатое, проведенное в Киссингене. Вернувшись в Марбург, 15 июля Пастернак встретил профессора возле парикмахерской, извинился за свое отсутствие и объяснил его. Коген спросил, что он думает делать дальше. Пастернак туманно ответил, что, вероятно, вернется в Россию, экстерном сдаст экзамены… возможно, закончит оставленный им юридический курс, будет искать юридической практики… Коген искренне удивился: зачем? Ведь перед ним прекрасная ученая карьера здесь, в Германии! «Aber sie machen doch das dalles sehr gur, sehr shon»[2]2
Правильно будет: «Aber Sie machen doch das alles sehr gut, sehr schön» (нем.)
[Закрыть] – «Ведь вам все удается хорошо и даже отлично». Пастернак не мог сказать ему того, что вскоре написал Штиху:
«Мне бесконечно милее (сравнение вообще невозможно) эта карающая рука, это не желающее меня искусство – чем рукопожатие осьминога. О нет, не осьминога!»
– оговаривается он тут же, называя Когена сверхчеловеком и всячески подчеркивая честь, которую этот сверхчеловек ему оказал,– но выбор сделан, да, собственно, уже и 11 июля он писал все тому же другу, избалованному непрерывным потоком пастернаковских писем:
«Боже, как успешна эта поездка в Марбург! Но я бросаю все; – искусство, и больше ничего!»
Последние дни в Марбурге он доживал в бездеятельной мечтательности, прощаясь со всей долитературной жизнью. Леонид Пастернак по-своему объяснял себе отказ сына от философской карьеры:
«Кажется, Коген у тебя потерял в обаянии – раз он тебя признает и одобряет. Для меня не нова и эта твоя метаморфоза».
Отец понимал сына – тому действительно было неинтересно все, что легко получается; против ожиданий, Леонид Осипович сочувственно отнесся к «метаморфозе». 23 июля он посетил сына в Марбурге, был с ним на лекции Когена и остался жестоко разочарован. Ему померещились в старике кокетство и ломание. Позировать Коген отказался («Вы узнаете все мои слабости»), Леонид Пастернак сделал с него несколько набросков во время лекции и потом литографию. На следующий день они с Борисом поехали в Кассель осматривать местную картинную галерею, знаменитую коллекцией Рембрандта,– и искусство, как всегда, исцелило обоих: день, начавшийся раздражением и мигренью, закончился общими восторгами и полным взаимопониманием. Штиху Борис писал:
«У меня золотой отец, совершенно не испорченный тем, что ему уже не 18 лет. (…) Другой бы приводил доводы здравого смысла, а он вместо этого соглашался со мной: тебе, говорит, надо все это стряхнуть… не стать же тебе в самом деле этим синтетическим жидом, за тридевять земель отстоящим от сумерек и легенд искусства…»
Надо было дождаться конца семестра – в Марбурге он заканчивался 1 августа; Пастернак получил свидетельство о прохождении курса и отправился с приятелями отмечать радостное событие. 3 августа, во время пирушки в опустевшем философском кафе они вдруг предложили ему ехать в Италию – и Пастернак, легко пьяневший и подхваченный волной дружеского энтузиазма, немедленно согласился. «Все это носило характер студенческого задушевного чудачества»,– писал он об этом пятнадцать лет спустя своей многолетней корреспондентке Раисе Ломоносовой; и авантюры, добавим мы, ибо денег у него было в обрез. Матвей Горбунков, марбургский приятель, убеждал его непременно рискнуть и все-таки повидать Италию, он сам много поездил по свету и обходился копеечными расходами,– Пастернак ему поверил и не раскаялся. Поезд отходил в три часа утра, и в брезжущей полумгле летнего рассвета город с горой, замком и церковью едва проступал. Пастернаку суждено было вернуться сюда одиннадцать лет спустя – «прошли года, прошли дожди событий» – в последний раз.
Через Базель он приехал в Милан, которого почти не заметил (запомнил только собор, бегло осмотренный во время пересадки, да еще дамбу, через которую перехлестывали волны; по ней шел поезд, вода доставала до колес, и ветер свистел). Перед самым Миланом пришлось пересаживаться в другой поезд – стоявший впереди; дорогу завалило камнями. Через этот обвал Пастернак перебирался вместе с другими пассажирами, а вещи его нес маленький пастух-итальянец. Обвал, только снежный, преградит потом путь поезду, в котором Живаго с семьей поедет на Урал. Вообще путешествие по железной дороге, от недосыпа показавшееся очень долгим, почти целиком перешло в главный роман – там читатель найдет и водопад, который Пастернак проехал близ Базеля. Два самых длинных его железнодорожных путешествия – в Италию и с Урала – сольются в одно, к ним добавится воспоминание о двух поездках к Елене Виноград в семнадцатом году, о кружных возвращениях, о ночных степях,– и железная дорога окончательно утвердится в качестве романного лейтмотива, пронизав собою все действие: герой все едет куда-то помимо воли, в полусне, бесконечно… а в конце бредет по шпалам… и никуда с этого пути не сойдешь: предначертание.
5 августа ему предстала Венеция. В ней он пробыл неделю, живя не аскетически уже, а почти нищенски. Это была его единственная Венеция и вообще единственная в жизни Италия – как, кстати, у Мандельштама,– но в круге венецианских впечатлений он пробыл долго. Достаточно сказать, что стихотворение о ней он пятнадцать лет спустя переделал (и значительно улучшил, что вообще в его практике редкость – он сам признавался, что написанная вещь для него как бы «отживает», и снова войти в ее настроение трудно); в «Грамоте» о Венеции сказано подробно и проникновенно. Главное же – здесь много ключевых для Пастернака слов и красок, на которые «Охранная грамота» вообще щедра.
«Есть особый елочный Восток, Восток прерафаэлитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений».
Тем самым Венеция у Пастернака включена в круг рождественских явлений – и ее колоритом отчасти подсказана будущая палитра «Рождественской звезды»: Рождество – музыкальный и трагический праздник, вокруг которого мысль Пастернака летала, как бабочка вокруг керосинки на летней веранде. Восток стилизованный, прерафаэлитский, синий и звездный, Восток «Тысячи и одной ночи», минаретов, базаров – тоже входит в его представление о Рождестве, и все это увязывается в один причудливый узел: русская зима, райское отрочество, детский праздник, влюбленность, Христос, волхвы. «Масленисто-черная вода вспыхивала снежной пылью». В этом органическом сплаве все на месте – и потому никого не смущает, что волхвы в «Рождественской звезде» бредут по русскому снежному полю (это в пустыне-то!), а рядом – «погост и небо над кладбищем, полное звезд», и надеты на пастухах шубы.
Опять-таки в Венеции не обошлось без эффектных ходов и сказочных совпадений: гостиницу, куда Пастернака согласились пустить, ему указал странно знакомый человек, похожий на кельнера из марбургского философского кафе. Хозяином гостиницы оказался добродушный усач с внешностью разбойника – в описании Пастернака это чуть ли не оперный персонаж. Есть нечто мистическое и в той картине Венеции, которую Пастернак рисует в «Охранной грамоте» – не без дальнего умысла, конечно: он сам подчеркивает, что «тогда» воспринимал Венецию иначе, больше думал об искусстве, нежели о государстве. Его занимали союз гуманизма и христианства, встреча язычества и церкви, синтез духовного и светского, называющийся Возрождением. Но в «Грамоте» Венеция предстает еще и как город, в котором исчезают люди – и за всем следят каменные львы, символы государства:
«Кругом – львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие,– львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. (…) Все это чувствуют, все это терпят».
В готически-мрачном – а может, и не готическом, а просто зловонном тридцатом году – это было понятно каждому, и размышления о том, что выводило из себя венецианских гениев, рифмовались с третьей частью «Грамоты» – где речь шла о гибели Маяковского и о последнем годе поэта вообще.
Конечно, двадцатидвухлетний Пастернак понятия не имел о Большом Терроре, о сотнях глаз, следящих за тобой повсюду, об ощущениях человека, живущего в постоянной близости голодных львов… В стихотворении о Венеции он писал о другом – о счастливом отчуждении от собственного «я», о том, что «Очам и снам моим просторней сновать в туманах без меня». Вся Венеция – «Руки не ведавший аккорд», пример нерукотворного чуда. В более поздней редакции он попытается написать точнее – но и более сниженно: «Размокшей каменной баранкой внизу Венеция плыла». Образ точен и мгновенно запоминается – но тогда он еще так не умел.
Из Венеции он отправился к родителям в Марину ди Пизу. Туда же приехала Ольга Фрейденберг – в тайной надежде встретиться с ним и договорить недосказанное, но он держался на расстоянии: лазил в путеводитель, тщательнейшим образом осматривал галереи, на отвлеченные темы не разговаривал и вообще выглядел занудой. Ольга скоро отправилась обратно в Швейцарию, а он два дня спустя – в Россию, куда и прибыл 25 августа 1912 года. Это был прыжок уже в старый стиль – на тринадцать дней назад. С собой он привез тетрадь стихов, и некоторые из них уже обещают гения.
И дождь стоит, и думает без шапки,
С грустящей степью, степью за плечами,
А солнце ставит дни, как ставят бабки,
Чтобы сбивать их грязными лучами.
4
В Москве была теплынь, родные еще не вернулись, он застал край своего любимого городского лета.
«Когда я возвращался из-за границы, было столетье Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. (…) Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствованья – равнодушьем к родной истории».
После конца царствованья в этом смысле мало что изменилось.
Штих жил в Спасском, Пастернак его там навестил и впервые прочел ему «Как бронзовой золой жаровень» – стихотворение, впоследствии неизменно включавшееся им в основной корпус текстов:
Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень,
Миры расцветшие висят.
И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,
Где тихо шествующей тайны
Меж яблонь пепельный прибой,
Где ты над всем, как помост свайный,
И даже небо – под тобой.
Потом он третью строфу переписал – ушла гордыня, но ушло и ощущение богоравенства, так что смысл несколько выхолостился («Где сад висит постройкой свайной и держит небо пред собой» – более внятный, но и менее волшебный вариант 1928 года). Штих записал стихи со слуха и хранил листок всю жизнь.
Осенью Пастернак возобновил университетские занятия; в этом ему помогли три сверстника – Сергей Мансуров, Дмитрий Самарин и Николай Трубецкой. Всех троих Пастернак до этого знал, по собственному выражению, «наслышкой» – мельком видел в Пятой гимназии: «они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома» («Люди и положения»). Этот маленький кружок был крайне своеобразен: Самарин приходился внучатым племянником известному славянофилу (в чьем имении – вечные пастернаковские сближения!– впоследствии устроят детский туберкулезный санаторий, в двух шагах от писательского поселка Переделкино). Филолог Трубецкой стал впоследствии видным структуралистом, а историк Мансуров – православным священником. Всех троих сближало своеобразно понятое почвенничество, которому вплоть до сороковых годов оставался верен и Пастернак: это был обостренный интерес к отечественной истории, к православию – и вера в особое русское предназначение. В Самарине, изредка забредавшем на философские семинарии, Пастернак сразу почувствовал то, что называется породой,– наследственное право на историю и философию, все это в сочетании с благородным грассированием его пленило. Именно Самарин в феврале 1912 года впервые рассказал ему о сказочном готическом Марбурге. Общение с Самариным, Мансуровым и Трубецким заложило основы пастернаковского славянофильства – далекого от официозности и обрядности, как и его вера; в основе этого мировозрения – вера в исключительные возможности и неисчерпаемые жизненные силы России, в то, что только здесь возможны истинное свободомыслие (всегда подавляемое, а оттого особенно отважное) и небывалый творческий взлет, на пороге которого страна и стоит. Все это было одинаково далеко от ортодоксального государственничества в духе Победоносцева и от романтических мазохистских крайностей Константина Леонтьева,– ближе к религиозным идеям Сергея Трубецкого, Флоренского, Ильина. Да и не в идеях дело – все трое были чистыми молодыми людьми, идеалистами, книжниками, дворянами; Пастернак вчуже любил дворянство так же, как русскую усадебную прозу. В них для него была живая история.
Он отделился от семьи, снял комнату в Лебяжьем переулке, давал уроки, много занимался историей и читал символистов. На столе в крошечной комнатке в Лебяжьем всегда лежало Евангелие.
Пастернак заходил и к Анисимовым, тоже недавно вернувшимся из Италии; у них снова встретился с Бобровым, мечтавшим о собственном издательстве. Анисимовы и Локс, в видах дешевизны, вместе снимали квартиру на Молчановке. В этом кругу к стихам Пастернака относились скептически – один Локс не сомневался в его даровании да еще Дурылин, изредка посещавший кружок.
Осенью 1912 года на Молчановке был задуман альманах «Лирика», ставший первой книгой одноименного издательства (издательства в то десятилетие, по воспоминаниям самого Пастернака, плодились, как грибы). В круг его участников, помимо уже сложившейся троицы «Асеев – Бобров – Пастернак», вошли Анисимов с женой, Дурылин (под псевдонимом «Раевский»), а также не оставившие заметного следа в литературе Рубанович и Сидоров. У Боброва в январе успела выйти книжечка «Вертоградари над лозами», почти никем не замеченная; на «Лирику» возлагались особые надежды – все-таки о себе заявляло целое направление, хотя и ничем, кроме дружества, не спаянное.
Пять стихотворений, которыми Пастернак дебютировал в печати («Февраль», «Сегодня мы исполним грусть его», «Сумерки», «Я в мысль глухую о себе» и «Как бронзовой золой жаровень»), были отобраны Бобровым. Они обещают все и ничего – автор настолько оригинален, что может увянуть в первые же годы, столкнувшись с непониманием или попросту иссякнув, а может утвердить свою правоту в искусстве и развиться в несравненного, хотя и неровного поэта. Это теперь все мы знаем, что с Пастернаком произошло второе,– а тогда куда более вероятной и, главное, распространенной участью казалось первое. Стихи эти несомненно выделяются из прочих, составивших альманах,– но уж никак не уровнем: они и у раннего Пастернака не из самых сильных. Бобров отбирал то, что ему было ближе,– самое оригинальное и вызывающее, а не самое точное. Со временем понимаешь, что главная черта, выделяющая Пастернака из числа авторов «Лирики»,– именно цельность. Все его стихи хранят отпечаток личности и похожи друг на друга – экспрессионистическим буйством, несколько уязвленной, словно пассивной авторской позицией (автор – не действователь, а восторженный наблюдатель; слова и впечатления его куда-то влекут, волокут…), а главное – необычайной широтой лексики, чертой, резко выделившей Пастернака из ряда современников. Тут вам в одном стихотворении азалии и пахота, жуки, сваи и расцветшие миры, менестрели и полынь… Только жар лирического темперамента может все это сплавить в одно, пусть и невнятное целое; и, конечно, сквозной звук, парономазия – с первых стихов любимый прием сближения разностильных и разнозначных слов. Пастернак – единственный, у кого есть лицо, причем с таким необщим выраженьем, что выраженье это по временам можно принять либо за мимику безумца, либо за сардоническую насмешку над читателем.
Альманах вышел в конце апреля обычным для тогдашних (да и нынешних) поэтических сборников тиражом в 300 экземпляров. Месяц спустя Пастернак окончил университет, сдав в качестве кандидатского сочинения работу о теоретической философии Когена (профессор Челпанов, по предположению Локса, мало что в ней понял, а потому зачел без придирок, не желая демонстрировать своей неосведомленности,– все-таки он Когена не слушал, а Пастернак слушал). Прочие экзамены были сданы «весьма удовлетворительно» – отличник оставался верен себе.
Все биографы в один голос отмечают его великолепное равнодушие к решенной задаче: за дипломом Пастернак не явился. Диплом сохранился в архиве Московского университета. Евгений Борисович приводит его номер: 20974.
Глава VII. Очерк пути
1
Можно только удивляться тому, что Марина Цветаева – один из прозорливейших, хоть и пристрастнейших критиков среди русских лириков – в статье 1933 года «Поэты с историей и поэты без истории», отмечая двадцатилетие пастернаковской литературной работы, писала:
«Борис Пастернак – поэт без развития. Он сразу начал с самого себя и никогда этому не изменил…»
Удивительно, с каким постоянством вечно противопоставляемые Ахматова и Цветаева повторяли эти две оценки: у Пастернака нет периодов; у Пастернака нет человека…
«Пастернак был сотворен не на седьмой день (когда мир после того, как был создан человек, распался на «я» и все прочее), а раньше, когда создавалась природа. А то, что он родился человеком, есть чистое недоразумение»,—
расточает хвалу Цветаева, но этот мед не без яда.
А вот Ахматова 1940 года, в записи Лидии Чуковской:
«Дело в том, что стихи Пастернака написаны еще до шестого дня, когда Бог создал человека. Вы заметили – в стихах у него нету человека. Все, что угодно: грозы, леса, хаос, но не люди. Иногда, правда, показывается он сам, Борис Леонидович, и он-то сам себе удается. Но другие люди в его поэзию не входят, да он и не пробует их создавать».
Таких совпадений не бывает: Ахматова, возможно, была с цветаевской статьей знакома, хотя бы и с чужих слов (впервые она была напечатана по-сербски; Лидия Корнеевна в то время ее не читала, почему и не заметила цитаты). В статье Цветаевой слышится не только восторг перед пастернаковским даром, но и некоторый ужас перед ним – временами переходящий в снисходительность; так относятся к большому и красивому животному – да, могуч, а все-таки не человек. «Я сама выбрала мир нечеловеков – что же мне роптать?» (из письма к Пастернаку октября 1935 года). Конечно, Цветаева не вовсе отказывала Пастернаку в развитии:
«Если и замечается какое-то движение Пастернака за последние два десятилетия, то это движение идет в направлении к человеку. Природа чуть-чуть повернулась к нему лицом женщины. Оскорбленной женщины. Но это движение невооруженным глазом уловить совершенно невозможно».
(Современнику – наверное, трудно. Ретроспективно оно улавливается без труда. Но не забудем, что статья Цветаевой написана в период охлаждения между ней и Пастернаком, она – произведение «оскорбленной женщины», Марина Ивановна критик пристрастный.) Спасибо и за то, что именно в статье 1933 года обозначен главный вектор пастернаковского движения – от природы к истории, от доисторического и даже дочеловеческого мира – через неизбежный период язычества («языческие алтари на пире плодородья») – в сторону христианства. Здесь у Пастернака триада: сперва его главной темой становится природа, затем – государство, и лишь затем – отдельный человек со своей отдельной правдой. По этой логике (меньше всего зависящей от авторской воли) и развивалось творчество Пастернака, вообще к триадам склонного и всегда их за собой подмечавшего: теза – антитеза – синтез; десятые и двадцатые – тридцатые – сороковые и пятидесятые; природа – государство – человек.
Нам предстоит разобраться с распространенным заблуждением – с тем, что Пастернак полагал природу источником вечной радости. «Сколько радости он находил в природе!» – не без иронии скажет Ахматова; Пастернак в самом деле как будто неотделим от переделкинского леса, грузинских и уральских гор, южнорусской степи – пейзажей его книг «На ранних поездах», «Сестра моя жизнь», «Второе рождение»… Между тем проницательные исследователи – Синявский, Баевский, Альфонсов – утверждали, что Пастернак ни в коем случае не созерцатель. Более того – природу он постоянно противопоставляет истории. Пейзаж у Пастернака немыслим без преображающей, одухотворяющей роли человека; то, что происходит в нем без людского участия,– таинственно и страшно:
Я чувствовал: он будет вечен,
Ужасный говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней – не замечен.
Заметят – некуда назад:
Навек, навек заговорят.
Конфликт истории и природы прослеживается у Пастернака на каждом шагу, с первых стихотворений до последних, но особенного драматического напряжения достигает в знаменитом «Чуде». Стихотворение это, написанное тем же четырехстопным амфибрахием со множеством внутренних рифм, что и «Рождественская звезда», образует с ним своеобразный диптих и входит в цикл стихотворений Живаго. Пастернак вслед за Христом требует от окружающего мира, чтобы мир этот участвовал в его духовной драме,– и несколько таких испепеленных смоковниц, не желавших разделять его счастье или отчаянье, мы найдем в его лирике. Конечно, «на свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал»,– но будет и негодующее восклицание «Все снег да снег, терпи и точка!» – в стихах «Второго рождения», где герой скучает о лете с возлюбленной. Будут и Дагестан, похожий на казан отравленного плова, и зима, уставившаяся на жизнь героя «сквозь желтый ужас листьев». Идиллического союза с природой нет – есть удавшаяся попытка вдохнуть в нее жизнь, заставить сам воздух митинговать и разносить вести; между прочим, «Сестра» – именно отчет о том, как вторгается история в природу, заставляя ее безумствовать, вдохновляться и одушевляться. Закончилась история, ее дух отлетел от реальности – и остались только сухие гильзы ос, голые ветви, пустой воздух. Мира без своего присутствия Пастернак помыслить не в состоянии – весь «Август» о том, как «трепещущий ольшаник» и «имбирно-красный лес кладбищенский, горящий, как печатный пряник» преображены его провидческим голосом. Можно сказать, что мир ранней поэзии Пастернака есть мир доисторический, но что это мир дочеловеческий – как минимум спорно: просто он увиден глазами человека, которого история еще не извлекла из природы. Так поэзия Пастернака выпрастывалась из музыки, из импрессионизма, в котором слово не значило, а только пело или расплывчато намекало. Но чем дальше от детства, тем дальше и от завета с дочеловеческим, тварным миром: от счастливого растворения в природе – к трагическому ощущению собственного исчезновения, поглощения ею.
С тех пор как Сергей Никитин спел «Снег идет», это стихотворение стало восприниматься как радостное, полное свежести и счастливых предчувствий. Между тем эти стихи 1957 года – можно сказать, предсмертные, трагические:
Снег идет, и все в смятеньи,
Все пускается в полет,—
Темной лестницы ступени,
Перекрестка поворот…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься – и Святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и Новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Отчего все в смятенье? Оттого что время необратимо и не дает оглянуться, оттого, что снегом засыпано прошлое и занавешено будущее, что «к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани» – живая природа в завете с неживой, и только человеку, «изумленному пешеходу», все чего-то нужно. Ему бы задержать это мгновение или хоть осознать себя в нем. Ужас перед природой сродни ужасу перед бегом времени – его и Ахматова испытывала в эти же годы. От детского восторженного растворения в мире до старческого страха перед поглощением этой безликой стихией – таков путь лирики Пастернака; и здесь движение тоже налицо – поэт «с историей» все отчетливей делает выбор в пользу истории, и шум дождя, «месящий глину», ему все страшней – ибо утратить лицо и сознание как раз и означает быть «взятым в ад».
Кончит Пастернак тем, что саму историю объявит растительным царством – а человека будет ценить лишь в той мере, в какой тот способен этому царству противостоять.
2
Ахматова с удивлением заметила в том же разговоре сорокового года, что периоды у Пастернака все-таки есть; замечание странное, потому что именно четкая периодизация в творчестве Пастернака бросается в глаза. В каждом новом периоде он проходит одни и те же стадии, числом три: начинает слабо, а иногда и просто плохо. Следует быстрый набор высоты, стремительное овладение новым методом – и спуск с только что взятой вершины: краткая эпоха маньеризма, когда новообретенный метод тесен самому автору и видны его издержки.
«Надо ставить себе задачи выше своих сил, во-первых, потому, что их все равно никогда не знаешь, а во-вторых, потому, что силы и появляются по мере выполнения кажущейся недостижимой задачи»,—
говорил он Александру Гладкову 28 января 1942 года в Чистополе. Вся творческая биография Пастернака – цепочка задач, казавшихся неразрешимыми, и все их он решал, каждый раз идя дальше,– можно только гадать, к каким взлетам привел бы этот путь, не оборвись он в шестидесятом году.
«Однажды Ада Энгель выразила мысль, что процессы в природе подвигаются не линейно в арифметической прогрессии, а циклически, скачками с возвратами. Вероятно, так и есть…» —
писал он первой жене 28 июля 1940 года. Ада Энгель (Рогинская) – художница, подруга жены Пастернака и дочь композитора, его учителя. Пастернак и сам сознавал, что в каждом периоде его жизни и творчества повторяются определенные закономерности. Как правило, начало каждого такого периода датируется первым годом нового десятилетия – он прожил семь четких десятилетних циклов: в 1901 году он начал заниматься музыкой, в 1911-м обратился к лирике, с 1921-го пробует себя в эпосе, с 1931-го пытается не отделять себя от страны и переживает травматичный, но и креативный опыт гражданственности; в 1941-м осваивает новую лирическую манеру, с 1951-го обретает себя как прозаик, работая над окончательным вариантом романа. Внутри каждого десятилетия стабильно повторяются определенные фазы: пятый год – депрессия, более или менее глубокая; седьмой и восьмой – устойчивый подъем. Лучшими, самыми производительными в жизни Пастернака были 1917—1918-й («Сестра моя жизнь» и «Разрыв»), 1927—1928-й («Спекторский», вторая редакция ранней лирики), 1937—1938-й («Записки Живульта»), 1947-й («Стихотворения Юрия Живаго») и 1957—1958-й («Когда разгуляется»). Самыми депрессивными – 1915, 1925, 1935, 1945 (несмотря на восторженно приветствуемую Победу, на фоне которой особенно разителен был собственный душевный кризис) и 1955 годы.
В отличие от Маяковского, за два года достигшего собственного потолка, или Ахматовой, чей триумфальный дебют пришелся на раннюю юность, он некоторое время нащупывал манеру и к первому своему сборнику, «Близнец в тучах», в зрелые годы относился скептически. Конечно, он сразу расширил границы поэтической лексики, щедро внося в стихи прозаизмы и просторечье. В его ранних стихах образность избыточна, экспрессия хлещет через край, смысл ускользает, слово ведет автора, звук правит фабулой – придыхания, восклицаний и сознательных перехлестов больше, чем драгоценного личного опыта, переплавленного в единственно возможные слова. И это не просто буйство от избытка сил, но очень часто – недостаток как раз личного опыта и ясности мысли: у раннего Пастернака часто вовсе не поймешь, о чем идет речь,– да это и неважно, важно, что идет, бежит, летит. Это, пожалуй, единственное подлинно футуристическое, что было в молодом Пастернаке: футуристы тоже ставили звук впереди смысла, Алексей Крученых уверял, что в строчке «Дыр бул щыл» больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина.








