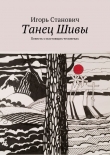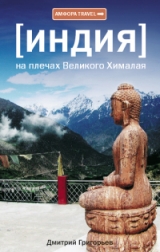
Текст книги "Индия. На плечах Великого Хималая"
Автор книги: Дмитрий Григорьев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Синяя птица
Утром вышли на прогулку по посёлку и окрестностям. Первая и главная достопримечательность – храм Ганги, находившийся прямо под окнами нашего отеля: невысокий, но при этом довольно изящный. Он был белого цвета, лишь по краю крыши и фундаменту тянулась малиновая обрамляющая полоса. Четыре угловых придела завершались башенками, по высоте чуть ниже главного купола, на площадь выходили большие ворота со ступенями. Как выяснилось, он был построен в начале XVIII века и реставрирован правителем Джайпура в XX.
Мы прошли к храму мимо скульптурной композиции, состоящей из Шивы, под ногами которого лежал его бык Нанду и стоял трезубец, царя Бхагиратхи и Ганги. Шиву я опознал сразу – по трезубцу и леопардовой шкуре на бёдрах, а вот насчёт того, что по правую руку от него был Бхагиратха, а чуть ниже – Ганга, не уверен.
Вторая достопримечательность – валун Бхагиратха Шила, на котором Бхагиратха молил Шиву принять воды реки себе на голову.
Третья – водопад Гаурикунд, по гималайским меркам не слишком большой, но удивительно красивый, в его струях висела радуга, а в углублениях гладких камней, под которыми летела вода, стояли малиновые и зелёные лужи.
Четвёртая – потрясающий хвойный лес, высокие деревья, прозрачный подлесок: и всё это в долине, зажатой между крутых склонов и причудливо прорезанной столь глубоким ущельем, что внизу уже полутьма, в которой грохочет белая и мощная река. В Гималаях есть по крайней мере два места, где я чувствую себя дома. Это Ганготри и Наггар – ему будет посвящено несколько последующих глав.
Мы дошли до притока, вдоль которого начиналась тропа на озеро Кедратал. На его берегу находился палаточный лагерь индийских туристов и маленькая электростанция, обеспечивающая посёлок энергией. В данный момент станция была «на профилактике» и никого ничем не снабжала. Надо сказать, что рассчитывать на постоянное электроснабжение в Ганготри нельзя и стоит ловить электричество, пока оно есть. Мы поймали его всего на несколько часов.
На обратном пути возле одной из лавочек, где Сева что-то высматривал, сжимая в руках деньги, к нему подошёл весьма шустрый баба. Он взял банку кока-колы, затем посмотрел на Севу. «Ты меня угостишь?» – спросил баба. Это было так неожиданно, что Сева согласился. В итоге ничего не купив себе, угостил бабу отнюдь не дешёвым в этих местах напитком.
Наши барышни, как говорится, «прикололись по вяленой тыкве». Это одна из типичных сладостей, которую можно купить повсюду (около десяти рупий за сто граммов).
Я же, вдруг услышав от двух проходящих мимо людей русскую речь, разговорился с ними. И далее наш разговор продолжился за чашкой чая в одной из дхаб. Ребят звали Роман и Женя, первый – типичный для Индии путешественник с немецким гражданством и русским прошлым, второй – из Киева, с дредами и хиповым видом, столь же типичный для Индии саньясин. Они рассказали, что живут в палатке на берегу Ганги чуть выше посёлка, что недавно поднимались к озеру Кедратал, но наверху пошёл сильный снег и пришлось вернуться обратно, что в Ганготри мы и они не единственные русские, около восьми человек находятся здесь уже не первый день. Они рассказали нам о дхабе, где очень вкусно и дёшево готовят, и мы договорились вечером там встретиться. Поговорили и об Учителях. Женя – саньясин Пилота Бабы и часто сопровождает его во время поездок по Украине и России. Обычно я стараюсь придерживаться совета Ра Хари – «Если вам случится жить в Индии, то старайтесь меньше общаться с русскими духовными искателями», но в данном случае общение с Женей совершенно не напрягало. Он показался мне очень светлым человеком. Если у Пилота Бабы такие ученики, то какой же он сам?
А у нас появился свой баба. Поначалу, при разборе должностей, Сергей Носов приобрёл статус «научного руководителя экспедиции по непосредственному… и так далее», но после пения бхажан и самовольного посещения ледяной пещеры он сильно изменился. Его слова стали весомее, а поступки твёрже. Если кто-то из нас случайно нарушал местные традиции, например брал чапати левой рукой, Носов делал ему строгое замечание, и кому-то сразу становилось стыдно. А гуляя по живописному сосновому лесу на берегу Ганги, Носов глубокомысленно произнёс: «Бог – это не бог». Правда – потом он быстро развил это учение, и следующая фраза, которую мы от него услышали, была такова: «Не бог – это бог». И в этом не было никакого противоречия.
А потом мы увидели синюю птицу. Когда её крылья были сложены, оперение казалось чёрным, но стоило ей их расправить, как возникал глубокий синий цвет. Она пролетела под нами по ущелью Ганги и села на одну из отполированных водой природных ступеней. Рядом с ней лежала пустая холщовая сумка и угли от костра. И не говорите мне, что это просто синяя сойка, а не птица счастья.
Кафе, которое нам порекомендовали Женя и Роман, оказалось действительно уютным. В нём сидела довольно большая компания русских и японцев. Удивительно, что представители этих двух столь разных наций здесь тесно общались. И я подумал, что фраза Киплинга в её расхожем понимании – «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут» – здесь не работает.
На самом деле всем, вырвавшим эту фразу из контекста прекрасного стихотворения, следовало бы знать его целиком. А смысл баллады скорее противоположен общему пониманию фразы. Она об уважении к чужому мужеству, о дружбе. Вот это четверостишие целиком:
«Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at Gods great Judgment Seat;
But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, tho’ they come from the ends of the earth!»
Электричества так и не дали, мы ужинали на террасе в свете керосиновых ламп и свечей. Было в этом что-то от древней мистерии.
On the road to Rishikesh*)3
Первая строка из песни «Битлз» «Child of Nature».
[Закрыть]
Рано утром покинули Ганготри в компании с Кэтрин, Келли и саньясином из Германии Рамой, который собирался оставить нас в Уттаркаши. Мы беседовали о путешествиях, а Сева писал стихи. Вот одно из его стихотворений, написанных в джипе.
О чём думают камни на дне бегущей реки?
Или валун, по пояс поднявшийся – поперёк?
В зелёные, медленные, прохладные ткани
Одевается Ганга-река, когда спускается с гор,
И мне вместе с ней уже ни о чём не хочется думать.
Водитель был молодым и гнал, мы останавливались лишь для того, чтобы перекусить и разобраться с машиной, повредившей нам задний бампер, – джип, идущий следом, всё время нас поджимал (хотя куда уж быстрее), и стоило нашему водителю притормозить, как тот въехал в нас, но несильно. Почему-то большинство водителей джипов либо совсем молодые люди, либо за сорок. Я подумал, что на таких дорогах происходит некий отбор – тот, кто лихачит, не доживает до среднего возраста.
В обед решили покурить, и Сева вдруг обнаружил, что всё оставил на окне. Носов Баба его не осудил, зато я – очень. На рынке в Утгаркаши снова купили фруктово-ягодный набор: арбуз, бананы, манго. Так что вечером в Ришикеше устроили фруктовый пир вместе с американками, одна из них, Келли, оказалась фотографом, живописцем и художником по керамике, а Кэтрин – искусствоведом и преподавателем колледжа. Обе постоянно путешествуют, но вместе поехали в Индию впервые. Кэтрин обычно брала с собой дочь, и, когда дочь была маленькой, ей это нравилось. Но теперь дочке уже шестнадцать, и она решила жить по-другому: без бесконечных дорог, ночёвок в дешёвых отелях и ашрамах и прочих радостей искателей истины.
Тем временем у нас стали заканчиваться крепкие дезинфицирующие средства. В основном дезинфицировали себя Носов и Сева. Причём если Сергей после процедуры иногда чувствовал себя неважно (в горах он понял, что стоит отказаться от алкоголя), то Сева дезинфицировал себя и наверху. Но, вопреки моим опасениям, проявил себя настоящим богатырём: возможно, водолазные навыки позволяли ему с изрядной дозой остатков алкоголя и каннабиса в организме вставать по утрам полным сил и со светлой головой, а также бежать десятикилометровый горный кросс.
Способность находить алкоголь у жителей России в крови. Даже в абсолютно трезвом Ришикеше моим спутникам удалось его найти. Причём нам продали его из-под полы в одной из продуктовых лавочек. Мы искали вино (нашим барышням надоели крепкие напитки), и на вопрос, есть ли wine, продавец сказал, что есть. Но только white wine. Белое тоже устраивало. Он выдал нам запечатанный бумажный пакет. Когда мы его распечатали, то обнаружили 0,75-литровую бутылку виски!
Виски местного производства «Red Knight» не так уж и плох. Официальная цена вполне приемлемая – около 300 рупий бутылка 0,75. Индусы по сравнению с жителями нашей страны пьют очень мало, винные магазины в крупных городах, разумеется, есть, но их немного и ассортимент довольно беден: пиво «Kingfisher» и крепкий алкоголь. Могу порекомендовать ещё ром «Old Monk», но он противнее виски. В местах религиозного паломничества алкоголь вообще не продают.
Впрочем, в Новгородской области, где мне довелось немного пожить, крестьяне называли, и по сию пору называют, водку белым вином. В принципе для них всё, что до 16 градусов, – красное вино, всё, что около 40, – белое.
Не надо думать, что мои спутники такие уж безумные алкоголики, просто почему-то в эту книгу преимущественно попадают воспоминания о вечерах, связанных с употреблением алкоголя.
Я спустился на завтрак раньше Тони, и, стоило мне уйти, на террасу прибежала здоровенная обезьяна. Она вывернула помойное ведро с арбузными корками и принялась доедать остатки нашего вчерашнего пиршества. Почувствовав, что содержимое ведра от неё никуда не уйдёт, с арбузной коркой в лапе она зашла в нашу комнату. Тоне это не очень понравилось, и она сказала обезьяне об этом. Та в ответ сделала страшную рожу. Тоне это ещё больше не понравилось, она схватила юбку и, размахивая ею как мечом, пошла на злодейку. Обезьяна неохотно ретировалась из комнаты в угол террасы. Тоня собрала остатки манго и арбуза и отнесла к ней, ибо в большой книге Носова Бабы было написано, что обезьян обижать нельзя, они животные священные.
В садах Пармат Никетан
Победу Тони над обезьяной мы отметили вкусным завтраком, после чего отправились в Ришикеш. Мы решили обойти этот город святых по кругу, по часовой стрелке. Спустились вниз, на площадь, где в центре в стеклянной будке стоит Рама с луком и стрелами. Сева предположил, что он регулирует движение: «Кто правила нарушит, тому стрелу в зад». Рама – лучник первоклассный, не промахнётся.
Затем прошли вниз по ступеням, где многочисленные садху сидят с котелками для подаяния, перешли через мост Лакшманджула на противоположную сторону к тринадцатиэтажному храму Шри Траянбакшвар, московскому небоскрёбу в миниатюре, на каждом из этажей которого живёт множество богов, миновали статую Шивы на небольшой площади с левой стороны от моста. На площади нас нагнала кавалькада весёлых молодых индийских паломников на мотоциклах, мы их уже встречали на пути в Ганготри. По улочке между ашрамами мы выбрались к пустому пляжу, где с удовольствием искупались в священной реке.
Вода была тёплой и чистой.
Пока мы плавали и сушились на камнях, к нам подошли двое серьёзных мужчин, один в полицейской форме, другой – в светлой европейской одежде. Последний хорошо говорил по-английски. Он очень вежливо объяснил, что его задача – просвещать иностранных туристов относительно правил поведения в городе. «Здесь, несмотря на отсутствие людей, женщинам в открытых купальниках находиться нельзя, – пояснил он. – Надо, чтобы тело было закрыто». Это касалось Катиного купальника. Человек рассказал, что он родился в Индии, много лет провёл в Австралии, а теперь купил дом в Ришикеше и живёт здесь.
Можно купаться выше по течению Ганги, за Лахманджулой, на очень хороших и пустынных пляжах, где я даже провёл пару ночей во время своего первого посещения Индии. Дальше за пляжами – живописная тропа к небольшому водопаду и посёлку Патна. Пока ещё тихие, спокойные места – если кого и встретишь, то одиноких медитаторов и приветливых дачников.
Мы постепенно дошли до Рамджулы, но не стали возвращаться на другой берег, а отправились дальше, к двум очень известным ашрамам – первый, процветающий, знаменитый своими садами Пармат Никетан (Parmath Niketan), а второй, точнее последний по берегу, заброшенный ашрам Махариши Махеш Йоги, более известный как ашрам Битлз.
Махариши Махеш Йоги (1917–2008) – известный гуру, который, как утверждается на посвящённом ему сайте, «сформулировал Генеральный план создания Рая на Земле и переустройства всего мира, внешнего и внутреннего».
Махариши получил высшее образование в области физики и химии, но по окончании университета около двадцати лет учился и работал у гуру Дева Свами Брахмананда Сарасвати. Когда гуру ушёл из жизни, Махариши отправился в Гималаи, где провёл около двух лет. Затем вернулся в «мир», начал проповедовать и учить знанию вед и практике трансцендентальной медитации (ТМ). В 1957-м им было организовано всемирное Движение Духовного Возрождения. В 1961 году в Ришикеше был проведён первый курс подготовки Учителей ТМ. А в 1968 в ашрам Махариши приехала группа «Битлз». Они прожили здесь несколько недель и за это время написали 48 песен, часть из которых впоследствии вошли в «Белый альбом».
Сейчас дело Махариши продолжается во многих странах. Согласно материалам сайта, в настоящее время в мире насчитывается около 6 млн человек, обучившихся технике ТМ. Среди них многие видные деятели науки и искусства, представители бизнеса и политики. Но мне, честно говоря, не по душе их американизированный подход: плати деньги – и мы тебя научим.
Существуют многочисленные путеводители по ашрамам Ришикеша, и если вы духовный искатель, то наверняка найдёте тот, что нужен именно вам: в одном обучение платное, в другом – бесплатное, но надо пройти серьёзный экзамен, в третьем требуется владеть навыками йоги и так далее. Одни ашрамы элитные, другие – для всех.
Но Пармат Никетан – один из самых интересных. Можно любоваться его садами, однако мне всегда нравилась его скульптура – десятки композиций в человеческий рост, под навесами и за металлической сеткой.
Они иллюстрировали фрагменты Махабхараты, Рамаяны и пуран. Принципа, по которому они расположены внутри сада, мне понять не удалось. Вот несколько сцен, которые я запечатлел на камеру:
Карна даёт свои золотые зубы Кришне и Арджуне
Раненый Карна лежит на поле боя. Кришна и Арджуна подходят к нему в облике брахманов (делается это всё для того, чтобы доказать Арджуне, что есть на свете праведники покруче его).
Кришна говорит:
– Карна! Мне нужно совершить обряд и для этого необходимо золото.
– Я рад бы помочь, но я ранен, – отвечает Карна, – но ты можешь прийти к моей жене, она даст тебе золота сколько нужно.
– Я хочу попросить только у тебя. Если не можешь дать, что ж, мы пойдём дальше.
– Стойте, – говорит Карна, – у меня во рту два золотых зуба. Вырвите их и возьмите!
– Нет, – отвечает Кришна, – я не могу причинять тебе насилия.
Тогда Карна сам себе выбивает зубы и протягивает их Кришне (именно эту сцену запечатлел скульптор).
Но Кришна отказывается: дескать, зубы испачканы кровью и брахману нельзя их касаться.
Карна из последних сил берёт лук и пускает стрелу в землю. Из земли вырывается родник, Карна моет в роднике свои зубы и отдаёт их Кришне.
Арджуна, восхищённый праведностью Карны, смиряет собственную гордыню.
Мать Яшода видит во рту Кришны весь космос
Кришна сразу же после рождения был отдан хорошей женщине Яшоде, дабы его не могли найти асуры. Детишки, которые играли с маленьким Кришной, однажды «настучали» на него: «Матушка, а Кришна ел глину».
Яшода, естественно, спросила мальчика, правда ли это, на что Кришна ответил, что он не ел глины и готов показать рот. И когда он открыл рот, Яшода увидела там весь мир, всё сущее, всю вселенную. Но затем Кришна сделал так, что она забыла об этом и снова стала видеть в нём лишь своего сына.
Кришна убивает демона Хираньякашипу, чтобы спасти преданного ему Прахлада
Это очень любопытная история. Дело в том, что Прахлад – сын демона Хираньякашипы, который благодаря аскезе в течение ста лет получил в дар от Брахмы неуязвимость: демон не мог быть убит ни человеком, ни зверем: ни днём, ни ночью; ни в доме, ни вне дома: ни на земле, ни на море, ни в небе; ни оружием, ни рукой человека. Хираньякашип считал себя неуязвимым.
Прахлад же, вместо того чтобы поклоняться отцу, верил Кришне. И злоба папаши дошла до того, что тот попытался убить сына. Он использовал все доступные способы – от бросания со скал до раздавливания слонами и сжигания. Но Кришна каждый раз спасал праведника.
И тогда Хираньякашип спросил у Прахлада, где тот берёт свою силу. «От Бога», – ответил Прахлад. Этот ответ привёл асура в ярость.
«Где же твой Бог? – заорал он. – Он здесь? Где Он сейчас? Может быть, Он здесь, в этой колонне?!»
Демон ударил по колонне, и оттуда явился Кришна в образе получеловека-полульва. Кришна поймал демона, положил его на свои колени и убил, разорвав живот острыми когтями (именно этот момент отражён в скульптуре). Кришна победил демона, не нарушая дара Брахмы. Хираньякашип был убит не днём, не ночью, а в сумерках. Он был убит не оружием, не рукой человека или зверя, а когтями получеловека-полульва. Он был убит не на земле, не на море, не в небе, а на коленях Кришны.
Рама нежно ухаживает за раненым Джатайей
Когда демон Равана украл жену Рамы Ситу, её рыдания услышал царь ястребов, Джатайя. Доблестный Джатайя напал на Равану, но тот тяжко ранил его, низверг на землю и, оставив умирать, улетел с Ситой на Ланку.
Гуляя по этому удивительному саду цветов и скульптур, я вдруг вспомнил своё посещение Мирожского монастыря в Пскове, где все сюжеты Нового Завета были отражены в потрясающе красивых фресках Спасо-Преображенского собора. Древняя история разворачивалась по кругу в полутьме храма, к реставрации которого были причастны мои друзья.
Фото Баба
Когда мы вышли из ашрама к гхате, где лицом к нам над водами Ганги сидел белый Шива, на голову Носова с неба вдруг упала сухая коровья лепёшка. Он посмотрел наверх – летающих коров не было, да и обычные, те, что на земле, находились довольно далеко. Я попытался утешить Сергея, ведь в русском фольклоре описываются и более сложные ситуации – вот, например, частушка, вошедшая во многие сборники:
Да у меня на голове
Корова отелилася.
Удивительный вопрос:
Како поместилася?
И даже привёл собственный, весьма «индийский» комментарий к ней:
Сидит у меня на голове корова,
который год сидит – уже и не помню,
волосы щиплет, жуёт потихоньку,
тёплые лепёшки кладёт прямо на затылок —
получается почти как шапка.
А тут вдруг – на тебе, отелилась,
но вот что удивительно,
как я быка проворонил,
того, что мою корову обрюхатил!
Зову ветеринара, говорю: «Беда,
корова, видишь ли, отелилась,
а как зачала, я и не заметил!»
А он отвечает:
«Радуйся, что нормальный телёнок, здоровый,
радуйся, что голова у тебя большая,
носи свою корову вместе с телёнком
и не лезь ко мне с глупыми вопросами!»
А затем, по дороге к ашраму Битлз, Сергей Носов исчез. Ждём пять минут, десять – нет и нет. Пришлось вернуться. Напротив ашрама Вед Никетан дорогу перекрывала огромная, пестрящая всеми цветами радуги толпа индусов. Во главе толпы стоял Носов Баба. Он фотографировал. Он фотографировал как одиноких паломников, так и целые семьи. К нему на фотоблагословение выстроилась целая очередь.
«Не бог – это Бог», – говорил писатель, показывая индусам на экране фотоаппарата очередной фотоснимок. Нам пришлось прервать действо, непочтительно строго окликнув фотобабу, и толпа расступилась, давая дорогу новоявленному гуру.
Надо сказать, отношение к фотографированию как у простых индусов, так и у садху, как правило, очень доброжелательное. Многие не отказываются фотографироваться и сами любят фотографировать. За время поездки мы неоднократно были фотомоделями для индийских туристов.
От ашрама Вед Никетан до ашрама Махариши Махеш Йоги всего несколько минут ходьбы. Дорога тянется вдоль заборов и неказистых хижин. Около самодельного указателя её перекрыла валяющаяся на земле лошадь. Ответа на вопрос, спит животное или умирает, мы так и не получили, вставать лошадь не захотела. Мы и не настаивали.
Ашрам Битлз заброшен много лет тому назад, и мы об этом знали. На воротах висел здоровенный замок. Неподалёку под деревьями несколько бабаев пили чай. Рядом стоял белый бычок. На ветвях деревьев возлежали обезьяны. После шумных улиц Ришикеша – тихая сельская идиллия.
Мы поговорили с садху о жизни, постояли около решётчатых ворот. Как мы выяснили потом, уже когда вернулись в Россию, замок легко снимался примерно за 50 рупий с человека. Только надо было искать сторожа, а не беседовать о жизни. Внутри ашрама, по свидетельству тех, кто там был, царствуют сказочно красивые джунгли. Одним словом, Рай на Земле, чего и добивался Махариши.
Но мы в рай не попали, а вернулись на другой берег и посвятили остаток дня остальной части Ришикеша, куда за неимением сил отправились на «тук-туке». Он был тесный, и Серёжа Носов сидел практически за рулём. Путеводители указывают на три основных достопримечательности: Ришикунд, пруд, где некогда купался Рама (тот самый, главный герой Рамаяны) и его брат Лакшман; Бхарат Мандир, один из древнейших храмов города и Тривени Гхат, где каждый вечер совершается Ганга-пуджа.
Пруд оказался крайне невзрачным и запущенным, я вспомнил, что раньше в нём было много воды и цвели лотосы, но, возможно, это другие воспоминания о других местах, рядом рос огромный баньян, в тени которого сидели садху, а на Тривени Гхате на нас набросились дети со щётками, предлагая почистить наши пляжные тапочки. Под гудение их голосов мы прошествовали вдоль берега, а затем бежали обратно, к рикше, который нас уже ждал.
А вечером мы устроили церемонию поклонения Ганге на российский манер: сидели на террасе, допивали заначенную на такой случай бутылку «Журавлей» и смотрели на великую реку. Потом барышни наслаждались аюрведическим массажем, а мы вместе с «Красным Рыцарем» начали подготовку к дальнейшему путешествию – ехать предстояло всю ночь и половину дня.