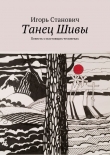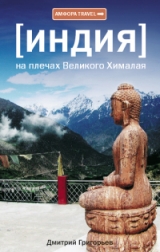
Текст книги "Индия. На плечах Великого Хималая"
Автор книги: Дмитрий Григорьев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Часть 2. К истокам Ганги

Peep-peep don’t sleep
На следующий день с утра выехали на джипе в Ганготри. Можно было поехать и на автобусе, но билетов на утренние автобусы в ближайшем турагентстве не было, а идти на автостанцию и пытаться сесть на первый попавшийся никто из моих товарищей не захотел.
В Ришикеше есть две автобусных станции. Та, с которой отправляются автобусы в Ганготри, называется Yatra Local Bus Station. Обычно автобусы уходят рано утром и билеты на них купить иногда удаётся перед отправлением. Но чтобы пройти из Ганготри далее, к истокам Ганги, нужно получить разрешение на вход в заповедник в городе Уттаркаши, на полпути до Ганготри, а автобус долго ждать не будет. Можно попробовать получить разрешение в самом Ганготри – и нашим знакомым из Венгрии это удалось, причём сделали они это не в форест-офисе, а в какой-то «левой» конторе. Впрочем, у этой пары была веская причина они хотели ребёнка, но все попытки зачать оканчивались неудачей. И семья шла к Гомукху, рассчитывая, что поклонение Ганге поможет им в зачатии ребёнка. «Ганга – женщина, и она их поймёт», – сказала моя жена Тоня. Хочется верить, что это так.
Нам ещё предстояло гулять по Ришикешу на обратном пути, а пока мы старались не тормозить. Асфальтовая дорога тянулась по отрогам Гималаев, то отходя на несколько километров, то приближаясь почти вплотную к Ганге. Нашего колесничего звали Кришна. Но никто из нас не претендовал на роль царя Арджуны: тетивы наших луков давно стали струнами, а стрелы – лучами намерений, да и врагов на нашем пути не наблюдалось.
Арджуна, индийский царь, герой «Бхагавад-гиты». В «Бхагавад-гите», которая является частью «Махабхараты» и переводится как «Божественная Песнь» и которую называют «Библией индуизма», рассказывается о битве между Пандавами и Кауравами на поле Куру. Арджуна, царь Пандавов, во время построения видит среди противников своих родственников и своего учителя. Он отказывается сражаться. И Кришна, возничий его боевой колесницы, обращается к нему с наставлением, убеждая начать сражение, объясняя, почему и зачем он должен это сделать. Причиной тому является не отмщение, не завоевание, а исполнение дхармы (своего предназначения, морального долга, пути благочестия, обязанностей перед богом и т. д.). И как можно говорить о грехе убийства, если всё, включая самого Кришну, есть Атман-Брахман и он бессмертен. Умирает лишь тело. А неисполнение дхармы приведёт к ужасным последствиям. Кришна являет Арджуне свой божественный облик, и тот, отбросив сомнения, начинает бой. А Кришна, снова став возничим, управляет царской колесницей.
Зато забавные надписи, характерные для трасс северной Индии, встречались с завидной периодичностью. Мне так и не удалось выяснить, чья это инициатива – местных мэрий или дорожной полиции. Но в течение всего путешествия я их исправно записывал в блокнот в авторской орфографии и пунктуации.
Хочется привести некоторые из них: «Don’t drive drunk» – эдакое правило трёх «Д» на индийский манер. Однако, если учесть, что в Индии употребление алкоголя – довольно редкое явление, антиалкогольные надписи не очень актуальны. Из той же серии:
«After drinking whisky driving is risky», «Whisky is risky, rum is bomb», «Three enemies of road: liquor, speed and overload».
А вот более актуальна «Реерреер don’t sleep» – действительно, перед каждым крутым поворотом, закрытым склоном, надо гудеть – ведь с противоположной стороны могут нестись два джигита, обгоняющие друг друга. Поэтому сзади большинства грузовиков написано «Blow horn!».
Против сна на дороге имеются следующие надписи:
«If you sleep your family will weep», «Asleep, a slip – a hospital trip».
Также большое количество обращений посвящено внимательности:
«Road signs they are signs of life», «Drive carefully reach safely», «Safety is the light – let it shine», «Night doubles traffic troubles», «Hurry and worry go together».
«You may not be superstitious but believe traffic signs».
Причём иногда от лица дороги:
«Be gentle on my curves», «I am curvaceous – be slow», «On my curve check your nerve».
И сдерживанию скорости:
«Better late than never», «Drive slow – live long», «Speed and safety never meet», «Speed is a knife that cuts life», «Be rather Mr. Late than late Mr.», «More you speed more you skid», «Slow drive – long life», «No race, no rally, Enjoy the beauty Of the valley», «Alert today – alive tomorrow», «Speed is a knife that cuts life», «Time and tide wait for no man», «Break the speed – that is the need», а также «Drive, don’t fly» – на дороге, размытой ручьями, где разогнаться просто невозможно, действительно летать опасно. Впрочем, есть и такое предупреждение:
«Sky is the limit.
We take you there».
Из надписей, которые мне показались забавными, следующая: «Hitch-Hike Point» – в абсолютно безлюдной горной пустыне. Автостопщиков на ней я не увидел. И, наконец, имеющие отношение не только к движению по дороге, но и к жизни:
«Heaven, hell or Mother Earth, the choice is yours», «When you are good to others, you are best to yourself», «Child is the father of nation», «Always expect the unexpected» и, наконец, «Smile, please».
В Утгаркаши (Uttarkashi), небольшом городе на берегу Ганги (на высоте около 1300 метров), название которого переводится как Верхний Каши, то есть Верхний Светлый Город, мы прибыли в пять вечера, как раз к закрытию форест-офиса. Кроме того, у меня и Тони не оказалось ксерокопий визы и паспорта. Удивительно, что мы заранее, задолго до поездки, предупредили всех участников экспедиции о том, что может понадобиться на бесчисленных военных и пограничных постах (наш дальнейший маршрут проходил вдоль границы с Китаем), и все, следуя нашему совету, сделали по десятку ксерокопий, а мы сами во время сборов об этом забыли. Поэтому, подобно большинству паломников, идущих к верховьям священной реки, решили остановиться в славном светлом верхнем городе.
Мы прошлись вдоль Мейн-Базар-роуд в поисках отеля, но ничего нормального по цене-качеству не нашли. Водитель отвёз в гостиницу Nainkaran, напротив центральной площади, похожей на большое футбольное поле. На этой площади два бабы, бородатые, волосатые, один в оранжевом, другой с зонтиком, предложили гашиш, но едва мы заговорили с ними, тут же собралась толпа любопытных, которая нас и отпугнула.
В дальнейшем производные каннабиса почему-то предлагали мне и Носову, причиной тому мой соответствующий внешний вид и созерцательность во взгляде писателя, говорящая о том, что он входит в целевую группу потребителей опьяняющих веществ. Причём у одного бабы был не только гашиш, но и целый арсенал других психоактивных препаратов – от каких-то колёс и грибочков до «браун шугара» (героин) включительно. Всё это было хитроумно запрятано в складках его одежды.
О траве, прочей дури и братьях наших меньших
Все производные «дядюшки каннабиса» считаются в Индии наркотиками. А наркотики в Индии запрещены законом. Но купить их легко, по крайней мере один из десяти баба продаст гашиш (или чарас, о котором речь чуть дальше), да и не только его: с некоторых пор здесь можно найти весь спектр психостимуляторов и галлюциногенов. Правда, без гарантии качества. Также нельзя гарантировать и то, что этот баба не работает в паре с полицейским, который тут же схватит тебя за руку и вытрясет все имеющиеся деньги. А иначе полицейский участок, тюрьма и так далее… Мало того, сами индусы во время церемоний, посвящённых Шиве, часто употребляют бханг – зелье из листьев и соцветий конопли.
Сам Шива, хотя и был великим аскетом, любил и выпить, и покурить. Однажды он променял на дурь украшения из приданого своей жены Парвати. А вот её действительно упрекнуть не в чем – верная жена, красавица, заботливая мать.
Бханг часто упоминается не только в индийском, но и в арабском, и в персидском фольклоре. В Индии, когда говорят об очень бедной семье, используют поговорку «В доме даже плохого бханга нет». Мой первый консультант по Индии, Сурья, в своём «Руководстве для начинающего медитатора» также большое место уделяет бхангу (бангу). Бхангласси (кефир с добавлением бханга) раньше можно было полулегально купить во многих кафешках (дхабах по-индийски) некоторых городов. В этот раз никто не предлагал, а мы и не спрашивали. То ли закон стал жёстче, то ли «цивильность» нашей компании отпугивала работников дхаб.
Может быть, с употреблением каннабиса связаны беззлобность и «пофигизм» многих простых индусов. Алкоголь (легально разрешённый в нашей стране наркотик) во многом «агрессивнее» травы. Даже те, кто живёт беднее наших беднейших, улыбается гораздо чаще.
И к животным в Индии более доброе отношение. Коровы ходят по городу, чувствуя себя настоящими хозяевами, величаво и степенно, не обращая внимания ни на машины, ни на рикш, ни на людей. Однажды я, прельстившись каким-то сувениром, решил потратить на него последние карманные деньги и начал уже было торговаться с продавцом, но в этот момент проходящая мимо белая корова боднула меня в бок. Я сохранил деньги, и впоследствии они очень пригодились. Другой случай мы наблюдали в Варанаси, когда огромный чёрный бык решил полежать и заполнил собой всю улочку. Образовалась пробка – с одной стороны велорикша с дородной индийской матроной, с другой – пара мотоциклистов и толпа пешеходов. Быка сначала уговаривали, затем стали расталкивать. Пинать-то нельзя. Наконец один из застрявших потянул быка за хвост. Лишь тогда он решил встать и разобраться с обидчиком. А когда встал, пробка рассосалась сама собой: народ быстро разбежался по боковым улочкам. В индийской корриде всегда побеждает бык. Коровы – священные животные, но помимо них по улицам ходят свиньи и собаки. Все они существуют независимо от людей.
Происходит некий кругооборот: люди бросают фруктовые объедки на землю, их подъедают коровы, коровы оставляют за собой лепёшки, которые съедаются в свою очередь свиньями, а экскременты свиней удобряют корни деревьев.
Правда, фрукты на деревьях можно встретить лишь в закрытых садах, огороженных заборами, по верху которых либо колючая проволока, либо битое стекло, – чтобы не добрались обезьяны. Эти твари довольно бесцеремонны, и, гуляя по какой-нибудь лесной дорожке, стоить следить за сумкой. Что касается полупрозрачных полиэтиленовых пакетов, то их надо прятать в непрозрачный рюкзак. Впрочем, там, где фруктов много, а обезьян мало, в Наггаре например, сады огорожены обычными заборами.
Один раз я оказался свидетелем довольно забавной сценки: я гулял неподалёку от Лакшманджулы вдоль берега Ганги по тенистой горной дороге (ветви растений образовывали над ней естественные своды), а впереди меня, метрах в тридцати, шла пара туристов: девушка и солидный мужчина, в руках у которого, как выяснилось впоследствии, был кулёк с арахисом. Они были увлечены друг другом и не заметили четвероногих разбойников, пристроившихся на нависающей над дорогой ветке. И я, увы, увидел этих сородичей Ханумана слишком поздно. Пара оказалась под этой веткой, и один, самый крупный, «обезьян» спикировал вниз и вышиб из рук туриста пакет, затем, словно переспелые фрукты, посыпались на землю остальные члены шайки и быстро подъели все орешки.
Вот что писал о них в XV веке Афанасий Никитин: «А обезьяны, те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с ратью своей. Если кто обезьян обидит, они жалуются своему князю, и он посылает на обидчика свою рать и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой. Детёнышей родится у них много, и если который из них родится ни в мать, ни в отца, таких бросают на дорогах. Иные гундустанцы подбирают их да учат всяким ремёслам: а если продают, то ночью, чтобы они дорогу назад не могли найти, а иных учат (людей забавлять)».
Я заметил, что особой бесцеремонностью отличаются макаки – эдакие красномордые гоблины. Они будут часто влезать в моё дальнейшее повествование.
Лангуры – у них серебристая шерсть и чёрные морды – как мне показалось, более сдержанны. А недавно я прочитал в Интернете, что в Нью-Дели для защиты туристов от нападений диких макак власти индийской столицы сформировали боевой отряд обезьян-лангуров. Во-первых, макаки боятся лангуров, во-вторых, лангуры легко приручаются, а, в-третьих, в отличие от собаки, лангур достанет краснорожего разбойника не только на земле, но и на дереве.
Согласно сообщению ИТАР-ТАСС, «охраняют безопасность туристов тридцать восемь лангуров. Каждый из „охранников“ ходит на поводке с хозяином, который при необходимости отпускает его и отдаёт команду, которую лангур беспрекословно исполняет».
И, конечно же, особого упоминания заслуживают тигры. Во время моего одиночного и практически безденежного путешествия по Пшалаям меня часто пугали тиграми. И один раз это спасло мне жизнь. Некоторое время я жил на окраине посёлка Маклеодганж, в котором находится резиденция далай-ламы. Это удивительно красивое место, в хвойном лесу, в горах, где совсем по-другому течёт время и можно жить, пребывая в вечности. Но тогда я исходил из принципа, которого некогда придерживались суфийские дервиши – не останавливаться в одном месте более чем на три дня. Правда, иногда мой день растягивался до календарного месяца. Но в данном случае я гостил в Маклеодганже всего два дня и уже полностью созрел для того, чтобы отправиться на автобусную станцию, которая находилась в трёх километрах от моего жилья, и ранним утром продолжить свой путь. Моросил дождь, а начинать путешествие в дождь – хорошая примета. Я вышел посреди ночи, по дороге, тянущейся серпантином через лес. Но один из местных жителей остановил меня, предупредив, что в это время можно нарваться на тигра. И посоветовал более короткую и прямую дорогу мимо монастыря. Я не поверил, что в столь высокогорном и людном месте может обитать этот хищник, но всё же последовал его совету.
И вдруг где-то в середине пути я услышал со стороны оставленной мной дороги рёв, треск и грохот. Судя по мощности звука, так мог рычать лишь великий тигр. Потом выяснилось, что это был довольно крупный оползень, снёсший десяток метров дороги. И наши с ним маршруты могли пересечься.
Второй раз меня пугали тигром неподалёку от Ришикеша. Я снова не поверил – рядом находилось человеческое жильё, и только безумный тигр мог на меня напасть. Но, укладываясь на ночь в пещерке в камнях на берегу реки, решил принять меры предосторожности: собрал палки и развёл костёр возле входа в логово. Заодно приготовил чай и поужинал. Затем подбросил дров и отправился спать. Вскоре в пещеру пополз не тигр, а дым. В итоге я плюнул на предостережения и расстелил пенку под деревом, подальше от костра.
На рассвете меня разбудил странный шорох. Я открыл глаза в тот момент, когда с неба летел мой котелок. Он со звоном ударился о землю. Я посмотрел вверх и увидел на ветке дерева и на камнях целый консилиум обезьян, внимательно наблюдающих за мной. Возможно, они специально подняли котелок и сбросили его с дерева, чтобы я мог проснуться и пообщаться с ними.
Я вскочил, замахал руками, затопал ногами. Поначалу обезьяны испугались, но затем, приняв меня за безумца, потеряли всяческий интерес. Тогда я подобрал котелок, нашёл кружку. Алюминиевая ложка, судя по всему, осталась у обезьян.
Вскоре на берег пришли живущие неподалёку йоги из Швейцарии. Они залезли на плоские камни, превратившись в живые статуи, обращённые к восходу. Время стояло, мимо проплывали туристы на красных рафтах, солнце медленно поднималось над горами, разгоняя туман. А я записал в своём дневнике:
Меня приглашают в Оман и Европу,
меня приглашают разные люди,
но я сижу на берегу реки,
и шелест воды – вот весь мой ответ.
Рыба меня приглашает поплавать,
обезьяна зовёт к Хануману меня на обед,
а ворон (мы с ним давно знакомы)
летит над рекой, и тень его больше меня.
Деревья и камни в путь приглашают,
машут руками люди на лодках,
но я сижу на берегу реки,
и шелест воды – вот весь мой ответ.
Баба бабе рознь
В Ришикеше я неоднократно общался не только с европейскими йогами (моя собственная физическая практика, увы, сводится к 14-й притче упомянутого выше Ра Хари: «Йога – это когда тебе приятно в какой-то позе. Главная поза – лёжа»), но и с нищими баба. Как правило, они говорили на английском лучше меня. Надо сказать, что техника «аска» у них на очень высоком уровне. «Как у вас там Путин, Медведев (в 90-х – Горбачёв, Ельцин)? Как люди живут? Что сколько стоит?» – вопрос следует за вопросом с интонацией искренней заинтересованности. И когда разговорившийся европеец уже почти готов к разводке, нищий начинает рассказывать о себе. Например: «Я занимался медитацией и постился семь дней (следует демонстрация впалого, действительно очень впалого живота), теперь мне надо поесть. Я ем только хорошие фрукты и молоко. Ты не мог бы меня накормить или дать денег?» Такие «телеги» весьма типичны как для истинного, так и для ложного бабы. О том, как выявить ложного садху, в случае, если вы имеете дело с йогинами, занимающимися тантрой, можно прочитать в книге Роберта Свободы «Агхора. По левую руку бога». Его учитель агхори Вималананда говорит, что ложного садху можно изобличить, предложив ему покурить трубочку, чиллум, с чарасом или травой (алкоголь среди большинства садху не приветствуется).
Пусть он сам раскурит чиллум. Ведь первая затяжка не может быть неглубокой. А дальше в процессе общения истина выплывет сама собой.
Как-то после недолгого разговора с одним весёлым бабой я предложил ему пять рупий. И тот демонстративно отказался:
– Этого мало, дай десять.
– Десять – это мой обед, – ответил я. – Ты думаешь, у меня много денег? Я такой же нищий, как и ты.
Я не врал: за несколько месяцев пребывания в Индии у меня на самом деле кончились почти все деньги. И он, как истинный садху, почувствовал это.
– Ладно, пойдём тогда покурим, – сказал баба.
Мы уселись на берегу самой прекрасной на этой земле реки и хорошо покурили зелья из волшебной травы.
Поговорили и покурили ещё.
А когда мимо нас пошли две весьма милые барышни с рюкзачками, мой баба прицепился к ним.
– Девочки, посмотрите – вот мой ученик. – Он указал на меня, красного то ли от неловкости, то ли от смеха – трава уже успела подействовать. – Он не ел семь дней, – продолжал баба, – занимаясь медитацией. И теперь ему необходимо правильное питание, хорошие продукты.
Девочками, я потом познакомился с ними, оказались шведки, работающие на телевидении и приехавшие в Индию в отпуск. Они выдали моему «учителю» около ста рупий.
– А теперь пошли поедим, – сказал баба, – и мы отправились в дхабу.
Ещё один случай произошёл там же. Седой старичок в очках начал привычный для меня уже разговор обо всём. Говорили мы долго, и я уже начал загадывать, когда же он поведает мне о своём посте или о страшном недуге и попросит денег. И наконец он спросил:
– Ты не обедал?
– Ещё нет, – ответил я. Этот старик мне понравился, и я подумал, что если он попросит, то непременно пойду с ним и угощу его обедом.
Но следующий его вопрос меня удивил:
– У тебя есть посуда?
Я показал ему котелок.
– Здесь в ашраме, где я живу, сейчас обед, пойдём поешь. Со мной пропустят. Это бесплатно, только свою посуду надо принести.
Ашрам («прибежище») – место, в котором вокруг гуру живут его адепты. Но во многих ашрамах могут остановиться и простые путешественники. На территории ашрама нельзя шуметь, «тусоваться», употреблять алкоголь и наркотики. Для меня такие ограничения – преимущество, а не недостаток. К тому же ночлег в ашраме может ничего не стоить, а может обойтись в 1–2 доллара. За такую сумму я в своё время ночевал в ашраме Ved Niketan в Рамджуле. В каждом ашраме свои правила, но для всех входящих главное – «не идти со своим уставом в чужой монастырь».
Так что баба бабе рознь. А о том, как писатель Носов обрёл статус фотобабы, речь пойдёт дальше.
Бинди как частный случай тилаки
Мы оставили вещи в отеле и спустились к Ганге. На протяжении пути вниз она несколько раз меняла свой цвет. Воды Ганги в июне мутные, беловато-зеленоватые, но там, где она разливается озёрами, – просто зелёные. В августе в Ришикеше мы застали Гангу коричневой от смытой дождями почвы, а ближе к зиме я окунался в почти прозрачные зеленоватые воды божественной реки.
Вдоль берега неспешно гуляли свиньи. Серого цвета шкуры, серые камни гхаты, седая от пены вода стремительно несущейся Ганги и глубокое тёмно-синее небо над головой. Писатель-натуралист Носов достал фотоаппарат. Свиньи почувствовали к себе интерес, начали позировать, поворачиваясь к нему то мордами, то боком. Мы немного прошли вдоль берега и на одном из спусков столкнулись с индийцем в очках и европейской одежде.
Наступало время ужина, и мы спросили про ресторан. Индиец ответил (он довольно сносно говорил по-английски), что рядом с храмом есть несколько ресторанов и он готов сопроводить нас туда. Индиец повёл нас извилистыми улочками, рассказывая по дороге, что дочка у него учится в Англии и он бы уехал, но ему нравится жить здесь, в этом чудесном светлом городе. Я же, грешным делом, думал не о городе, и не о великой реке, и даже не о предстоящем ужине. Я думал о том, какой бакшиш потребует за услуги гида этот наш провожатый. Или он проводит свою мини-экскурсию от чистого сердца?
К моей радости, наш провожатый действовал из благородных побуждений и как-то незаметно испарился возле дверей храма. В некоторые индуистские храмы иностранцам входить запрещено, но этот был открыт для всех. Мы прошли внутрь, оставили храмовым работникам небольшую денежку, за что каждому из нас брахман своей щедрой рукой поставил на лоб красное пятно – тилаку.
Когда я в первый раз отправлялся в Индию, знакомый художник Игорь Панин попросил меня выяснить, зачем у индийских женщин на лбу красная точка. «Когда её видишь на лице индийской красавицы, – сказал Игорь, – хочется поцеловать барышню именно в эту точку». Вопрос был задан перед самым моим отъездом, и к тому же в те времена, когда за справочным материалом приходилось ходить в библиотеку. Поэтому я решил спросить напрямую у обладательницы точки на лбу. И первый ответ, который я получил, был таков: «Точка называется бинди и означает, что я замужем!» Так что Панину вряд ли удалось бы поцеловать индуску в бинди – любое прикосновение даже к незамужней женщине уже неприлично. Это было написано в великой книге Носова об индийском этикете.
Однако, когда через пару дней после разговора с индийской замужней женщиной я оказался в индуистском храме и брахман поставил мне точку на лоб, я усомнился в таком простом объяснении. И вскоре выяснил, что бинди (это слово переводится с санскрита как «точка») – лишь частный случай тилаки, сакрального знака, который индуисты наносят на лоб и другие части тела. Традиционно бинди имел форму точки, по его цвету и размеру можно было судить о кастовой принадлежности обладательницы, о месте её жительства, о количестве детей и так далее. Точка ставилась в области шестой чакры, именуемой Аджна-чакрой, той, что ещё называют третьим глазом. Она расположена в мозгу, в месте пересечения оптических нервов.
Эта чакра, по мнению одного моего знакомого йога, очень важна для практикующего. Все знают детскую игру в гляделки, но не все знают, что именно умение работать с шестой чакрой приносит победу, причём не только в этой игре, но и в других, гораздо более серьёзных битвах. И точка в районе третьего глаза может означать открытую мишень. То есть носительница бинди как бы говорит, что отказывается от возможной борьбы.
В тантризме работе с чакрами (их у человека шесть: муладхара, свадшихтана, манипура, анахатха, вишуддха и аджна) придаётся огромное значение. Ведь они, являясь невидимыми энергетическими центрами, отвечают за высвобождение энергии Кундалини, дремлющей в нижней чакре (муладхаре).
Ответ на вопрос, что символизирует бинди, я найти не смог. Но согласно Ригведе богиня утра Уша, супруга бога солнца Сурьи, наносила на лоб красную точку, символизирующую восходящее солнце. Часто к основной бинди присовокупляется ещё одна, меньшего размера, расположенная чуть ниже. В настоящее время бинди в большинстве случаев используется как украшение и носят её не только индийские женщины и не только последовательницы индуизма. И, конечно же, не только замужние. А символом замужества, например, является прокрашенный синдуром пробор. Или браслеты на руках.
Тилака на лбу мужчины носит сугубо сакральный характер. Мой знакомый брахман Лалу, живущий в горах, в пещере, которую называл комнатой (room), каждое утро ставил всем окружающим тилаку из пепла, называя её Шивой. По тилаке на лбу верующего человека можно определить, какое из направлений индуизма он исповедует. Шиваиты носят на лбу тилаку из трёх горизонтальных линий, сделанную пеплом и называемую трипундра.
Последователи Вишну для приготовления тилаки используют глину священных рек и сандаловую пасту и наносят её в форме буквы U, символического изображения стоп Вишну, причём тилака каждого из направлений вишнуизма имеет свои особенности.
Так, например, адепты шри-вайшнавизма, что поклоняются Вишне через его жену Лакшми, дополняют этот знак красной линией посередине – символом Лакшми, и линией на переносице – знаком гуру.
С тилаками на лбу, следуя указаниям ещё одного индуса, на этот раз типичного бабы, мы наконец нашли весьма приличную дхабу, где весьма прилично поужинали. Обычно путешествия, особенно горные – прекрасный способ сбросить вес: так со мной было в Индии, когда я путешествовал в одиночку или с таким же, как я, travellers. Но когда я стал гидом, то в первые дни начал активно толстеть. Ибо часть моих попутчиков, хотя и заказывала блюда without spices, есть их не могла. Даже неострая еда была для них слишком острой. В итоге я ел половину порции жены, а иногда и половину порции писателя Носова. Правда, вскоре Носов вошёл во вкус острой пищи.
На выходе из дхабы купил-таки, на этот раз без свидетелей и практически без торговли, солидный кусок весёлого зелья всего за 200 рупий. А Носов конечно же купил арбуз. Прямо напротив гостиницы находился придорожный базар, где торговали привычными для русского глаза фруктами и овощами – луком, огурцами, помидорами, яблоками, баклажанами, картофелем, возможно выращенными в ближайшем пригороде. Всё-таки уже высота 1500 метров и, в отличие от субтропического Ришикеша, климат вполне соответствует среднерусскому. На базаре также были явно привезённые из более тёплых мест манго и арбузы. Торговец заворожённо смотрел, как наш специалист по арбузам ласкает пальцами гладкую полосатую поверхность, рассматривает «попку» – оконечность плода, прислоняет его к уху и сжимает, чтобы услышать характерный спелый треск. А когда Сергей стал активно торговаться (великая книга по этикету говорила о том, что если ты не торгуешься, то обижаешь продавца), тот сдался окончательно и отдал арбуз по баснословно низкой цене.
Ночью, вооружившись фонариками, мы пошли на крышу отеля, под звёздное небо. Там мы оказались не одни – целая группа не очень богатых даже по индийским меркам паломников готовила себе ужин. Как потом выяснилось, большая часть этих людей ночевала на первом этаже отеля, в комнате, сплошь заставленной кроватями. Некоторые же оставались наверху до утра.
Нам, пришедшим на крышу позже, было оказано максимально возможное гостеприимство – соседи откуда-то извлекли два одеяла, которые постелили на бетонный пол. Мы же, разрезав арбуз, предложили им несколько кусков.
Тогда они предложили присоединиться к их трапезе.
Мы отказались, сославшись на то, что сыты.
Тогда они подарили нам несколько плодов лайма.
Причём вся эта медленная беседа происходила на языке жестов: никто из соседей не знал английского языка, а никто из нас не знал хинди. Это чем-то напоминало популярную в игру «крокодил», когда средствами пантомимы человек должен представить загаданный предмет или понятие.
Впрочем, один раз я столкнулся с полным непониманием. Это случилось в середине 90-х, в лесу возле посёлка на берегу Индийского океана. Я нашёл в тени сосны удобный камень, сел на него и стал приводить в порядок записи в дневнике. Вдруг ко мне подошёл индус и принялся наблюдать за тем, что я делаю. Стоял он так минут тридцать. Сначала меня это немного раздражало, потом я стал думать, уж не плод ли он моего воображения, и отцепил от него своё сознание. В итоге получился следующий текст:
Я сижу на плоском камне
у тропинки, ведущей к морю,
и человек какой-то
в одной лишь повязке на бёдрах
стоит и на меня смотрит.
А я записываю в блокноте
самые разные вещи
о том, что стоит и смотрит,
как я на диковинную бабочку
с ярко-синими полосками на крыльях,
что на моём рюкзаке сидела
за минуту до этого человека,
но пришёл он, и улетела…
Остались лишь мысли типа:
«Положил рюкзак на колючки,
теперь, наверное, в дырках»,
или: «Когда же свалит
этот мэн, темнокожий и тихий?»
А он переступает с ноги на ногу,
ждёт, что я выкину какой-нибудь фортель,
встану, например, и спляшу буги-вуги,
сминая кактусы босыми пятками,
или большой вороной
сяду на его плечи:
ведь он – словно дерево,
раскатываемое ветром,
стоит и не догадывается,
что я пишу о нём.
«В этих краях, похоже,
я единственный иностранец, —
так я пишу в блокноте, —
и в отлив на бескрайнем пляже
рыбаки расставляют сети,
чтобы при лунном свете
заполнить серебряной рыбой».
Написал, но он не уходит.
– Я работаю, ты понимаешь?
говорю, и он повторяет:
– Я работаю, ты понимаешь.
– Бай! – говорю я ему.
И он повторяет: – Бай.
И я внезапно врубаюсь,
что он – моя тень дневная,
я её потерял однажды
на жёлтой песчаной тропинке,
и к ночи, когда зайдёт солнце,
и сети наполнятся рыбой,
её уже точно не будет.