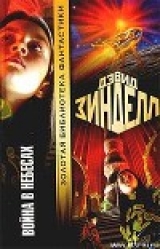
Текст книги "Война в небесах"
Автор книги: Дэвид Зинделл
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Я требую, чтобы ты сообщил мне маршрут Зондерваля.
– Скажу, когда все звезды свалятся с неба.
– Я требую, чтобы ты сказал это сейчас.
– Раньше я умру.
– О нет. Этого мы не допустим. А вот ты через несколько мгновений пожалеешь, что не умер. Этой ночью я принес тебе в дар две вещи, близкие моей душе. Первая – это, конечно, боль.
– А вторая? – спросил Данло, предугадывая ответ.
– Вечность, Данло. Вечность и боль, боль и вечность – вот две единственные составные части вселенной.
Хануман кивнул Ярославу Бульбе, и его лицо отвердело.
Ярослав с быстротой атакующей кобры зажал в пальцах блестящую иглу и воткнул ее в шею Данло. Инъекция экканы заняла всего один момент. Данло, почти не ощутив боли от укола, ждал, обливаясь потом, – ждал чего-то большего, чем этот ничтожный мушиный укус. Его сердце отстучало один, два, три, четыре раза – а затем эккана, как ракета в холодном ночном воздухе, взорвалась в его нервной системе. Пятый удар сердца упал в грудь, словно камень, и Данло задохнулся от внезапной боли.
Боль накатывала волнами в такт быстрым сокращениям сердца, разгоняющего кровь по артериям; она пульсировала в руках, ногах, торсе, поднималась по шее в мозг. Сердцебиение участилось, и болевой шок пронизывал тело вместе с толчками крови. Самой страшной была боль в голове: Данло казалось, что в глаз ему вбивают раскаленное железо, и он едва удерживался от крика. К этому примешивались жгучий холод стула, опаляющая кожу веревка, ломота в обмороженных когда-то пальцах ног. Мускулы, кожа, нервы, кровь, кости – все клетки его тела вопили от боли.
– Можешь кричать, если хочешь, – сказал Хануман. – Здесь тебя никто не услышит, кроме Малаклипса, а для воина-поэта, как тебе известно, чьи-то крики – небесная музыка.
Не стану кричать, подумал Данло и стиснул челюсти так, что мускулы затвердели, как дерево, и зубная боль пронзила десны тридцатью двумя копьями.
– Такой стойкий, да? Но вспомни, пожалуйста: нужно четыреста секунд, чтобы эккана достигла полного эффекта, и ее действие нарастает очень постепенно. То, что ты испытываешь сейчас, – это спичка по сравнению со звездой.
Слова Ханумана усугубили мучения Данло – но не своим содержанием. Звуковые колебания сотрясали сырой воздух камеры, и каждая ревущая гласная и взрывчатая согласная разбивалась волной о барабанные перепонки Данло. Когда-то голос Ханумана казался Данло сладким, как мед, и красивым, как полированное серебро, – теперь он наполнял голову, как рев десяти тысяч тигров. Таков эффект экканы, превращающей приятные прежде ощущения в адские муки. Так легкое царапанье коготков любовницы по спине становится невыносимым после солнечного ожога.
– Отсчитываешь время? – Хануман, стоя перед Данло, смотрел на него странно, почти с состраданием, и свет, отражаясь от его бледного страдальческого лица, резал Данло глаза. – Мы не начнем по-настоящему, пока эккана не возымеет полного действия. А затем у нас будет не меньше шести часов до того, как оно ослабнет. Шесть часов! Можешь ты себе это представить? Во вселенной, воспринимаемой через эккану, даже шесть секунд – вечность.
Данло втянул в себя воздух, надеясь ослабить терзающую его боль, но этот холодный глоток только обжег ему легкие, точно огонь, и Данло улыбнулся от внезапно пришедшей ему в голову мысли: “Нервы – вот что мешает человеку возомнить себя богом”.
– Я вижу, тебе пока еще весело, – сказал Хануман. – Радуйся, что еще можешь улыбаться, – это ненадолго.
Данло попытался открыть рот и сказать Хануману, что воля его всегда останется свободной, как талло в небе, – лишь бы у него достало мужества следовать ей. Но шевелить челюстями, языком и губами было так больно, что он замкнулся в молчании.
– Тебе становится хуже, верно? Чувствуешь ты это нутром? Чувствуешь своими клетками?
Пока Данло заставлял себя не кричать и не биться в путах, чтобы не причинять себе лишних страданий, боль действительно пронзила ему нутро. Последний раз он ел много часов назад, но перистальтические сокращения мышц живота выжимали из внутренностей уже переваренную пишу. Желудочный сок обжигал, как горячая кислота, и даже усвоение клетками белков и жиров сделалось болезненным; казалось, что одна клетка за другой раздуваются от питательных веществ до отказа, а потом лопаются. Процессы во всех системах организма, от пищеварительной до кровеносной и мозга, заметно ускорились. Все они пребывали в постоянном движении, и чем быстрее они двигались, тем больше болели.
Через боль человек сознает жизнь, вспомнил Данло.
Жизнь, было его последней ясной мыслью до того, как боль захлестнула его, жизнь по сути своей есть движение материи по строго организованным образцам. Это движение в чистом виде, постоянный переход из одного состояния в другое – и в этом движении заключается изначальный источник всякой боли. Чем больше движение – например, когда мужчину кромсают ножом или женщина рожает, – тем сильнее боль. Странно, что раньше он никогда не понимал этого до конца. Странно, что движение само по себе есть боль, ведь вселенная – это не что иное, как движущаяся материя, от атома углерода в крови Данло, где вращаются электроны, до потока фотонов, исходящих из сердца далекой звезды.
Боль есть жизнь, а жизнь есть боль, боль, боль, боль…
Ирония в том, что воины-поэты изобрели свою эккану не просто для того, чтобы вызывать боль, а для того, чтобы освобождать свои жертвы для их величайших возможностей. Ведь боль – это дверь, ведущая из темной пещеры собственного существования к бесконечным огням вселенной. Но открыть эту дверь дано немногим. Немногие способны достичь своего момента возможного и пройти сквозь боль в золотую страну, где твоя воля струится свободно и дико, как водопад. Чем сильнее боль, говорят воины-поэты, тем больше у воли возможностей преодолеть ее и приблизиться к истинной человечности. Ибо настоящий человек – это тот, кто, несмотря на всю боль, терзающую его тело и душу, способен улыбнуться бесконечно большей боли вселенной.
Больно, больно, больно.
– Больно, Данло, правда?
Голос Ханумана грянул, как взрыв, из ослепительного света, опалив Данло нестерпимым жаром.
– Ужасно больно, да?
Да, сказал про себя Данло. Да, да, да, да.
– Данло!
Звук собственного имени обжег мозг и вызвал обильный пот. .
– Ты ни о чем не хочешь меня спросить?
Да, подумал Данло. Да, да, да, да.
– Спрашивай, если хочешь.
– Сколько… – выговорил наконец Данло. Это единственное слово далось ему такой ценой, словно он вырвал из ноги засевший там гарпун.
– Сколько боли ты сможешь вытерпеть? – Голубые глаза Ханумана сверкали, как лед, одежда окружала его золотым пламенем. – Ты это хотел узнать? Сколько боли ты сможешь вытерпеть, прежде чем начнешь кричать и грызть себе язык? Порой мне кажется, что это единственный стоящий вопрос: сколько боли мы способны вытерпеть, прежде чем обезуметь заодно со всей вселенной?
– Нет, – выдохнул Данло. – Сколько… времени?
Он давно уже потерял счет ударам своего сердца. Ему казалось, что прошли целые дни и даже годы, но при этом он понимал, что ночь еще не прошла, потому что окошко оставалось темным. Возможно, прошло только два или три часа с тех пор, как Ярослав впрыснул ему эккану. Он определенно давно уже достиг момента, когда огонь экканы разгорается жарче всего.
– Всего двести секунд. – Хануман закрыл глаза, и шапочка у него на голове засветилась пурпурными червячками. – Двести десять – чуть больше половины того срока, когда мы сможем начать по-настоящему. И только сотая часть боли, как тебе должно быть известно. Действие экканы нарастает по экспоненте. То, что ты чувствуешь сейчас, вряд ли можно назвать настоящей болью.
Ненастоящая… двести секунд… быть не может, нет, нет, нет…
Данло тратил всю силу воли только на то, чтобы не кричать.
Он не понимал, как может боль быть сильнее, – но она неизбежно стала сильнее, бесконечно сильнее. Проходили секунды, дни, века, и его сердце бесконечно долго завершало один удар и наполнялось кипящей кровью для следующего. Уйти бы, уйти – лучше уж оказаться голым в метели, или пусть бы его резали каменным ножом, или пусть бы самое мучительное, что он испытал в жизни, повторялось снова и снова.
Данло, к стыду своему, закричал, как ребенок, попавший в лапы тигру; он кричал так, что легкие, казалось, вот-вот оторвутся от ребер и сердце лопнет. Потом он осознал, что единственные звуки в камере – это дыхание Ханумана, воинов-поэтов и его собственное, похожее на выхлопы ракет. Крик звучал у него внутри, в его голове. Челюсти оставались сомкнутыми, и он не смог бы разлепить губы.
– Прошло больше пятисот секунд. – Голос Ярослава разрезал воздух, как кнут. – Ничего не понимаю.
Другой воин-поэт, быстрый молодой Аррио Келл, сказал: – Может быть, эккана устарела и утратила силу.
– Нет. Я приготовил свежий раствор всего три дня назад.
– Тогда он должен был достичь своего момента.
– И давно уже. Ничего не понимаю.
Хануман подошел поближе и потрогал потный лоб Данло.
Даже это легкое прикосновение причиняло невыносимую боль.
Данло заставил себя смотреть прямо на Ханумана, пока тот ощупывал окаменевшие мускулы его лица и шеи. Хануман заглянул ему в глаза и сказал:
– Он достиг своего момента – я уверен, что эккана подействовала полностью.
– Никто еще не подходил к своему моменту без крика, – возразил Ярослав.
– Данло не такой, как все люди.
– Вы говорите так, точно он бог.
– Почти, – тихо и странно произнес Хануман. – Его отец как-никак Мэллори Рингесс, который хоть и был человеком, но тоже не таким, как все.
– Даже воины-поэты кричат под действием экканы, – сказал Ярослав. – Нервов у него нет, что ли? Или с мозгом что-то не в порядке?
– Нервы у него есть. Смотри. – Хануман провел ногтем по шраму у Данло на лбу, и Данло подскочил на стуле: ему показалось, будто его старую рану вскрыли раскаленным ножом. – Видишь его глаза? Он кричит, только внутри.
– Лучше бы он кричал вслух, пока стены не затряслись и не порвались голосовые связки.
– Однако надо начинать, – сказал Хануман.
– Давно пора. – Ярослав достал свой длинный нож.
– Один момент. – Хануман обратился к Данло: – Назови мне координаты звезд вдоль пути Зондерваля.
Сердце Данло ударило три раза с силой волн, бьющих в скалистый берег, и он сказал: – Нет.
– Нет?
– Нет.
Односложное слово ранило грудь и горло, но не выбросить его железный груз из себя было бы еще больнее. Вся воля Данло уходила на то, чтобы произносить это просто, спокойно, без примеси боли или ненависти.
– Будь ты проклят, Данло! – Челюсть, руки, все тело Ханумана тряслись от ярости, и он не мог отвести от Данло бледных, готовых расплакаться глаз. – Если есть Бог в этой вселенной, он должен предать проклятию такое жестокое существо, как ты. Но его нет, поэтому это должен сделать я, понимаешь? Я должен. – И Хануман, кивнув Ярославу, приказал: – Начни с пальцев.
Хануман, должно быть, запланировал порядок пыток заранее и обговорил его с воинами-поэтами, поскольку Ярослав и Аррио Келл знали, что им нужно делать. Руки Данло были прикручены к подлокотникам стула, но кисти оставались свободными. Когда эккана начала действовать, Данло стиснул пальцы в кулаки. Теперь Аррио разжал их своими жесткими пальцами, распрямил мизинец с черным пилотским кольцом и придавил его к подлокотнику. На черном осколочнике палец казался особенно бельм, и ноготь при свете радужного шара переливался, как бриллиант.
Не стану кричать, пообещал себе Данло. Умру, а кричать не стану.
Он приказал себе смотреть, когда Ярослав приставил нож к кончику его пальца. Острие вошло под ноготь. Ярослав водил им вправо и влево, загоняя поглубже, стараясь подковырнуть весь ноготь до конца, как скорлупу ореха. Брызнула кровь, и невыносимое желание закричать свело судорогой горло и живот Данло. Он пытался отдернуть руку, но жгучая веревка, впиваясь в предплечье, не пускала его. Он не мог уйти от этого ножа, от крови, от боли.
О Боже, Боже, Боже. Умереть бы.
Ярослав наконец сорвал ноготь и с торжеством поднял его вверх, как найденный рубин. Данло, скрипя зубами, напрягся в своих путах. Все его мускулы сокращались одновременно, позвоночник трещал, желудок выворачивался наизнанку. В этот момент Данло стал думать о смерти. Никакого порядка и ясности в этих мыслях не было. Из-за боли Данло перестал постигать истины вселенной в словах, концепциях и рассуждениях. Он сознавал только боль, огонь и нескончаемость боли. И страшную логику, говорящую ему, что боль кончится только вместе с его жизнью. Если боль – это жизнь, а жизнь – только движение крови, бегущей из вскрытых сосудиков его пальца, и нервных сигналов, бегущих по руке в мозг, все это можно очень легко прекратить. Остановить движение клеток – и он умрет. Душа не отделится от тела, и никто не закодирует его “я” в виде компьютерной программы – ничего такого. Не будет ничего, кроме остановки движения, угасания сознания и жизни. Покой, тишина, и боль пройдет.
Данло жаждал этого несуществования все больше с каждым вдохом, царапавшим ему горло, как нож. Приказать сердцу не биться больше, уйти от боли жизни со всей непреклонностью, присущей ему от рождения.
Умереть, умереть, умереть – о Боже, о Боже, о Боже.
– Будь ты проклят, Данло!
Голос Ханумана обрушился откуда-то из слепящего света внутри Данло. Боль так помутила ум, что он показался Данло своим.
– Будь ты проклят! Почему ты не кричишь?
Данло услышал это как “почему ты не умираешь?” Разлепить бы кровоточащие губы, чтобы ответить Хануману (и себе самому) на этот вопрос, но если он это сделает, то закричит так, что звуковые волны разорвут ему грудь и сердце перестанет биться.
О Боже, нет. Нет, нет, нет – я не хочу умирать.
Ярослав долго – почти вечность – трудился над другими его пальцами. И каждый раз, срывая ноготь или сверля его ножом, проникая в нервы и в кость, воин-поэт все больше досадовал – и любопытствовал, и изощрялся в своем искусстве. Будь его воля, он просверлил бы Данло глаза или вскрыл ему грудь, чтобы убедиться, что сердце у него такое же, как у всякого человека. Но Хануман никогда не допустил бы подобных увечий. Он в самом деле не хотел, чтобы Данло умер, – и посредством жестов и резких взглядов побуждал воина-поэта действовать по плану. Для пытки предназначались самые легкодоступные, близкие к поверхности нервы, и нож Ярослава проникал в локтевой сустав, в тестикулы, в тройничный нерв, пролегающий за скулами.
Когда все это не принесло желаемого результата, Аррио Келл достал из кармана коричневую палочку Джамбула, раскурил ее и приложил горящий конец к животу Данло. Кожа зашипела, и пот стал испаряться, а клетки Данло выбрасывать из себя новую влагу. К стоящим в камере запахам – масла каны, старого меха, пыли, нездорового дыхания Ханумана – добавилась вонь горелого мяса. Данло задыхался от этого зловония, и давился, и мотал головой, и отказывался кричать.
– Бесполезно, – сказал Ярослав, весь забрызганный кровью, как и Аррио. – Вы хотите, чтобы ваш друг был жив, но девять человек из десяти уже умерли бы от такой боли – а десятый сошел бы с ума.
– Возможно, он Одиннадцатый. – Хануман говорил о персонаже из теологии воинов-поэтов, способном превзойти любую боль на пути к бесконечному.
– Даже Одиннадцатый в конце концов умирает, как всякий человек.
– Вот именно – человек, – сказал Хануман и добавил: – Надо спросить его еще раз.
Он снова задал Данло вопрос о маршруте Зондерваля, и Данло, глотая воздух, снова промолчал.
– Пора привести акашика. Ступай в собор, – приказал Хануман Аррио Келлу, – и скажи Радомилу Корвену, что он мне нужен.
Аррио вытер кровь с рук белым полотенцем, набросил золотой плащ на окровавленную одежду и с поклоном вышел.
– Хорошо бы вы позволили мне заняться глазами, – сказал Ярослав. – Манипуляции со зрительным нервом причиняют невероятную боль. А тут еще страх перед слепотой – глядишь, и заговорит.
– Может быть, позже, – сказал Хануман вдумчиво, как будто они обсуждали меню к обеду. – Подождем акашика.
Долго ждать не пришлось. Аррио привел морщинистого старца по имени Радомил Морвен. Прежде он был выдающимся мастер-акашиком, но еще на заре рингизма он вышел из Ордена, чтобы служить Хануману – и достигнуть божественного состояния прежде, чем сердечный приступ или еще какое-нибудь несчастье оборвет его дни. Свои инструменты он нес так, словно они были свинцовые. Охая и вздыхая, он установил маленький голографический стенд на шахматном столике рядом с образником и постучал скрюченными пальцами по блестящей поверхности шлема.
– Я понимаю необходимость подобных мер, – сказал он, косясь на изувеченные пальцы Данло и лохмотья кожи, свисающие с его лица. При этом он зажал рот рукой, словно боясь, что его вырвет. – Но лучше было бы послать за мной сразу после того, как ему ввели эккану. Пытки – это уж чересчур.
– Не вам об этом судить, – сказал Хануман.
– Если бы вы больше полагались на мое искусство, – проворчал Радомил, игнорируя холод, которым Хануман его обдавал, – то даже эккана бы не понадобилась.
– Это вы так говорите.
– Вы кромсаете его ножами и вяжете жгучей веревкой, но мой компьютер вскроет его гораздо более эффективно.
– Посмотрим.
– Я мог бы просто осмотреть пилота под любым предлогом, – настаивал Радомил. Он, очевидно, был убежден, что имеет для Ханумана большую ценность, если осмеливался вступать в спор с самим Светочем Пути. – Тогда мы могли бы сказать божкам, что Данло ви Соли Рингесс нуждается в нашей помощи для восстановления утраченной памяти.
На самом деле Данло обладал почти идеальной памятью и никогда не нуждался в чужой помощи, чтобы вспомнить что-либо. Хануман, разумеется, знал об этом – как знали все знакомые Данло и его сподвижники по первым дням рингизма.
То, что Радомил позабыл об этом общеизвестном факте, говорило о страхе, лишающем его способности рассуждать здраво. Страх управлял Радомилом, как большинством людей; старый акашик боялся болезней и старости, звездных взрывов, крови и мнения других рингистов. Ирония заключалась в том, что он, как и большинство людей, боялся того, чему не суждено сбыться, не замечая в то же время опасности, висящей над его головой, словно нож на волоске.
– Зачем нам вообще говорить божкам что бы то ни было? – спокойно осведомился Хануман. Он метнул взгляд на Ярослава, и Данло прочел в его льдистых глазах смерть.
Нет, Хану. Нет, нет, нет, нет.
– Да посмотрите же на этого бедного пилота! Посмотрите, что вы с ним сделали! Ведь он посол – что мы скажем Демоти Беде, когда он потребует присутствия Данло на Коллегии?
– Вы доверяете мне? – внезапно спросил Хануман, впившись глазами в Радомила.
– Разумеется, лорд Хануман, – нервно сглотнув, ответил тот.
– Тогда доверьтесь мне и в решении этой маленькой проблемы.
– Как вам будет угодно.
– Может быть, начнем в таком случае? Данло ждет уже целую вечность, и я не хочу продлевать его страданий.
Радомил склонился над Данло, чтобы надеть на него шлем, и Данло, обретя голос, прошептал: – Он… убьет… вас.
Он хотел добавить еще что-нибудь, хотел сказать Радомилу, что ему ни с кем не дадут поделиться тем, что произошло этой ночью в камере Данло. Но воздух обжег его искусанный язык, и челюсти непроизвольно сомкнулись снова. Если Радомил и разобрал процеженный сквозь кровавую пену шепот Данло, то, видимо, не придал ему значения, решив, что Данло попросту пытается предотвратить дальнейшие пытки.
– Вот так, – проворчал он, прилаживая шлем. На голографическом стенде загорелась проекция мозга Данло. Все его основные структуры – от большого мозга до миндалин – светились разными красками. Радомил мог придать голограмме более глубокий уровень – тогда она показала бы фиолетовые нейроканалы в височных долях и даже включение отдельных нейронов в языковых центрах. – Ох, как же ему больно, – сказал акашик. – Никогда еще не видел, чтобы человек испытывал такую боль.
Радомил показал на красные светящиеся облачка вокруг мозгового ствола, в теменных долях – практически во всех частях мозга. Хануман следил за ним с интересом, как кадет-цефик во время урока. Воинов-поэтов это тоже заинтересовало. Ярослав охотно потыкал бы ножом в ступни, бедра, живот и глаза Данло, чтобы поглядеть, какие участки мозга загорятся, но он знал, что Хануман, сосредоточенный на своей цели, не разрешит ему этого.
– Могу я теперь задать ему вопрос? – спросил Хануман Радомила.
– Да, спрашивайте, пока он еще в сознании. Это просто невероятно, что он терпит такую боль молча и не теряя сознания.
– На чем следует сосредоточиться воину-поэту, когда я задаю вопрос?
Радомил хрустнул пальцами.
– Пусть он спрячет свой нож. Пилот и без того натерпелся. Еще немного боли – и он просто утратит способность говорить.
– На этот случай я вас и вызвал. Мне нужно, чтобы вы прочли его мысли.
– Но он все-таки должен говорить, хотя бы мысленно. Словами и цифрами, которые четко воспроизводятся в лобных долях. Избыток боли затемнит это воспроизведение.
– А недостаток боли позволит ему управлять своими мыслями. Он владеет цефическими навыками, как вам должно быть известно.
Радомил не стал спрашивать, как Данло приобрел эти навыки, а Хануман не сказал, что сам когда-то посвятил Данло в секреты своего мастерства. Данло ворочал во рту израненным языком, пока эти двое спорили, как им лучше получить нужную Хануману информацию.
– Вы мастер-акашик, – сказал наконец Хануман, низко кланяясь Радомилу, но в его глазах сквозило презрение, которое цефики питают к представителям низших ментальных дисциплин, особенно к акашикам. – Один из лучших акашиков, известных мне, Я полагаюсь на ваше суждение. Ограничимся пока словами – а если они не принесут успеха, мы попросим воина-поэта сопроводить их своим ножом.
Заключив этот компромисс, Хануман взял оставшуюся целой руку Данло в свою и спросил: – Координаты каких звезд сообщил тебе Зондерваль?
Его слова прожгли мозг Данло, как красное ракетное пламя.
Нет, нет – я не должен думать словами. Нет, нет, нет.
– Еще раз, – сказал Радомил, глядя на голограмму. – Спросите его еще раз.
Хануман повторил свой вопрос.
– В его мыслях мелькает “нет” и “слова”. Он пытается не думать словами.
– Этого следовало ожидать.
– Чем больше слов скажете вы, тем труднее будет его задача.
– Да, пожалуй, – поэтому мне нужно найти верные слова.
Хануман снова задал свой вопрос, справившись на этот раз о цвете глаз Зондерваля и тембре его голоса – эти ощущения могли ассоциироваться с информацией, которую Зондерваль сообщил Данло.
Я не должен думать словами, твердил про себя Данло. Цифры, координаты – нет, не хочу, не хочу, не хочу…
– Продолжайте говорить, – сказал Хануману Радомил. – Мы близки к цели.
Голос Ханумана, как серебряный нож, резал слух Данло и проникал в самую глубину его мозга. Данло закрыл глаза, пытаясь расплавить его слова огнем своей воли.
Я так хочу. Такова моя воля. Моя воля свободна, как талло в небе. Я должен иметь мужество следовать за ней.
– Поразительно, – сказал Радомил. – Его воля необыкновенно сильна. Он старается мыслить только образами – и ему это, кажется, удается.
Воля сердце огонь машут белые крылья холодный воздух синее небо…
Хануман продолжал расспрашивать Данло о флоте Зондерваля и его пилотах. Он называл координаты разных звезд, через которые мог проходить маршрут Зондерваля, надеясь, что память Данло среагирует на какие-нибудь из них. Потерпев неудачу в этом, Хануман стал говорить о гибели племени деваки и спрашивать, почему Данло позволил Тамаре оставить его. Эти вопросы, более жестокие, чем нож воина-поэта, ранили Данло до глубины души. Они едва не вызвали лавину эмоций, которая могла бы сломить его. Но его воля, как воля каждого человека, была поистине свободна, и в этот раз, единственный в своей жизни, он имел мужество следовать за ней.
Синее небо черный космос вопль молчание белое дитя звезд мерцание-свет свет свет…
– Итак? – сказал наконец Хануман.
– Я не могу прочесть ничего, кроме этих образов. Сожалею, но это так.
Хануман взял другую, израненную, руку Данло и сжал его окровавленные пальцы в своих. Боль, пронизавшая током руку Данло, должно быть, передалась ему, потому что он содрогнулся, отпустил Данло и спросил:
– А сейчас что вы читаете?
– Почти ничего, кроме боли. Боли яркой, как свет.
Свет свет свет огонь огонь огонь…
– Займись пальцами на другой руке, – сказал Ярославу Хануман.
– Лучше бы глазами, – заметил Ярослав, приставив нож к ногтю большого пальца Данло.
Хануман, не слушая его, сказал Данло:
– Назови координаты. Ты не избавишься от боли, пока не скажешь их мне.
Боль боль боль…
Большой палец полыхнул огнем, Данло напрягся в своих жгучих путах и подумал на миг, что хочет одного: избавиться от боли. Уйти от агонии существования, как червяк уходит под снег, – эта мысль искушала его почти невыносимо. Побороть боль или уйти от нее было всем, чего он желал. Но ведь он мог уйти от нее с помощью слов, выдав информацию, которой Хануман так отчаянно от него добивался. Осознав это, Данло свернул в другую сторону, вспомнил самое заветное свое желание и заставил себя подняться (или погрузиться) в ту звезду, что пылала в центре его существа, как огненно-красное сердце. Он падал в ее огонь радостно и свободно, как талло, летящая к солнцу.
Боль.
Перья вспыхнули, и он сам стал своей болью; боль была началом и концом его жизни и длилась вечно во вселенной, которая сама была болью и больше ничем.
Боль.
– Бесполезно, – сказал Радомил, глядя на модель мозга Данло, всю охваченную красным огнем. Сам Данло сидел с закрытыми глазами, расслабив грудь и плечи, как будто открыл свое сердце всей боли мира.
Ярослав сковырнул еще один ноготь и, стоя перед Данло с обагренным кровью ножом, подтвердил:
– Бесполезно. Если б я не знал, что это невозможно, то подумал бы, что он заранее принял какое-то противоядие от экканы.
Но противоядия от экканы не существовало, и Хануман сказал:
– Нет. Он будет чувствовать ее всю свою жизнь.
– И надолго ж эта жизнь затянется? – спросил Ярослав, переводя взгляд с Данло на Ханумана.
– Не знаю, – с невыразимой печалью сказал Хануман. – Откуда мне знать?
– Позвольте мне заняться его глазами, – попросил Ярослав. Хануман склонился над Данло и потрогал его закрытые веки.
– Позвольте мне забрать у него жизнь, – с неожиданным состраданием сказал Ярослав. – Он заслужил свободу, как никто другой.
Хануман, став за стулом Данло, прижал пальцы к его сонной артерии.
– Как сильно все еще бьется его сердце.
– Предлагаю подождать несколько дней, – вставил Радомил. – Когда действие экканы ослабеет, можно будет прибегнуть к другим наркотикам. И когда его мозг очистится от боли, я смогу прочесть…
– Способен ли кто-нибудь прочесть этого человека? – тихо, словно только для себя, произнес Хануман. – Мог ли я хоть когда-нибудь прочесть его?
– Позвольте мне взять его жизнь, – повторил Ярослав. – Если он достиг своего момента возможного и двинулся дальше, ничего другого не остается.
– Если ему выпало стать Одиннадцатым, – добавил Аррио Келл, – он перешел через боль, и вы никогда его не прочтете.
Перешел через боль. Перешел через огонь. Свет за пределами света внутри света свет свет…
Пока двое воинов-поэтов спорили с Радомилом и Хануманом о судьбе Данло, с самим Данло происходило что-то странное. Ему казалось, что внутри у него, в полном огня и боли пространстве между легкими, бьется чье-то другое сердце. Может быть, сердце Ханумана? Данло всегда чувствовал, что их души связаны, точно у сросшихся грудью близнецов в материнском чреве. Удары становились все ближе, словно к нему шел человек с барабаном. Данло видел этого человека: молодой божок с прыщавым от юка лицом спешил по соборным коридорам в часовню, и его золотой плащ развевался позади, как крылья ангела.
Через несколько мгновений Данло стал не только видеть его, но и слышать и не тем таинственным чувством, для которого у него не было имени, а ушами, как все. Хануман и воины-поэты тоже услышали. Где-то далеко открылась дверь, ботинки простучали по камню и остановились у самой камеры. Сердце Данло стукнуло еще раз, и в дверь камеры постучались.
– Лорд Хануман, – позвал чей-то голос, – я должен поговорить с вами незамедлительно.
Ярослав по знаку Ханумана открыл дверь, и в камеру влетел запыхавшийся человек в золотой одежде. Его лицо, все в шрамах от прыщей, раскраснелось от пробежки по холоду. Данло вспомнил, что зовут его Ивар Заит и что Хануман доверяет ему больше всех после Сурьи Сураты Лал и Ярослава Бульбы.
– Подойди сюда, – сказал Хануман, видя, что Ивар забился в самый дальний угол камеры. – Отдышись и успокойся.
Ивар, повиновавшись, сложил руки и стал шептать что-то на ухо Хануману. Через несколько секунд Хануман отстранился, как будто не мог вынести столь близкого соседства с другим человеком.
– Можешь освободить пилота, – сказал он Ярославу. – Теперь уже безразлично, заговорит он или нет.
– Что такое сообщил вам Ивар?
– Новость, которая скоро разойдется по всему городу. Двадцать наших легких кораблей чисто случайно обнаружили у Звезды Мара часть флота Содружества. А флот обнаружил их. Завязалось небольшое сражение, после которого двое наших пилотов выжили и вернулись в Невернес. Теперь Зондерваля уже не застанешь врасплох. Он будет ждать нас там, у этой проклятой звезды, или где-нибудь поблизости, у Орино Люс, скажем.
– Он, возможно, и будет ждать, но разумно ли будет для Сальмалина вести туда орденский флот? – подал голос Радомил, почитающий себя прирожденным стратегом, как многие люди, не имеющие о войне никакого понятия.
– Разумно ли? – повторил Хануман. Его глаза затуманились, как лед в пасмурную погоду, а нейросхемы кибершапочки загорелись миллионом пурпурных проводков. – Ивар только что из Академии, – сказал он через некоторое время. – Вся Коллегия собралась там, чтобы обсудить, какой курс действий будет наиболее разумным.
– Но решить, посылать туда флот или нет, должен сам глава Ордена. – Радомил, несмотря на свое умение читать людские умы, так и не разгадал до сих пор игру, шедшую между Хануманом и лордом Паллом.
– Разумеется, – согласился Хануман. – Но лорд Палл всегда ценил дальновидный совет. Поэтому он послал за мной, чтобы я помог ему принять решение.
– Что же вы ему посоветуете? – спросил Ярослав, вытирая нож окровавленной тряпкой.
– Для начала я дам совет тебе: развяжи пилота и уложи его в постель.
– Как скажете. – Ярослав с молниеносной быстротой спрятал нож и достал другой, маленький, которым вмиг расплавил путы Данло. Это вызвало отвратительный запах, похожий на вонь от паленых волос. Аррио с такой же быстротой заклеил рану у Данло на лице и надел десять трубочек на его искалеченные пальцы. Вдвоем они довели Данло до койки и бережно, как ребенка, уложили в теплый спальник.








