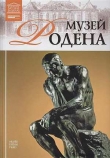Текст книги "«Нагим пришел я...»"
Автор книги: Дэвид Вейс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 47 страниц)
Кроме бюста Гюго, для Огюста теперь ничего не существовало[79]79
Первый бюст Виктора Гюго был выполнен Роденом в 1883 году. Известны два варианта рассказа скульптора о его работе. Согласно первому, записанному Гзеллем, его познакомил с Гюго его друг-журналист Базир. «На мое несчасте, Виктор Гюго только что вынес жестокую пытку: чтобы сделать плохой бюст, посредственный скульптор Виллен обрек поэта на тридцать восемь сеансов позирования, и когда я робко выразил желание в свою очередь изобразить черты автора „Размышлений“, он грозно насупил свои олимпийские брови. „Я не могу помешать вам работать, – сказал он, – но я вас предупреждаю: позировать я не буду и ничего не изменю в своей жизни для вас; устраивайтесь, как хотите“. Я начал ходить к нему и сначала сделал массу быстрых набросков карандашом, для облегчения дальнейшее работы. Потом я принес свой штатив и глину. Но, конечно, я не мог расположиться с этой пачкотней в гостиной, где он обыкновенно принимал своих друзей, и должен был удовольствоваться верандой. Вы можете себе представить трудность моей задачи. Я внимательно всматривался в великого поэта, стараясь врезать в памяти его облик, потом бегом бросался на веранду, чтобы запечатлеть в глине воспоминание того, что видел. Но за эти две-три минуты впечатление стушевывалось, и я стоял перед своей глиной, боясь тронуть начатое. Приходилось опять возвращаться к модели».
В передаче Гюстава Кокио этот рассказ звучит несколько иначе: «Вспоминаю, что когда мне приходилось приближаться к великому человеку, к Виктору Гюго, к Эжену Делакруа, я выпивал для храбрости хороший бокал шампанского. Ах, этот бюст Виктора Гюго! В каких плохих условиях я его выполнял. Мне думается, без помощи подруги поэта Жюльетты Друэ я никогда не смог бы получить от Виктора Гюго и того получаса позирования, который он мне предоставил один раз навсегда. Он примирился с моим присутствием на террасе его дома единственно при условии, что я ничего не буду просить, что буду довольствоваться беглым взглядом на него и фиксацией нескольких существенных, черт. По счастью, я был способен работать по памяти; мой учитель Лекок де Буабодран дал мне в этом смысле крепкое воспитание; и я могу утверждать, что этот бюст я смог выполнить по памяти, сопоставляя подобным образом большое количество набросков профилей, зачерченных мною. Бюст этот, – я должен об этом заявить, – нисколько не понравился ни поэту, ни его окружающим».
[Закрыть]. Расположенная на втором этаже просторная комната Жюльетты Друэ стала не только гостиной, спальней и больничной палатой, но и мастерской художника. Жюльетта поставила по требованию Огюста кушетку так, чтобы ему лучше было видеть Гюго. Она отказалась ложиться в постель – ей не хотелось огорчать Гюго.
Жюльетта сидела, обложенная множеством подушек, всегда безупречно одетая, но силы ее с каждым днем убывали.
Гюго неизменно навещал ее хотя бы раз в день, как бы ни был занят, за исключением тех случаев, когда уезжал из Парижа. Огюст подозревал, что Гюго покидает Париж в связи с любовной интрижкой, а иногда от Жюльетты он отправлялся в «приют любви», но возле Жюльетты Гюго был сама преданность. Обычно на Гюго был сюртук с бархатным воротником и синий шелковый шарф, но, когда они оставались одни, он надевал черный шерстяной пиджак попроще. И иногда приходил без шляпы, щеголяя своими все еще густыми, коротко подстриженными волосами. Чтобы облегчить работу Огюсту, Жюльетта часто приглашала гостей; Гюго плохо слышал, в чем никогда не признавался, и когда вступал в общий громкий разговор, не замечал шума, производимого Огюстом.
Но скульптор предпочитал те дни, когда Гюго бывал наедине с Жюльеттой. При чужих Гюго, разглагольствуя, любил порисоваться или же был мрачен и раздражителен, и это мешало Огюсту, а наедине с Жюльеттой он был нежен, заботлив, как и подобало в такие минуты поэту, и держался непринужденно.
В такие дни Гюго читал ей, надевая очки – чего из тщеславия никогда не делал при посторонних, – давал ей лекарства, восхищался ее мужеством, мерил температуру, ел вместе с ней, чтобы своим здоровым аппетитом возбудить у нее аппетит, или – что она больше всего любила – читал ей рецензии на свои книги, которые не переставали появляться, главным образом за границей.
Но больше всего Огюсту нравилось, когда Гюго рассказывал Жюльетте о событиях в мире. Гюго принимался ходить взад и вперед по комнате, оживленный, энергичный, не останавливаясь ни на минуту; Гюго поносил мелкую буржуазию; Гюго критиковал Гамбетту, не включившего его в свой кабинет, хотя кабинет уже пал; Гюго цитировал изречение Аристотеля о жизни, которая ценна не сама по себе, а лишь облагороженная героизмом. И Огюст делал набросок за наброском. Он радовался своей привычке рисовать модель в движении, потому что именно в движении Гюго становился наиболее выразительным. Лицо Гюго особенно оживлялось, когда он говорил. Огюст не доверял первым впечатлениям, он уловил уже в предварительных набросках волевой подбородок Гюго, суровые линии щек, мощный лоб, чувственный рот, густые, выхоленные бороду и усы, горящие глаза, коротко подстриженные волосы, которыми Гюго так гордился.
Когда эти черты начали обретать индивидуальность, Огюст вчерне набросал очертания головы с помощью сухой иглы, чему его обучил Легро. Он заготовил множество набросков на случай, если не удастся закончить бюст.
Жюльетта таяла на глазах, хотя всячески старалась скрыть это от Гюго, отказывалась ложиться в постель. А Гюго все старался убедить ее, что она выздоровеет. Он не допускал в том и тени сомнения, словно из суеверного страха перед ее болезнью.
Огюст решил не очень поддаваться обаянию Гюго, но незаметно лучшие черты этого человека нашли воплощение в моделях: дух Гюго, не знающий поражений, его вера в благородные устремления человечества, хотя сам Гюго редко признавал благородство за кем-либо определенно. Бюст становился как бы утверждением самих верований Гюго.
Драпри оставались плотно задернутыми. Огюст приоткрывал их лишь на миг, чтобы взглянуть на Гюго. Труднее работы ему еще не приводилось делать, и только изредка удавалось посмотреть на натуру как следует. Да и работать в вечном страхе, как бы не услышали, было тоже очень трудно, но, пожалуй, хуже всего было то, что он не мог прикоснуться к натуре. Он жаждал ощупать лицо Гюго, как ощупывал, все, что лепил, чтобы передать структуру костей и мускулов. Давно он не страдал так от своей близорукости, как теперь.
Огюст работал словно одержимый. Прошел уже месяц, а готов был только один черновой вариант головы Гюго в глине. Почти закончен был второй бюст – Гюго, склонившийся над Жюльеттой. Но он знал, что не закончит бюст в бронзе – Жюльетта слабела с каждым днем – и придется работать по памяти, по гравюрным наброскам и глиняным маскам.
В эти дни Гюго покачивал Жюльетту в кресле, чтобы успокоить ее, облегчить боль. Она сдерживала слезы, когда Гюго был рядом, и видеть это было очень тягостно.
Но когда однажды в отсутствие Гюго Огюст предложил прекратить работу, Жюльетта не захотела и слышать. Она прошептала:
– Мэтр, в этом нет необходимости. Он не мог спорить; не скажешь же ей, что она умирает.
– Как движется работа? – спросила она.
– Прекрасно, прекрасно, – солгал он. – Получится великолепная, мужественная голова.
Мертвенно-бледное лицо ее слегка окрасилось румянцем, и она с трудом приподнялась.
– Покажите.
Он поднес глиняную модель, которая казалась ему лучше других, хотя теперь он вдруг усомнился, нравится ли она ему, – все на скорую руку и так несовершенно. Только вчера он изменил форму носа, а теперь хотелось уничтожить и вчерашнее. У него руки зудели тут же взяться за дело. Огюст ждал, что она покачает головой или нахмурится, но она лишь улыбнулась.
Он был уже в дверях, когда Жюльетта спросила:
– Вы закончите его, мэтр?
– Конечно. Поставите его возле себя, как хотели.
– Мне бы очень хотелось, дорогой Роден, но факты против меня.
Он подошел поближе, не зная, что сказать.
– Пожалуйста, не надо лекарств. Мне надоели лекарства. – Потом вдруг сказала: «Голова слишком массивна».
– В том-то и сила, – с пылом возразил Огюст. – Размеры, объемность.
– Мне нравится выражение лица. В нем есть нечто героическое, мужественное. Ему бы понравилось.
– Через несколько недель бюст будет готов в бронзе.
– Через несколько недель? – Она устало улыбнулась, словно речь шла о вечности, – Продолжайте, мэтр, прошу вас, сколько успеете.
Огюст обещал.
Спустя несколько недель Огюст, войдя в комнату, нашел Жюльетту на полу, без сознания. Он бережно поднял ее и уложил на любимую кушетку, позвал горничную. Нюхательная соль привела ее в чувство. Она поблагодарила Огюста и отказалась от врача.
Однако на следующий день ей пришлось лечь в кровать. Кровать находилась в дальнем углу огромной комнаты. Гюго сидел у изголовья и был почти не виден Огюсту.
Гюго был мрачен. Он чувствовал себя преданным – несмотря на все увещевания, Жюльетта отказывалась выздоравливать. Приводила в ужас мысль, что она умрет и оставит его одного.
Кроме того, Гюго стал беспокоиться о себе. Гамбетта, в самом расцвете сил, случайно поранил руку на испытаниях нового огнестрельного оружия для армии и умер от заражения крови 31 декабря 1882 года. Это взволновало Гюго – ведь он был почти вдвое старше Гамбетты, – а Огюст понимал, какого друга и опоры лишился он в лице Гамбетты. Скоропостижная смерть Гамбетты напомнила Огюсту, что он не получил очередной суммы за «Врата», хотя она была ему обещана, и Огюсту стало казаться, что он больше ничего не получит. А тут еще состояние Жюльетты, как ни старалась она скрыть от Гюго свою боль и страдания, стало совсем критическим. Работу в особняке на авеню Виктора Гюго пришлось прекратить. Комната больной заполнилась докторами и сиделками.
Огюст перенес незаконченные скульптуры в мастерскую на улице Данте, где мог потихоньку от всех продолжать работу над бюстами. Он пытался доделать бюст Гюго по памяти; припоминал, как Гюго сидел возле Жюльетты и нежно утешал ее. Но когда до него дошел слух, что и Мане умирает, он не мог сосредоточиться.
Они никогда не были близкими друзьями, размышлял он, но Мане еще слишком молод, чтобы умирать, ему всего пятьдесят один – в самом расцвете лет и творческих сил. Смерть его будет просто нелепостью; Мане только что наградили орденом Почетного легиона, о котором он так мечтал. Мане не успел еще насладиться наградой; рано ему умирать, бессмысленно. И когда через несколько месяцев после смерти Гамбетты за ним последовал Мане, Огюст воспринял это как предательский удар судьбы.
Вся страна была в трауре по случаю похорон Гамбетты, а Мане похоронили без шума, за гробом шли только друзья.
Огюст не выносил похорон и по возможности старался их избегать, но не отдать последней чести Мане было немыслимо.
На похоронах он увидел много старых друзей – Дега, Фантена, Моне, Писсарро, Малларме, Буше, и знакомых – Антонена Пруста, Сезанна, Золя.
Стоя у могилы, Дега воскликнул:
– И зачем я с ним столько спорил! – Дега выглядел совсем больным. – Сколько замыслов он не успел осуществить!
У Огюста еле нашлось сил кивнуть. Он вспоминал теперь дни в кафе Гербуа и в кафе «Новые Афины» как самую счастливую пору, хотя тогда этого не чувствовал. Никто из них не ходил больше в эти кафе. Он спросил Фантена:
– Как поживаешь, друг мой? – Они давно не виделись. Когда-то такой веселый и общительный, Фантен теперь сильно постарел, стал затворником, потолстел, от былой, бьющей ключом жизнерадостности и изящества не осталось и следа, да и картины его все больше и больше отдавали Лувром, как Дега предвидел еще много лет назад. – Много работаешь, Фантен?
Фантен пожал плечами и печально сказал:
– Нет больше импрессионистов – от нас не осталось и следа.
Неделю спустя умерла Жюльетта. Огюст ждал этого, и все же ее смерть тоже явилась для него ударом. За время работы над бюстом Гюго он проникся к ней самой глубокой нежностью. Он не знал, что делать с незаконченными бюстами писателя, за которые так ничего и не получил. Гюго был занят устройством ее дел, и Огюст не смел к нему обратиться. Он обернул влажными тряпками два бюста, которые ему нравились больше других, чтобы уберечь их от порчи.
3Прежде чем Огюст решил, за что теперь приниматься, тяжело заболел Папа. Доктор сказал: жить старику осталось всего несколько дней, и единственное, что можно сделать, – это окружить умирающего заботой.
Доктор спросил Огюста:
– Сколько лет Жану Батисту?
Огюст стал вспоминать: Папа родился в 1802 году, как и Лекок с Гюго.
– Восемьдесят один.
– Так я и полагал, – сказал доктор. – Он умирает от старости.
Огюст, который в последние годы уделял Папе совсем мало времени, теперь проводил с ним все дни. Он начал писать маслом портрет Папы, чтобы сохранить о нем память, да, кроме того, это не требовало от старика такого напряжения, как скульптура. Папа почти не приходил в себя, и Огюст рисовал его крупный нос, седую бороду, ясные синие глаза – теперь совсем незрячие, – румяные щеки, таким он помнил Папу с детства, хотя теперь его лицо было восковым. Огюст сосредоточил внимание на выражении, стараясь передать его точно, без налета чувствительности. Он удивился, как хорошо подвигается портрет. Его тянуло погладить холст, как он гладил скульптуры.
Однажды в полдень, как раз в тот момент, когда Огюст думал о том, что Папа отойдет в небытие без звука и без борьбы, тот пришел в сознание и хриплым, властным голосом потребовал всех к себе. Роза привела тетю Терезу и маленького Огюста, который превратился в невысокого, плотного семнадцатилетнего юнца. Они заговорили с Папой, чтобы он знал, что они тут, и, когда Папа услышал голос внука, лицо его прояснилось.
Папа сказал:
– Слушайся маму.
– Хорошо, – ответил маленький Огюст. Голос его слегка дрогнул.
– Не плачь, – сказал Папа. – Ты уже взрослый.
– Я не плачу, – всхлипнул маленький Огюст, – Я рад, что тебе лучше.
– Боже мой! – воскликнул Папа. – А врать ты горазд, не хуже своего отца. Подойди поближе, дай тебя обнять.
Маленький Огюст подошел, и Папа, руками отыскав его лицо, нежно поцеловал внука в обе щеки. Затем потянулся к тете Терезе.
Тетя Тереза сказала, держа его руки в своих:
– Ты выздоровеешь, Жан, вот увидишь. Папа слабо улыбнулся.
– Ну конечно, Тереза.
– Ты еще кричать на всех нас будешь, как в старые времена.
Но Папа вдруг стал мертвенно-бледным, тяжело закашлялся и прошептал:
– Дай мне поговорить с Розой и Огюстом.
Тетя Тереза увела маленького Огюста из комнаты. Папа сказал, чувствуя, как дрожат обнимающие его руки Розы:
– В чем дело? Он опять тебя забыл?
– Нет-нет, Папа, – Роза старалась подавить слезы. – Огюст очень много работает. Он теперь пишет твой портрет.
– Портрет? – проворчал Папа. – Он ведь скульптор.
– Прекрасный портрет, – гордо сказала Роза.
– Он хорошо зарабатывает? – Былая живость прозвучала в голосе старика. – Ему заплатили следующую сумму за тех чудовищ – за «Врата»?
– Нет еще. Но заплатят, дорогой Папа.
– Он больше ничего не получит, – уверенно сказал Папа, – никогда не получит.
– Вам нельзя разговаривать, – сказала Роза, – доктор наверняка запретил бы.
– Доктор? – Папа сделал удивленное лицо. – Поздно звать доктора, Огюст, я же говорил, что ты никогда не заработаешь на жизнь скульптурой.
– Конечно, ты прав, Папа, – ответил Огюст, чтобы не раздражать старика.
– Послушался бы меня и пошел в префектуру, скоро бы уже и на пенсию.
Никто ему не ответил.
– Можешь не отвечать, – сказал Папа. – Дай руку, Огюст.
Огюст положил свою руку на руку Папы, Папа крепко стиснул ему пальцы и не отпускал. Он стал просить:
– Относись хорошо к Розе. Она была мне за родную дочь.
– Я постараюсь, – сказал Огюст.
– Это не обещание. – Папа сжал пальцы Огюста с такой, силой, что хрустнули суставы. Он метнул грозный взгляд в ту сторону, откуда шел голос Огюста, и заявил:– Твое старание не многого стоит.
– Пожалуйста, Папа, – вмешалась Роза. – Не надо…
– Нет, ты меня не остановишь. – Опершись на руку Огюста, Папа приподнялся и сел на кровати. – Огюст, обещай мне, что женишься на Розе.
– Этого я не могу обещать, – медленно, с трудом проговорил Огюст. – Но обещаю заботиться о ней. – Разве может он забыть о том, что Роза сняла для него его первую мастерскую, дала ему возможность работать самостоятельно, стать самим собой? Все другие только брали, но не давали.
– Этого недостаточно, – настаивал Папа. Громадным усилием воли Папа сохранял сидячее положение, грудь его тяжело вздымалась, дыхание было хриплым, словно он боролся с врагом. – Никаких отговорок. Обещай мне, Огюст, что женишься на ней.
– Я позову доктора, – забеспокоилась Роза, встревоженная его тяжелым дыханием.
– Не надо. Обещай мне, Огюст, обещай.
– Ну… – пробормотал Огюст.
– Я не отстану, пока ты не дашь мне слово. Обещай!
– Я сказал, что буду заботиться о ней.
– Ты забудешь об этом, если не дашь слово. – Ты ничего не понимаешь.
– Обещай, Огюст, – настаивал Папа. – Обещай!
– Когда-нибудь, – со вздохом сказал Огюст. – Когда-нибудь…
Слепые глаза Папы подозрительно уставились на Огюста, и тогда Огюст сказал:
– Я обещаю, когда-нибудь. И Папа медленно улыбнулся.
– Господи, ну и упрямец, это у тебя в крови. – Он еще минуту гордо восседал на кровати, а затем повалился на подушки.
Сильные руки Огюста поддержали его, Роза вскрикнула, перекрестилась и побежала за священником, но к приходу священника Папа был уже мертв.
4Похоронив Папу на семейном кладбище– Огюст приобрел участок земли на кладбище, чтобы хватило места для него, Розы и маленького Огюста, – Огюст повел Розу посмотреть дом на улице Августинцев.
После смерти Папы Огюст ни словом не упоминал о женитьбе, но Роза была благодарна, что он не забыл ее и сына, когда покупал участок на кладбище. Она восприняла это как знак внимания, но, когда стала благодарить и сказала, что теперь она спокойна, он рассердился и переменил тему разговора.
Огюст и не думал, что будет так тяжело переживать утрату Папы. Он вспоминал, как Папа бранил его за пристрастие к рисованию, за неаккуратность, рассеянность. И, вспоминая, улыбался, хотя сердце по-прежнему разрывалось от горя. Папа на все случаи жизни имел собственное мнение, рассуждал Огюст. Что-что, а эту черту и он от него унаследовал.
Когда они повернули с набережной Августинцев на улицу того же названия – узкую, короткую, между Новым мостом и мостом Сен-Мишель, – Огюст указал Розе на большой старый дом неподалеку от Сены в благородном старом стиле, выделявшийся среди других.
– Тебе нравится? – спросил он.
– Целый дом? – с неверием в голосе спросила Роза. – Ты хочешь снять его целиком?
– Я купил его. – Солнце играло на черной муаровой повязке, которую он носил в знак траура, – Прекрасный дом, не правда ли?
Роза знала, что лучше не спорить. Целый особняк в том стиле, который ей нравился, но его будет трудно отапливать и прибирать. Она вяло кивнула.
– При нем сад с клумбами и деревьями, есть где вздохнуть. Тебе будет казаться, что ты снова в своей любимой Лотарингии.
– По карману ли нам это, дорогой? Ты ведь не получал больше за «Врата»? И за бюсты Гюго?
– За «Врата» заплатят. Вот все подготовлю, придет инспектор, оценит. И я теперь всегда могу получать заказы. Вошел в моду. За последние месяцы у меня было много предложений. Но я и думать ни о чем не мог, все эти утраты… – Он смолк, не желая поддаваться печали, которая временами овладевала им. – Но скоро я надеюсь приняться за работу, вот только устрою тебя и маленького Огюста.
– Маленького Огюста? – Лицо ее осветилось.
– Да. Тебе нравится наш новый дом?
– Если тебе нравится, мне тоже, дорогой. Он был разочарован и сказал:
– Я купил его для тебя.
– Не спрашивая меня?
– Хотел сделать тебе сюрприз.
– И верно, сюрприз. – Она осторожно спросила: – Мы будем занимать весь дом?
– Как захотим, – сказал он с гордостью. – Мы не собираемся жить, как Людовик XIV, но теперь дела пойдут в гору.
– А как с мальчиком? Он бросил школу, все время гоняет на улице. Хоть Папу иногда слушался, а теперь не знаю, что с ним и делать.
Лицо Огюста стало торжественным, что бывало с ним редко.
– Я беру мальчика к себе в мастерскую, – объявил он.
Такого сюрприза она не ожидала.
– Уборщиком? – скептически спросила она.
– Нет, – решительно сказал Огюст. – Не буду стараться сделать из него художника, но он может работать натурщиком: проявил некоторые способности, может вести счета, покупать материал…
– Ведать твоими делами? – с радостью спросила она.
– Возможно. Если справится.
– О Огюст! – Роза в порыве признательности обвила его руками впервые за долгое время, и, хотя дело было на улице, он не отстранился. – А я буду экономно вести хозяйство. – Она замолчала, сомневаясь, имеет ли право быть такой счастливой-ведь Папа умер так недавно.
Огюст, видя слезы на ее глазах, сказал:
– Папа был бы доволен. Он любил мальчика.
В порыве радости, глядя на большой старый дом, Роза сказала:
– Вот о чем я всегда мечтала, о настоящем доме, как ты – о настоящей мастерской. Дорогой, ты не должен бросать работу. Я знаю, тебя сильно огорчили все эти утраты – Гамбетты, Мане, Папы.
– И мадемуазель Друэ. Я к ней тоже привязался. И очень сильно.
– И я тоже. – Роза стала серьезной. – Она была такой преданной. Но не печалься, Огюст. – И с непосредственностью, заставившей его улыбнуться, продолжала:– Все смертны, а искусство вечно. Истинное искусство. Такое, как твое.
– Возможно.
– Конечно, оно живет. Ты станешь самым знаменитым скульптором в Париже.
Огюст промолчал. Роза желает ему только добра, но бесполезно обсуждать с ней творческие планы. Хозяйство – вот ее стихия. Он провел Розу в гостиную нового дома и показал, где повесить портрет Папы, написанный им.
Часть пятая. Страсть
Глава XXVIII
1В то утро Огюст ожидал инспектора из Школы изящных искусств и очень волновался. Прошел год после смерти Папы, и весь год он не разгибаясь работал над «Вратами ада», но до завершения было все так же далеко. Кое-что, правда, было сделано. Решена была окончательная композиция, и подготовлено множество фигур.
Он стоял в дверях просторной мастерской на Университетской – отсюда было удобнее всего обозревать «Врата». Они возвышались пред ним: законченные фигуры Уголино, Паоло и Франчески, Блудного сына и множество других – мятущиеся, сплетенные в муках тела любовников; глядя на них, он думал, что бы ни сказал инспектор, год не прошел зря. В этих обнаженных фигурах он достиг новой выразительности, Обнаженные тела, которые теперь ласкали его глаз художника, – существа потустороннего мира, их терзали жестокие демонические страсти, плоть пожирала плоть.
И вдруг его радость померкла. Вернулись тяжелые предчувствия. Инспектор будет придираться-это ясно. Большая школа была его извечным врагом, и хоть жизнь и ушла вперед, Школа оставалась оплотом классицизма, рядящего наготу в тогу отвлеченной, оторванной от жизни утонченности, а его «Врата» – настоящая оргия чувственности. Он посмотрел на тимпан над «Вратами». Фигура, которую он создал по мотивам Данте и назвал «Поэт», не получилась. В позе сидящего – локтем он опирался о колено, рукой подпер подбородок – не чувствуется напряженности мысли. Человек погружен в задумчивость, но ему чего-то не хватает. И менять что-либо до прихода инспектора уже поздно.
А все из-за того, что он был слишком занят, размышлял Огюст. Они переехали в новый дом, который Роза обставила с простотой и строгостью в соответствии с его указаниями и советами. Маленький Огюст проводил с ним все дни в главной мастерской и выполнял под наблюдением отца важные поручения: покупал глину, гипс и другие материалы. «Иоанн Креститель» стал собственностью Люксембургского музея, а «Бронзовый век» установили в Люксембургском саду, хотя с Огюстом не посоветовались и поставили статую в глухой части сада – там, где он играл когда-то ребенком. Готовы скульптурные портреты Хэнли и Легро и ряд частных заказов, но, как только он заработал столько, что мог оплатить расходы по «Вратам», от остальных заказов он отказался.
С большой неохотой, по необходимости, Огюсту пришлось взять в помощники учеников: Роберта Браунинга-младшего, сына Роберта и Элизабет Браунинг, избравшего в области искусства скульптуру, а не литературу, поскольку тут его опередили родители; Баден-Поуэлла[80]80
Баден-Поуэлл, Фрэнк-Смит (род. 1850)-английский живописец и скульптор, ученик Каролюса-Дюрана и Родена.
[Закрыть] – живого, не лишенного способностей юношу, сына известного английского ученого; Жюля Дюбуа, которому было уже за тридцать, ставшего первым помощником Родена и добившегося признания-он работал в манере учителя, – и нескольких других учеников, выполнявших всю подсобную работу.
Мастерская на Университетской постепенно заполнилась и натурщиками, которых Огюст подбирал для фигур «Врат». Женщины в большинстве были пышные, а мужчины, напротив, подбирались с мускулистыми, подвижными телами. Огюст не нанимал больше натурщиков-итальянцев, таких, как Лиза, Пеппино или Сантони; он обратился к французам не потому, что считал их более надежными или более красивыми, просто они серьезнее относились к деньгам и больше дорожили хорошо оплачиваемой работой. День начинался с того, что мэтр выстраивал в ряд обнаженных натурщиц и заставлял их прохаживаться перед ним.
Мужчин он тоже выбирал в движении. Все натурщики, и женщины и мужчины, должны были расхаживать по мастерской без всякого стеснения, иначе мэтр не мог их лепить. В мастерской часто бывало нетоплено, негде было присесть отдохнуть, но редко кто отказывался от работы: платили за терпение и послушание на совесть.
С беспокойством думая о приходе инспектора – да и придет ли вообще, – Огюст оглядывал мастерскую и сознавал, что может гордиться: его мастерская теперь одна из самых людных в Париже. Но он не был доволен собой. Бюсты Гюго, обернутые влажными тряпками, стояли на улице Данте все еще незаконченные. Он не знал, сколько потребуется времени, чтобы завершить «Врата». Чем больше он вглядывался, тем больше видел недостатков, требующих доделки.
Он начал было диктовать перечень исправлений маленькому Огюсту, но тот через минуту уже не успевал записывать указания отца. Юноша говорил косноязычно, писал с ошибками и легко отвлекался, особенно когда рядом прохаживалась хорошенькая натурщица. Огюст вздохнул и замолчал. «Придется завести секретаря», – с беспокойством подумал он. Жизнь его все больше усложняется. Найти бы только человека, на которого можно положиться, такого, который взял бы на себя руководство мастерской.
– Можно мне теперь уйти, мэтр Папа? – спросил маленький Огюст.
Огюст подозрительно посмотрел на него.
– Ты ведь знаешь, сегодня ответственный день. Я жду инспектора. Все должно быть в порядке.
– Все и так в порядке. Я поставил «Врата», как ты указал.
– Зачем тебе надо уйти? Спешишь к девушке?
– Нет, мэтр Папа. – К натурщице?
– Нет-нет! Мама хочет, чтоб я помог ей выбрать мебель для гостиной.
Огюст не поверил, но сказал:
– Я же сказал, что у нас довольно мебели. Не собираюсь я жить, как король.
Маленький Огюст пожал плечами, избегая отцовского взгляда; а через мгновение, когда Огюст отвлекся, передвигая «Врата» на другое, более выгодно освещенное место, юноша исчез из мастерской.
В мастерской от него никакой пользы, с грустью подумал Огюст. Парню было скучно в школе, а в мастерской еще скучнее, только и ждет случая удрать. Все это печально и малоутешительно.
Вот если позировала особенно привлекательная натурщица, маленький Огюст охотно оставался в мастерской. Отец запретил сыну завязывать знакомство со своими натурщицами. Мальчику только восемнадцать – совсем еще ребенок!
Думы Огюста прервал его любимый помощник Жюль Дюбуа:
– Мэтр, инспектор пришел.
Инспектор из Школы изящных искусств, мосье Габриэль Пантен, представился и ждал, что скажет скульптор.
Стройный, темноволосый мужчина, инспектор оказался гораздо моложе, чем ожидал Огюст; ничто не ускользало от внимательного взгляда его карих глаз. Скульптор подвел его к «Вратам».
Наступила длительная пауза: инспектор столь пристально рассматривал «Врата», что Огюст забеспокоился.
– Они еще не закончены, не так ли? – спросил инспектор.
– Нет. Это рабочая модель. – При мысли, что он опять во власти Школы изящных искусств, Огюсту стало не по себе.
– Сколько еще потребуется времени, как вы полагаете?
– Год. Два. Может быть, три.
– Вы говорили то же самое три года назад.
Как объяснишь инспектору, что тогда он и сам в это верил, а вот до сих пор блуждает в темноте, мучается в собственном аду.
– Несколько лет ничего не значат. Музей декоративных искусств ведь не закончен.
– Школа изящных искусств считает, что нужно назначить окончательный срок, раз и навсегда.
– Но я не получал больше денег. Вы тоже не выполняете свои обязательства.
– Вот как? – На лице инспектора появились удивление и даже легкое смущение. – За последние годы у нас было столько смен кабинетов, видимо, отсюда и недосмотр.
– Из-за этой работы я влез в долги.
– Печально, но это не должно вас беспокоить.
Огюст чуть не вспылил, хотелось послать инспектора и всех чиновников ко всем чертям, сказать, что он не пропадет и без них. Но мысль об отказе от работы над «Вратами» была невыносима, а тут без официального одобрения не обойдешься. Во что он только впутался! Надо уметь хитрить, а он слишком прямолинеен. Огюст стоял в угрюмом молчании. Габриэль Пантен осмотрел мастерскую, где кипела работа.
– Вы работаете здесь и над другими вещами?
– Да, – отрезал Огюст. – Но «Врата» – главное.
– Если вы получите следующую сумму, скажем, через месяц, сколько понадобится времени, чтобы закончить?
– Три года. Не больше. Если мне заплатят сполна. Я обещаю.
Инспектор смягчился, улыбнулся и сказал:
– Фигуры прекрасны. Они выгодно отличаются от холодных обнаженных классических скульптур. Ваши «Врата» передают подлинную атмосферу ада. В них таится нечто мрачное, они вызывают ужас, ваш замысел грандиозен. Мне не нравится сидящий наверху поэт, но Уголино с ввалившимися глазами несомненно хорош – в нем есть что-то влекущее и одновременно пугающее.
Огюст проговорил, запинаясь от изумления!
– Но мне казалось, Школа, ее взгляды…
– Меня направил к вам Антонен Пруст. – Вот как!
– Идя к вам, я боялся увидеть огромную фреску, населенную беспорочными Венерами и Аполлонами, угодившими в ад по недоразумению. А вместо этого, как правильно сказал Буше, ваши ню действительно голые. Это не какие-то сонные, безгрешные, академически правильные фигуры, а свободные, в непринужденных позах, чувственные тела. Ничего удивительного, что провинциалы шокированы. Ваш «ад»– это вихрь мучительной, корчащейся от боли похоти. Он будет поражать, но и приковывать к себе внимание.
– А как насчет оплаты? – пробормотал Огюст.
– Это настоящее произведение искусства. Я внесу предложение о немедленной выплате вам дополнительной суммы.