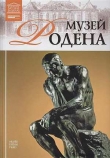Текст книги "«Нагим пришел я...»"
Автор книги: Дэвид Вейс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц)
– Можно и у него. Ведь мы платим больше, чем он.
– Наймем копииста, подмастерья, непризнанного, какими были сами, и будем эксплуатировать?
– Мы будем платить. Нет ничего унизительного в том, чтобы быть подмастерьем. Сумеет продавать собственные работы, пусть их подписывает.
– О, как вы благородны. Как тогда, когда подсчитали, что в Бельгии будете продавать куда больше, чем во Франции.
– Я не виноват, Огюст, что Франция такая отсталая страна.
Огюст укоризненно посмотрел на Ван Расбурга, уверенный, что в глубине души его партнер издевается над ним, но Ван Расбург смотрел на него искренне и без тени насмешки.
– Вы очень утомлены, – упрашивал Ван Расбург. – Вам действительно необходим отдых. Умоляю вас, друг мой, пока мы с вами окончательно не поссорились, поезжайте в Амстердам. Вам нравится Рембрандт, и вы будете очарованы им, когда увидите его в Рийксмузеуме. Самые лучшие его работы там. Поезжайте на неделю. То, что будет сделано без вас, поделим пополам.
Огюст, уже сдаваясь, все еще сомневался.
– А в следующем году сможете поехать в Италию. Мы поднимем наши цены.
– А это не уменьшит спрос?
– Не думаю. Огюст, сколько вам лет?
– Тридцать три. – Последние несколько дней, после письма Дега, ему казалось, что он уже глубокий старик.
Ван Расбург достал из кармана сто франков. Подарок на прощание. На путевые расходы. И отмахнулся, когда Огюст начал благодарить. Вернувшись, Огюст будет работать с еще большим усердием.
Вечером Огюст сказал Розе, что на несколько дней уедет в Голландию.
– Деловая поездка, – пояснил он, заметив ее растерянность.
Она спросила:
– А что я буду делать, пока тебя нет?
– Ты будешь присматривать за мастерской. По возвращении я буду больше работать здесь, – сказал он.
Она с трудом сдерживала слезы. Огорченная, испуганная, она прижалась к нему, словно ища у него защиты. Но он не отвечал на ее ласки. Он думал о том, что ему в первую очередь надо посмотреть в Амстердаме.
Огюст уехал на следующее утро. «Вернусь примерно через неделю» – вот и все, что он сказал ей на прощание. Роза чуть не плакала. И за что он к ней так несправедлив? Когда дверь за ним закрылась, она опустилась на колени и молила святую деву о прощении. Будь они женаты, этого никогда бы не случилось, но разве тут ее вина?
Огюст быстро шагал по улице, он боялся, что смягчится и повернет назад, чтобы попросить у нее прощения за свою грубость. В конце улицы обернулся в надежде, что она стоит в дверях, он хотел помахать ей на прощание. Ее не было на пороге, и ему стало досадно, но он ведь сам запретил провожать: не любил сентиментальностей. Это к лучшему, что он не вернулся. Путь лежал в Амстердам, город, где его ждало столько удовольствий.
Глава XVII
1Огюст приехал в Амстердам и сразу направился в Рийксмузеум. Медленно прогуливался он по залам самой богатой коллекцией картин Рембрандта, какую он когда-либо видел. Он был чуть ли не единственным посетителем музея. Глядя на все это богатство, он думал: собрать бы тут произведения Рембрандта, рассеянные пo всему свету. Жаль, что нельзя, думал Огюст, хотя и рад был раньше повидать Рембрандта в Лувре.
Плохо освещенные залы раздражали его.
Многие картины сильно пострадали от времени.
Толстый слой лака не мог скрыть трещин; что особенно бросалось и глаза в «Ночном дозоре», главном украшении Рийксмузеума. Краски на картине выцвели и приобрели грязноватый оттенок. Рама была старомодной. Даже некоторые великолепные карандашные наброски покрылись пылью и пятнами.
Он вспомнил Ренуара и Дега, которые не всегда разделяли его восхищение Рембрандтом. Ренуар считал голландца чересчур меланхоличным, а Дега полагал, что он недостаточно меланхоличен. Огюст вспомнил слова Ренуара: «На его картинах почти не сыщешь хорошенькой женщины, в палитре преобладают грязноватые тона, у него так много черного, и мне не нравится его мазок». Он вспомнил, что Дега, который стоял рядом, добавил: «Ты просто не разобрался: то, что Рембрандт великий художник, – это общеизвестно. Да, я признаю, что рисунок у него превосходен, когда он действительно знал, чего хотел, но Энгр мне больше по душе – такая чистота линий. Это нельзя не признать. Его картины скульптурны».
Может, и так, думал Огюст, но именно из-за этих недостатков он еще больше отдавал ему предпочтение. Рембрандт был самым любимым его художником. Что бы там ни говорил Дега, у Рембрандта не было и тени сентиментальности, да и протестантская праведность была ему тоже чужда. А его темные тона таили в себе глубину, объемность, выразительность.
Его интуитивная тяга к Рембрандту постоянно боролась с неверием в Рембрандта его друзей, что еще больше усиливало эту тягу. Рембрандт не столько подчинял его своему влиянию, сколько трогал до глубины души. Кто бы что о нем ни говорил, картины Рембрандта притягивали Огюста, словно они были его плотью и кровью.
Он каждый день посещал Рийксмузеум. В Амстердаме были и другие музеи, но их очередь еще не подошла. Он ни с кем не обменивался мнениями, а просто стоял, смотрел, впитывал, жадно поглощая малейшие детали. «Мир Рембрандта – это никак не мир захватывающей дух красоты, – размышлял он, – нет, скорее, в нем преобладало безобразное». Его не покорил и знаменитый «Ночной дозор». Картина висела в отдельном зале. Она показалась ему слишком громоздкой, замысловатой, а композиция – несколько непродуманной.
Его привлекали только лица, из-за них он не раз возвращался к картине. Изображая их, художник как бы признался всему миру, что великая тьма окружает его. Рембрандт, уже обреченный человек, обессмертил этих людей своим талантом, воображением и умом, хотя смерть отняла у него все, что было ему дорого, смерть подкрадывалась к нему самому, а люди всячески унижали его, называя ничтожеством, неудачником, нищим. И все же Рембрандт продолжал писать, не затем, чтобы отомстить за себя, а потому, что не писать не мог.
Рембрандт откликался на события своего времени. Рембрандт остро чувствовал весь трагизм борьбы человека с судьбой и отобразил эту борьбу как ее свидетель и участник. Страдания духа и плоти у него едины. Амстердам не оценил Рембрандта, и художник с годами примирился с этим.
Примирился! Эта мысль не давала Огюсту покоя. Он не собирался подражать Рембрандту или идеализировать его. Что бы он ни читал о художнике, всюду говорилось о его недостатках, безалаберности, расточительности. Огюст так ненавидел эту расточительность, внезапные порывы тщеславия Рембрандта, его пороки. И все же вся жизнь художника была бесконечным поиском истины.
Без всякой сентиментальности Рембрандт неопровержимо и убедительно показал людям, сколь бренна жизнь, сколь разрушительно ее воздействие и сколь неизбежны смерть и конечное разрушение, которые часто приходят раньше самой смерти. В конце концов художника стала интересовать лишь внутренняя жизнь изображаемых людей, их лица, почти поглощенные тьмой, часто освещенные лишь одним лучом света. Эти лица выражали непрерывность борьбы между свтом и тьмой. Все остальное было для художника второстепенным.
Огюст делала множество набросков. Впервые за все годы он испытал неодолимое желание приняться за новую работу. Снова рука обрела легкость и стремительность, покрывая рисунками лист за листом многочисленных альбомов. Как хорошо, что он приeхал один. Он был полон идей собственных, и Рембрандт тут совсем ни при чем, говорил он себе. Он современный человек, человек девятнадцатого века.
И куда лучше в одиночестве впитывать виденное, когда ничто не мешает. Пусть свет и тьма Рембрандта пробуждают в нем новые, неизведанные чувства. Что бы ни изображал художник – молодого или старого еврея, крепкую, сильную Магдалину или толстого бюргера, покорную служанку или свою возлюбленную Саскию, – он всегда прежде всего изображал человека.
У Огюста возникало желание вылепить голову – голову Венеры, Адама, поэта – кого угодно, лишь бы вновь почувствовать всю выразительность и силу камня. «Я был прав, когда старался постичь внутреннюю жизнь моих моделей, – думал он, – Биби, отца Эймара, доктора Арно, Папы или Розы, и это всегда должно оставаться главным в моей работе».
В последующие дни Огюст заставил себя оторваться от изучения картин Рембрандта и перешел к Рубенсу и Гальсу, Вермееру и Брейгелю. Он внимательно изучал их работы и наслаждался ими, особенно Рубенсом, произведения которого напоминали ему скульптуры. Но близился день отъезда.
Прошло уже две недели, Ван Расбург и Роза, должно быть, волнуются.
Рембрандт по-прежнему притягивал его, но сам Амстердам он покидал без особого сожаления. Город ему не понравился. В эти зимние дни он был промозглым, серым, туманным, иссеченным бесчисленными каналами. Каналы раздражали Огюста – он предпочитал твердую почву, и архитектура города была слишком прочной, надежной и часто примитивной и чересчур суровой.
Он посетил Уэстер Керк, голландскую реформатскую церковь семнадцатого века, где был похоронен Рембрандт, и разочаровался. Церковь не производила впечатления легкой и воздушной, а была, напротив, тяжелой и темной и, казалось, вся пропиталась запахом дукатов. Он решил, что Амстердам еще мелко-буржуазнее, чем Брюссель.
В свое последнее утро в Амстердаме он на прощание побывал в доме Рембрандта на Йоденбреестраат, где художник создал свои основные шедевры. Дом оставил у него грустное впечатление, трудно было представить себе, что все эти работы родились в этой древней постройке. Дом находился в старинном еврейском квартале, многие обитатели которого послужили Рембрандту моделями. Зачарованный Огюст пошелдальше и скоро очутился у дома, где родился Барух Спиноза.
По пути в Брюссель он много размышлял. Рембрандт, по-своему переосмыслив свет и тень, создал произведения неведомой дотоле глубины. Огюст был благодарен Ван Расбургу; без лишних ста франков он не смог бы пробыть в Амстердаме две недели. Роден вернулся в Брюссель, довольный тем, что открыл для себя новый мир.
2Ван Расбург ни словом не упрекнул Огюста. Ему не понравилось, что тот пробыл в Амстердаме две недели, но, как он и ожидал, партнер с еще большим рвением взялся за работу.
Роза встретила Огюста так ласково, словно он отсутствовал всего один день, и Огюст, в которого поездка влила новые силы, стал с ней нежнее.
– Да, дорогая, Амстердам мне помог.
В нем обострились все чувства; он понял, что талант его возрос и силы неисчерпаемы. Он стал проводить много времени у себя в мастерской, работал над бюстами, над несколькими одновременно.
После поездки в Амстердам Огюст по-новому организовал свою работу. Как только беспокойство вновь овладевало им, он на несколько дней оставлял Брюссель и отправлялся изучать музеи и соборы Бельгии и Голландии. Партнер был недоволен, но не решался противоречить – ведь он сам подал ему такую идею. А Огюст, уезжая, всегда оставлял запас готовых работ – больше, чем могли отлить в его отсутствие. И он перестал сетовать, что не подписывает собственные произведения; ой словно жил в ожидании чего-то, что позволит ему осуществить все его заветные замыслы, и Ван Расбург молча скрывал растущее недовольство.
Роза никогда не знала, когда Огюст уедет, куда, она покорно ожидала его возвращения и следила за мастерской. Огюст побывал в Брюгге и Гаарлеме, Антверпене и Гааге и всюду рисовал, делал наброски, создавал в своем воображении новые скульптуры, наблюдал, и душа его живо откликалась на все увиденное Он еще несколько раз побывал в Рийксмузеуме, и куда бы ни приезжал, всюду старался разыскать картины Рембрандта.
После поездки он месяц или два оставался в Брюсселе и работал. Но замысел той, самой важной скульптуры оставался для него неясным.
И от этого все сильнее разгоралось в нем желание увидеть Италию и Микеланджело. Это неизбежно, сказал он Ван Расбургу, ему необходимо там побывать.
– Чтобы узреть новые шедевры? – спросил Ван Расбург, и насмешливая нотка прозвучала в его обычно ровном голосе. – Разве мало вы их уже повидали?
На мгновение Огюст оскорбился. Но тут же понял, что Ван Расбург задал вопрос без задней мысли. Да и что он понимает в таких вещах?
– Разве нельзя немного подождать? У нас очень много заказов.
– Нет. Если я не поеду сейчас, то, наверное, уже никогда не поеду.
Ван Расбург был явно недоволен, но его радовало то, что он выполнил заранее большую часть заказов.
– Жозеф, ведь вы знаете, я давно собирался поехать в Италию, а зима – самое подходящее время.
– Италия. Вы говорите о ней словно о земном рае.
– Меня влечет Микеланджело. Я хочу увидеть «Моисея» и «Давида». Я так зол на себя: мне кажется, я ничего не достиг в жизни.
Ван Расбург предупредил:
– После такой поездки вы, возможно, уже никогда не будете довольны собой.
– Жозеф, дайте мне денег взаймы, – с неожиданной настойчивостью сказал Огюст.
– Если вы согласитесь выполнять заказы для церкви, это покроет расходы на поездку. Ваша церковная скульптура прекрасна. Но вы отвергаете такие заказы, – проворчал Ван Расбург.
Огюст многозначительно сказал:
– Возможно, после Микеланджело я изменю мнение.
Или еще больше разочаруетесь в нашем содружестве, подумал Ван Расбург. Но он знал, что Огюста не переубедишь; если принял решение – ни за что не отступится. – Сколько вам надо?
– Восемьсот франков.
– Восемьсот!
– Слишком много? Пожалуй, хватит и семисот, друг мой, просто нужно побольше, на всякий случай.
Ван Расбург знал, что потребуется по крайней мере тысяча, и все же запротестовал:
– Восемьсот франков? Да вы разорите нас, Огюст.
Огюст ждал, какое решение примет его партнер. Весь успех их дальнейшей работы зависит от этого решения. Он не оставит партнера, но отныне главное внимание будет уделять собственной работе.
В последний момент Ван Расбург расщедрился на девятьсот франков, решил показать, что не такой уж он черствый человек. Огюст остался доволен, но решил ограничить расходы семьюстами франками.
Глава XVIII
1Огюстом завладела предотъездная лихорадка. Как только деньги были на руках, он стал собираться в путь. О поездке он сказал Розе только накануне. Новость потрясла ее. Раньше Огюст уезжал всего на день, на два, самое большее на две-три недели, а Италия так далеко, его не будет несколько месяцев.
– Как мне жить без тебя, дорогой? – спросила она.
– Очень просто, – ответил он. – Будешь присматривать за домом, за мастерской, за моими работами, менять тряпки, смачивать глину, чтобы по возвращении я мог тут же приняться за работу.
В расчете на теплую итальянскую погоду он надел дорогу летнее пальто и синюю блузу, которая годилась на все случаи жизни и делала его похожим на мастерового. Он взял с собой карту Италии. Милан, Турин, Генуя, Пиза, а потом самые главные города – Флоренция и Рим. Он точно разработал план поездки. Его интересовало только одно: анатомия человеческого тела. Он точно знал, что ему надо увидеть.
– Когда ты вернешься?
– Скоро.
– Через несколько дней? – Через несколько недель.
Роза посмотрела на стены мастерской, забрызганные глиной и алебастром, на грязь на полу, на безобразную чугунную печку, на отливки и несколько небольших фигур из терракоты и пожаловалась:
– Мне нечем заплатить бакалейщику, а ты требуешь: «Контро»! А теперь уезжаешь в Италию. Откуда у тебя деньги?
Огюст не ответил.
– Тебя весь день нет дома, все бегаешь по музеям и соборам, а мне не на что вести хозяйство. Может быть, вернешься – а меня выбросили на улицу со всеми нашими пожитками!
– Разве у тебя нет денег? – удивился Огюст. Он дал ей немного с месяц назад.
– Всего несколько франков осталось. Мало. Может, мне спросить у Ван Расбурга?
– Нет! – вдруг отрезал он. – Вот, возьми. – И дал ей пятьдесят франков, хотя это значительно урезало его ресурсы.
Роза приняла деньги и тут же решила, что сэкономит по крайней мере половину. Ее возмущало, что он не берет ее с собой в Италию. «Стыдится меня», – подумала она и расплакалась.
Огюст чуть было не вышел из себя; потом вспомнил, что уезжает надолго, а только Розе можно доверить мастерскую.
– Ну что ты, дорогая, все не так уж плохо, – сказал он. – Я постараюсь не тратиться и буду часто писать.
Он ушел, и Роза снова разрыдалась. Она чувствовала себя прикованной к Огюсту цепями, которые душат ее. Он относился к ней то как к экономке, то как к любовнице, и это ее терзало. Иногда решала что уйдет, если он на ней не женится, но прошло уже десять лет, а о браке не было и разговора. Она презирала себя за свою слабость, наверное, она недостаточно благочестива, надо было поставить пресвятой деве самую большую свечу, решила она. А теперь только одному всевышнему известно, когда вернется Огюст. Она могла вынести все, что угодно, но ее терпению пришел конец. В один прекрасный день поклялась она себе: возьму и уйду от него, вот только сэкономлю немного денег. От этой мысли Роза воспрянула духом. Вытерла глаза и присоединила пятьдесят франков к той довольно крупной сумме, которую ей удалось скопить. Хорошо, думала она, что Огюст такой рассеянный, он никогда не помнил, сколько давал. К его возвращению, если на то будет воля божья – а уж она будет экономной, да еще приработает и шитьем, – у нее хватит денег, чтобы вернуться в Париж, пусть даже без него.
2Реймс был первой остановкой Огюста по пути в Италию. Он был очарован Реймским собором и осматривал его весь день. Собор излучал какую-то благоговейную печаль. Огюст долго разглядывал головы Иоанна Крестителя, пресвятой девы в Благовещении и святой Елизаветы самые известные из многочисленных скульптур, украшавших собор. Они были совсем живыми. Ом с интересом отметил, что резчик придал им выражение горести. Тяжелой печатью лежала она на их лицах. Где-то в тринадцатом или четырнадцаом веке, раздумывал Огюст, некий французский скульптор впервые придал индивидуальность своим произведениям. Для Огюста эти фигуры были предвестниками появления всех последующих поколений французских скульпторов. Он был благодарен им за то, что любовь к богу не превысила их любви к правде. На Реймс у него был всего один день, ведь еще столько надо было посмотреть в Италии.
Следующие несколько дней он провел в Лозанне и Женеве. Огюсту понравились оба эти города, особенно архитектурная планировки Женевы, и он пришел в восхищение от Альп, «Они неправдоподобно красивы, писал он Розе в коротком, по полном бодрости письме. – Если Реймс был веселым и мужественным, то горы, напротив, мрачные, мощные и подавляющие. Какое это потрясающее сооружение из камня! Все это служит доказательством того, что я тебе часто повторял: бог-величайший из скульпторов».
3Но итальянцы, с которыми Огюст повстречался на севере Италии, были оскорблены, когда он осмелился критиковать la belle Italia. Он пожаловался на холод в Милане и Турине, и его обвинили в том, что он анемичный и малокровный. Разочарованный тем, что он нигде не увидел «золотого света», о котором так много слыхал в Брюсселе и Париже, – повсюду его встречали только дождь и туман, – он писал Розе: «Погода тут, как в Бельгии, плохая, но местные жители заверяют меня, что она улучшится. Видимо, так и будет, когда я отсюда уже уеду».
Погода по-прежнему не радовала его, когда он подъезжал к Флоренции. Он удивлялся, что же случилось с прекрасной итальянской зимой, о которой он так много слышал. Дожди шли не переставая, и било холодно. В поезде он встретил высокого красивого итальянца и подумал: «Ах, какая отличная модель».
Молодой человек, приметив интерес Огюста и то, что Огюст иностранец, чье невежество можно обратить себе на пользу, немедленно проникся к нему дружескими чувствами. Он представился как Сальваторе Сантони. Сантони, который говорил по-французски, сказал Огюсту, что тоже едет во Флоренцию. В действительности Сантони ехал в Рим, но готов был задержаться и во Флоренции, если это сулило ему прибыль.
– Не правда ли, итальянский пейзаж прекрасен? – сказал Сантони.
Огюст кивнул, хотя он предпочитал хорошо обработанные поля Франции, но ему страшно хотелось лепить Сантони. Итальянский пейзаж, расстилавшийся перед ним, был слишком суровым и голым. «La belle Italia, ну и ну! – думал он про себя, передразнивая Сантони. – А еще говорят, что в мире нет города, равного Флоренции».
Узнав, что Огюст приехал посмотреть Микеланджело, Сантони восторженно воскликнул:
– Микеланджело, о, это величайший скульптор! Вы поступили весьма правильно, что приехали посмотреть его произведения.
– Вы видели «Давида» и «Моисея»? – спросил Огюст.
– Нет-нет, мой друг, но, как каждый добрый итальянец, я горжусь этим человеком. Он слава нашей la belle Italia.
Флоренция показалась Родену слишком однообразной в своих коричнево-желтых тонах. Но когда перед ним открылась панорама Флоренции с пьяццо Микеланджело, она напомнила ему Париж: те же бесконечные крыши, раскинувшиеся у подножия холмов. Но потом решил, все это пустая сентиментальность, – по-прежнему шел дождь, и было холодно и мрачно.
По совету Сальваторе Сантони Огюст остановился в швейцарском pensione на виа Торнабуони. Сантони ему сказал:
– Это хорошая гостиница, швейцарцы чистоплотны и к тому же вас не обманут.
Сантони особенно старался, чтобы его новый друг не стал жертвой обмана со стороны кого-либо другого. Огюст согласился встретиться с Сантони через три дня на пьяццо Дуомо. Он горел желанием лепить Сантони, хотя знал, что сейчас для этого нет возможности, но не хотелось терять связи с такой великолепной моделью – прямо-таки героем Микеланджело.
Первые два дня Огюст посвятил осмотру Флоренции. Он знал, что следует немедленно отправиться в музей и в первую очередь к Микеланджело и Донателло, но, чем больше знакомился с Флоренцией, тем дальше откладывал этот момент. Он боялся увидеть подлинники Микеланджело: это могло быть еще одним разочарованием, с которым трудно будет примириться. Он, правда, побывал в доме Данте, вспомнив о том, что до своего изгнания поэт был флорентийцем, по дом не пробудил в нем никаких чувств, и Огюст пожалел о потраченном времени.
Кипящие страсти флорентийцев поразили его. Споры возникали мгновенно и сопровождались громкими криками и размахиванием рук. Огюсту казалось, что вот-вот разразится кровавая драка. Но вместо того, дав выход своим эмоциям, они удалялись, дружески обнимая друг друга. Были тут и патриоты Флоренции, подобные Сантони, правда, по большей части не такие стройные, а коротенькие и толстые, которые твердили Огюсту о том, как они щедры и гостеприимны, и добавляли: «Не правда ли, Флоренция прекрасна?» Огюст спешил уйти от них.
Его стала утомлять la belle Italia. Все те же вечные разговоры о «золотом свете», а дождь льет не переставая. Ему недоставало тонкости французской кухни и французских соусов. Кругом только и было разговоров, что о Данте, Микеланджело, Донателло, но современного искусства Огюст не видел нигде, а музеи заполняли почти одни французы и англичане; изредка встречались американцы. Но жизнь здесь недорога, с благодарностью думал он, он сможет увидеть все, что его интересует, и некоторые итальянцы столь очаровательны, что глаз не отведешь. Величавость женщин – украшение этой нации, думал он, и это несколько скрашивает напыщенность мужчин.
На третий день Сантони, как и обещал, появился на пьяццо Дуомо. Его сопровождал друг, которого он представил как Витторио Пеппино, гида. Пеппино, тоже высокий и красивый, был еще более подходящей моделью.
Пеппино благосклонно согласился показать Огюсту Флоренцию– за двадцать франков в день.
– Нет необходимости. Я и сам найду дорогу, – ответил Огюст.
Пеппино пришел в бешенство. Он заорал на отличном французском языке:
– Эти мне французы! С тех пор как проиграли войну, ничего не тратят, а все отдают пруссакам!
Но Огюст не оскорбился: у Пеппино была восхитительная осанка, а поза, которую он принял, была необычайно выразительна. Подумав, что Пеппино оскорбляет его и лепить его будет затруднительно, Огюст пошел от них прочь, но Сантони ухватил его за рукав и объявил:
– Вы очень нравитесь моему другу.
– Нравлюсь? После такой-то сцены?
– Конечно, нравитесь. А иначе стал бы он выходить из себя!
Пеппино произнес с великолепным жестом всепрощения:
– Возможно, я соглашусь на ваше предложение за десять франков.
– Я вам ничего не предлагал, – ответил Огюст.
– Но ведь вам наверняка нужна помощь, – сказал Сантони. – Вы в чужом городе, мой друг. Вам надо познакомиться с Флоренцией, с ее искусством.
Огюст сказал:
– Мне не нужен гид.
– Гид нужен всем! – заявил Пеппино с новым великолепным жестом.
Огюст подумал, что такого выразительного тела, как у Витторио Пеппино, он еще не видел.
– Что вы предпочитаете-«Quatrocento» или «Cinquecento»?
И, заметив непонимающее выражение на лице Огюста, гид пояснил:
– «Cinquecento» – это шестнадцатый век, век Микеланджело, расцвет Возрождения.
– Я сам найду, что мне надо, – сказал Огюст.
– Вы еще пожалеете, – пригрозил Пеппино.
– Пожалею так пожалею, ничего не поделаешь, – ответил Огюст. Но застывший в горестно-великолепной позе Пеппино поразил его так, что желание лепить гида превозмогло все остальное. Он сказал:– Мосье Пеппино, если вы когда-нибудь приедете в Париж, я буду рад с вами увидеться.
– В Париж? Сантони сказал, что вы из Бельгии. Я работаю в Бельгии. Но со временем вернусь в Париж, может быть, очень скоро. – Огюст дал итальянцам адрес отца.
Пеппино крепко вцепился в рукав Огюста и не отпускал, пока тот не объяснил, что он скульптор. Пальцы Пеппино тут же раздались, словно его внезапно разбил паралич. Все известные Пеппино скульпторы были бедняками.
– Да нет, я заплачу, – сказал Огюст.
– Заплатите? Сколько?
– Пятьдесят франков. Сто франков. – Это было безрассудство, но Огюст решил проявить щедрость.
Он не мог выделить на это и десяти франков, но хотел казаться настоящим скульптором.
– А откуда нам знать, что вы столько заплатите?
– А откуда мне знать, что вы стоите того, чтобы вас лепить? Вас обоих?
Пеппино минуту обдумывал сказанное, затем взглянул на Сантони, который медленно кивнул. Пеппино написал адрес и подал его Огюсту.
– Мой брат живет в Риме. Вы можете разыскать нас через него.
Они расстались, думая, что никогда больше не встретятся, хотя – кто знает?
Огюст отправился в галерею Уффици и дворец Питти, самые знаменитые музеи Флоренции, и, хотя там хранились картины художников, которых он уважал – Тинторетто, Рафаэля, Тициана, Рубенса, Боттичелли, – его утомило это непрерывное поклонение мадонне и святым. Вне сомнения, великие произведения, думал он, но однообразие убивало силу их воздействия. Он решил, что одна из тайн действительно великого искусства заключается в его разнообразии.
У него уже пропало было всякое желание смотреть что-либо еще, когда он добрался до скульптур Кановы. Они ему понравились. Обнаженные женские фигуры Кановы пластичны и полны жизни, думал он. И вдруг его охватило желание увидеть другие скульптуры, увидеть «Давида», любые творения Микеланджело.
Никто не знал, какая из скульптур «Давида» является оригиналом. Во Флоренции хранилось несколько копий, но Огюст хотел увидеть оригинал. Наконец после многочисленных расспросов местных жителей, которые никак не могли понять, что ему надо, он узнал, что в прошлом году оригинал с палаццо Веккьо перенесли в Академию ди Бель Арти.
Огюст нашел Академию после того, как его несколько раз посылали не в том направлении, и остановился у входа. Никто не мешал, вокруг никого не было, но он испытывал непонятный страх. Он не вынесет еще одного разочарования. И он не может взирать на «Давида» восхищенным взором посредственного ученика. У него должно быть собственное мнение.
Огюст равнодушно двинулся вперед и вдруг увидел перед собой утес – «Давида». Он застыл, пораженный. Нет, это не сон, даже сны не бывают такими прекрасными. Никакими репродукциями невозможно передать всей силы «Давида». Огюст смотрел, и им овладевало чувство чисто физической радости. Он жадно разглядывал каждый мускул; это было великим познанием законов анатомии. Его страх совершенно исчез. «Давид» был вершиной творчества скульптора.
Огюст позабыл обо всем, углубившись в изучение этой фигуры, которая вся дышала жизнью. Он осмотрел «Давида» со всех сторон. Останавливаясь на каждом шагу, обошел фигуру вокруг, разглядывая то, что он называл «профилями», – каждый контур, подъем и изгиб в камне. Своими сильными и гибкими пальцами он чувственно и нежно коснулся мрамора. И на ощупь мрамор тоже был таким же пульсирующим и живым. Казалось, время остановилось. Сколько величия в этой фигуре, пожалуй, даже слишком много, думал он, и все же «Давид» скорее героичен, чем божествен. Прав был Лекок, когда учил его все подмечать. И смотреть на все своими собственными глазами.
Какой глубокий ум – Микеланджело, думал Огюст. Микеланджело сделал это мощное тело столь привлекательным, что зритель забывал о праще, которую держал Давид, о том, что Голиаф, а не Давид был великаном. И лицо было слишком юным, слишком женственным для такого зрелого тела, но размер был выбран как раз тот, что нужно. Поразительно, но «Давид» сам по себе целый мир, выражение высшей истины в искусстве. Огюст был зачарован всем: размерим, наготой, плавными линиями тела, этими замечательными руками – никогда он не забудет этих рук!
На следующий день Огюст вновь пришел к «Давиду» и еще через день тоже. Он хотел видеть его при различном освещении, в разное время дня. Он по-прежнему считал, что лицо Давида слишком тщеславно, слишком красиво, но тело – образец мужского совершенства.
В конце второго дня он наткнулся на незавершенную скульптуру Святого Матфея. «Святой Матфей» считался одной из наименее значительных вещей флорентийца, но в нем было столько чувств, такая сила, что Огюст был глубоко тронут. Эта корчащаяся в страданиях фигура, которая старалась высвободиться из мраморной толщи, шероховатость, слияние фигуры с фоном производили еще более волнующее и драматичное впечатление, чем «Давид» Микеланджело – волшебник, думал Огюст; сама техника исполнения «Святого Матфея», эта его незавершенность создавали впечатление борьбы между жизнью и камнем.
В течение следующей недели Огюст постарался найти и посмотреть все вещи Микеланджело. Кое-что ему по-прежнему не нравилось, и ничто он не принял безоговорочно, но его воображением завладели четыре незавершенные скульптуры пленников. Грубая моделировка нравилась ему куда больше, чем чистота полировки; казалось, что мрамор сохранил отпечатки пальцев Микеланджело. Как будто скульптор вел трудную борьбу, чтобы высвободить эти фигуры из каменного плена, где они томились. Пусть это не удалось ему окончательно, и все же в них выразился порыв непокоренного Прометея, – значит, камень, пусть неохотно, но уступил под напором скульптора.