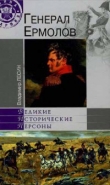Текст книги "Дневник партизанских действии 1812 года"
Автор книги: Денис Давыдов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
действие и дал бы о том знать Чеченскому, потому что Фигнер отправился уже
парламентером – к Ожеро в Ляхово.
Переговоры продолжались не более часа. Следствие их было – сдача двух тысяч
рядовых, шестидесяти офицеров и одного генерала военнопленными.
Наступила ночь; мороз усилился; Ляхово пылало; войска наши, на коне, стояли
по обеим сторонам дороги, по которой проходили обезоруженные французские
войска, освещаемые отблеском пожара. Болтовня французов не умолкала: они
ругали мороз, генерала своего, Россию, нас; но слова Фигнера: "Filez,
filez"[43] – покрывали их нескромные выражения. Наконец Ляхово очистилось,
пленные отведены были в ближнюю деревеньку, которой я забыл имя, и мы вслед
за ними туда же прибыли.
Тут мы забыли слова Кесаря: «Что не доделано, то не сделано». Вместо того
чтобы немедленно идти к Долгомостью на Бараге-Дильера, встревоженного
разбитием кирасиров своих, или обратиться на отряд, стоявший в Ясмине, мы
все повалились спать и, проснувшись в четыре часа утра, вздумали писать
реляцию, которая, как будто в наказание за лень нашу, послужила в пользу не
нам, а Фигнеру, взявшему на себя доставление пленных в главную квартиру и
уверившему светлейшего, что он единственный виновник сего подвига. В
награждение за оный он получил позволение везти известие о сей победе к
государю императору, к коему он немедленно отправился. После сего можно
догадаться, в славу кого представлено было дело, о котором сам светлейший
своеручно прибавил:
"Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжение нынешней
кампании неприятельский корпус положил пред нами оружие".
Двадцать девятого партия моя прибыла в Долгомостье и тот же день пошла к
Смоленску. Поиск я направил между дорогами Ельненской и Мстиславской, то
есть между корпусами Жюно и Понятовского, которые на другой день
долженствовали выступить в Манчино и Червонное. Этот поиск доставил нам
шесть офицеров, сто девяносто шесть артиллеристов без орудий и до двухсот
штук скота, употребляемых для возки палубов; но дело шло не о добыче. В сем
случае намерение мое переступало за черту обыкновенных партизанских
замыслов. Я предпринял залет свой единственно в тех мыслях, чтобы глазами
своими обозреть расположение неприятельской армии и по сему заключить о
решительном направлении оной. Мнение мое всегда было то, что она пойдет
правым берегом Днепра на Катань, а не левым на Красный; единственный взгляд
на карту покажет выгоду одного и опасность другого пути при движении нашей
армии к Красному.
Корпуса Жюно и Понятовского, хотя весьма слабые, но были для меня камнем
преткновения; да если бы я мог и беспрепятственно пробраться до Красненской
дороги, и тогда я не открыл бы более того, что уже я открыл на дорогах
Ельненской и Мстиславской, ибо впоследствии я узнал, что в то время большая
часть неприятельской армии находилась еще между Соловьевой переправой,
Духовщиной и Смоленском, на правом берегу Днепра. На сию же сторону прибыли
только старая и молодая гвардия, занявшие Смоленск, четыре кавалерийские
корпуса, слитые в один и расположенные за Красненской дорогой у селения
Вильковичей, и два корпуса, между коими я произвел свой поиск.
Так как оружие ни к чему уже служить не могло, то я обратился к дипломатике
и старался всеми возможными изворотами выведать от пленных офицеров о сем
столь важном решении Наполеона; но и дипломатика изменила мне, ибо по
ответам, деланным мне, казалось, что все сии офицеры были не что иное, как
бессловесные исполнители повелений главного начальства, ничего не зная о
предначертаниях оного...
Соименный мне покоритель Индии (Вакх, иначе Дионисий) подал мне руку
помощи. Чарка за чаркою, влитые в глотки моих узников, возбудили их к
многоглаголанию. Случилось так, что один из них был за адъютанта при
каком-то генерале и только что воротился из Смоленска, куда он ездил за
приказаниями и где он видел все распоряжения, принимаемые гвардиею к
выступлению из Красного. "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке" -
говорит пословица; откровенность хлынула через край, и я все узнал, что мне
нужно было узнать, даже и лишнее, ибо к столь любопытному известию он не
мог не припутать и рассказы о своих любовных приключениях, которые я
принужден был слушать до тех пор, пока мой вития не упал с лошади.
Это известие слишком было важно, чтобы не поспешить доставлением оного к
главнокомандующему. Почему я в ту же минуту послал курьера с достаточным
прикрытием по Мстиславской дороге, на коей или в окрестностях коей я
полагал главную квартиру. Сам же я остался против встреченных мною войск,
отвечая на стрельбу их до тех пор, пока превосходство сил не принудило меня
отступить по Мстиславской дороге и провести ночь верстах в пятнадцати от
Смоленска. В сии сутки мы прошли, по крайней мере, пятьдесят верст.
Неожиданная встреча и отпор, сделанный мне на ходу к Смоленску, внушили мне
мысль достигнуть до Красного [44] посредством большого обхода; к тому же,
быв отягчен пленными и двумястами штуками скота, я хотел сдать первых и не
оставить без употребления последних в такое время, когда войска наши столь
нуждались в пропитании. Вследствие чего я решился коснуться армии и потом
продолжать путь мой к Красному. Грубая ошибка! Можно сказать, что расчет
мой от дифференциального исчисления при поиске к Смоленску упал в четвертое
правило арифметики при обратном движении, предпринятом мною для раздела
мясной порции! И подлинно, взяв направление на Червонное и Манчино, где еще
не было неприятеля, я мог быть у Красного 1-го ноября, в самый тот день,
как дивизия Клапареда, прикрывшая транспорт трофеев, казну и обозы главной
квартиры Наполеона, выступила из Смоленска по сему направлению. Правда, что
известие о том дошло до меня весьма поздно; к тому же сколько дивизия сия
ни была слаба, все она числом своим превышала мою партию, к тому же она
была пехотная, а партия моя – конная. Однако это не отговорка!
Господствующая мысль партизанов той эпохи долженствовала состоять в том,
чтобы теснить, беспокоить, томить, вырывать, что по силам, и, так сказать,
жечь малым огнем неприятеля без угомона и неотступно. Все в прах для сей
мысли – и пленных, и коров!.. Я сберег первых, накормил некоторые корпуса
последними, – и виноват постыдно и непростительно.
Итак, пройдя несколько верст по Мстиславской дороге, я встретил
лейб-гусарский эскадрон, командуемый штабс-ротмистром Акинфьевым, а в
восьми верстах далее нашел несколько пехотных корпусов, расположенных для
дневки. Как корсар, который после долговременного крейсирования открывает
курящиеся берега родины, так воззрился я в биваки товарищей, так давно мною
оставленных. Берег! Берег! – подумал я и бросился во всю прыть к избе
генерала Раевского. Прием сего с детства моего уважаемого мною и в пылу
боев всегда изумлявшего меня героя был таков, какого я ожидал; но
посетители его встретили меня иначе; случилось так, что некоторые из них
были те самые, которые при вступлении моем в партизаны уверяли меня, что я
берусь не за свое дело, полагая оное чрезмерно опасным и не соответствующим
моим способностям. Продолжать атаку на пункт, сделавшийся уже неприступным,
было бы безрассудно, и потому они переместили батареи свои. Едва я
поздоровался с Раевским и некоторыми приятелями моими, как начались улыбки,
полунасмешливые взгляды и вопросы насчет двухмесячных трудов моих. Боже
мой! Какое напряжение – поравнять службу мою с переездами их от обеда на
обед по Тарутинской позиции! Иные давали мне чувствовать, что нет никакой
опасности действовать в тылу неприятеля; другие – что донесения мои
подвержены сомнению; те безмерно хвалили партизанов прошедших войн с тем,
чтобы унизить мои поиски; некоторые осуждали светлейшего за то, что дает
место в реляциях делам, не достойным внимания; словом, видно было, сколь
имя мое, выставленное во всех объявлениях того времени, кололо глаза людям,
искавшим в тех же объявлениях имена свои от Немана до Москвы, а от Москвы
до Смоленска, и осужденным видеть оные в одних расписаниях нашей армии.
Огражденный чистой совестью и расписками на три тысячи пятьсот шестьдесят
рядовых и сорок три штаб– и обер-офицера, взятых мною от 2-го сентября до
23-го октября[45], я смеялся над холостым зарядом моих противников и желал
для пользы России, чтобы каждый из них мог выручить себя от забвения
подобными расписками.
Наделив находившиеся там голодные войска отбитыми мною двумястами штуками
скота, я ночевал не помню в какой-то деревушке, у генерала Раевского, и
перед рассветом выступил по направлению к Красному.
Первого ноября на походе я догнал колонну генерала Дохтурова и графа
Маркова, которые в то время заезжали в какой-то господский дом для привала.
Намереваясь вскоре дать отдых партии моей, я указал Храповицкому на ближнюю
деревню и приказал ему остановиться в ней часа на два; сам же заехал к
генералу Дохтурову, пригласившему меня на походный завтрак. Не прошло
четверти часа времени, как Храповицкий прислал мне казака с известием, что
светлейший меня требует.
Я никак не полагал столкнуться с главною квартирою в сем направлении; но
холиться было некогда, я сел на конь и явился к светлейшему немедленно.
Я нашел его в избе; перед ним стояли Храповицкий и князь Кудашев. Как скоро
светлейший увидел меня, то подозвал к себе и сказал: "Я еще лично не знаком
с тобою, но прежде знакомства хочу поблагодарить тебя за молодецкую твою
службу". Он обнял меня и прибавил: "Удачные опыты твои доказали мне пользу
партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет
неприятелю".
Я, пользуясь ласковым его приемом, просил извинения в том, что осмелился
предстать пред ним в мужицкой моей одежде. Он отвечал мне: "В народной
войне это необходимо, действуй, как ты действуешь: головою и сердцем; мне
нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под
армяком, а не под мундиром. Всему есть время, и ты будешь в башмаках на
придворных балах".
Еще светлейший полчаса говорил со мною, расспрашивал меня о способах,
которые я употребил образовать сельское ополчение, об опасностях, в каких я
находился, о мнении моем насчет партизанского действия и прочем. В это
время вошел полковник Толь с картою и бумагами, и мы вышли из избы.
Я думал, что все кончено, и пошел обедать к знаменитому сладкоеду и обжоре
– флигель-адъютанту графу Потоцкому. Но едва успели мы сесть за стол, как
вошел в избу лакей фельдмаршала и объявил мне, что светлейший ожидает меня
к столу. Я немедленно явился к нему, и мы сели за стол. Нас было шесть
человек: сам светлейший, Коновницын, князь Кудашев, Толь, я, недостойный, и
один какой-то генерал, которого я забыл и имя, и физиономию. За обедом
светлейший осыпал меня ласками, говорил о моих поисках, о стихах моих, о
литературе вообще, о письме, которое он в тот день писал к госпоже Сталь в
Петербург[46] , спросил о моем отце и о моей матери; отца он знал по его
остроумию и рассказал некоторые его шутки, мне даже не известные. Мать мою
он не знал, но много говорил об отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем
наместником трех губерний при Екатерине. После обеда я напомнил ему о моих
подчиненных; он отвечал мне: "Бог меня забудет, если я вас забуду", – и
велел подать о них записку. Я ковал железо, пока горячо, и представил
каждого офицера к двум награждениям. Светлейший беспрекословно все
подписал, и я, откланявшись ему, поехал в корчму села сего, где ожидали
меня партия моя и брат мой Евдоким, которого я не видал от самого Бородина.
Спустя два часа времени мы выступили в Волково. Извещенный мною из-под
Смоленска, а может, вместе со мною и другими партиями о решительном
направлении всей французской армии к Красному, светлейший намеревался
атаковать ее на марше и поспешил к окрестностям сего города.
Между 1-м и 4-м ноября расположение партизанов было следующее.
Второго граф Орлов-Денисов, соединясь со мною, коснулся корпуса Раевского в
Толстяках; мы продолжали путь в Хилтичи, куда прибыли к ночи. Отдохнув три
часа, мы пошли к Мерлину.
Третьего отряд графа Ожаровского подошел к Куткову, а партия Сеславина,
усиленная партиею Фигнера[47], – к Зверовичам.
Сего числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные
неприятельские колонны тянутся между Никулиным и Стеснами. Мы помчались к
большой дороге и покрыли нашею ордою все пространство от Аносова до
Мерлина. Неприятель остановился, дабы дождаться хвоста колонны, бежавшего
во всю прыть для сомкнутия. Заметив сие, граф Орлов-Денисов приказал нам
атаковать их. Расстройство сей части колонны неприятельской способствовало
нам почти беспрепятственно затоптать ее и захватить в плен генералов
Альмераса и Бюрта, до двухсот нижних чинов, четыре орудия и множество
обоза. Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон.
Это было уже гораздо за полдень. Мы вскочили на конь и снова явились у
большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и
гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать
хотя одного рядового от сомкнутых колонн, но они, как гранитные,
пренебрегали все усилия наши и остались невредимыми... Я никогда не забуду
свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти угрожаемых
воинов! Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, в белых
ремнях с красными султанами и эполетами, они казались как маков цвет среди
снежного поля! Будь с нами несколько рот конной артиллерии и вся регулярная
кавалерия, бог знает для чего при армии влачившаяся, то как передовая, так
и следующие за нею в сей день колонны вряд ли отошли бы с столь малым
уроном, каковой они в сей день потерпели.
Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн
неприятельских, у коих отбивали отстававшие обозы и орудия, иногда отрывали
рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались
невредимыми.
Видя, что все наши азиатские атаки рушатся у сомкнутого строя европейского,
я решился под вечер послать Чеченского полк вперед, чтобы ломать мостики,
находящиеся на пути к Красному, заваливать дорогу и стараться всяким
образом преграждать шествие неприятеля; всеми же силами, окружая справа и
слева и пересекая дорогу спереди, мы перестреливались с стрелками и
составляли, так сказать, авангард авангарда французской армии.
Я как теперь вижу графа Орлова-Денисова, гарцующего у самой колонны на
рыжем коне своем, окруженного моими ахтырскими гусарами и ординарцами
лейб-гвардии казацкого полка. Полковники, офицеры, урядники, многие простые
казаки бросались к самому фронту, – но все было тщетно! Колонны валили одна
за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами, и смеялись над нашим вокруг
них безуспешным рыцарством.
В течение дня сего мы еще взяли одного генерала (Мартушевича), множество
обозов[48] и пленных до семисот человек; но гвардия с Наполеоном прошла
посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими
лодками.
В сумерках Храповицкий едва не попался в плен шедшей близ дороги
неприятельской кавалерии. Приняв ее за нашу, он подъехал к самому фронту
неприятельскому так близко, что, будучи весьма близорук, мог уже приметить
медные одноглавые орлы на киверах солдат и офицеров и услышать шепот их. Он
бросился прочь во всю прыть; офицеры – за ним, стреляя из пистолетов, и
хотя ранили лошадь его, но так легко, что он успел невредимо перелететь,
так сказать, чрез яр, в сем месте находящийся, и соединиться с нами. В сем
деле у Бекетова была убита лошадь ядром и несколько казаков было ранено.
После сего поиска мы отошли в Хиличи, где граф Орлов-Денисов сдал отряд
свой присланному на его место генерал-майору Бороздину. Из Хиличи я пошел в
Палкино и послал сильный разъезд к Горкам с повелением пробираться в
Ланники, куда я взял свое направление. В день дела нашего под Мерлином
Сеславин напал на Боево и Ляды, где отбил два магазина и взял много в плен;
но в ту же ночь Ожаровский поражен был в селе Куткове. Справедливое
наказание за бесполезное удовольствие глядеть на тянувшиеся неприятельские
войска и после спектакля ночевать в версте от Красного, на сцене между
актерами. Генерал Роге, командовавший молодою гвардиею, подошел к Куткову
во время невинного усыпления отряда Ожаровского и разбудил его густыми со
всех сторон ружейными выстрелами. Можно вообразить свалку и сумятицу,
которая произошла от сего внезапного пробуждения! Все усилия самого
Ожаровского и полковника Вуича, чтобы привести в порядок дрогнувшие от
страха и столпившиеся в деревне войска их, были тщетны! К счастью, Роге не
имел с собою кавалерии, что способствовало Ожаровскому, отступя в Кутково,
собрать отряд свой и привести оный в прежде бывший порядок, с минусом
половины людей.
Четвертого, в ночи, он прибыл в Палкино, откуда по прибытии его я выступил
чрез Боево к Лядам. Около сего места партия моя снова столкнулась с
французами. Тогда подходил к Лядам корпус вице-короля Италианского.
Расстройство, понесенное оным на Вопе и между Смоленском и Красным,
дозволило нам отбить большое число обозов и взять четыреста семьдесят пять
пленных, между коими находилось несколько офицеров. Ночью на 6-е число
явились ко мне в Боево Вильманстрандского пехотного полка майор Ванслов и
капитан Тарелкин, ушедшие из плена. Они объявили мне, что Наполеон при них
въехал в Дубровну. Я их отослал в главную квартиру и в три часа пополуночи
выступил в Ланники.
От самой Вязьмы образ нашей жизни совершенно изменился. Мы вставали в
полночь. В два часа пополуночи обедали так плотно, как горожане обедают в
два часа пополудни, и в три часа выступали в поход.
Партия шла всегда совокупно, имея авангард, арьергард и еще один отряд со
стороны большой .дороги, но все сии отделения весьма близко от самой
партии. Я ехал между обоими полками иногда верхом, иногда в пошевнях,
которые служили мне ночью вместо квартиры и кровати.
Когда не было неприятеля, то за полчаса до сумерков оба полка спешивались и
от того приходили на ночлег с выгулявшимися лошадьми, коих немедленно
становили к корму. По приведении в устройство всей военной предосторожности
мы немедленно ложились спать и во втором часу садились снова за трапезу, на
конь и пускались в погоню.
Кочевье на соломе под крышею неба! Вседневная встреча со смертию!
Неугомонная, залетная жизнь партизанская! Вспоминаю о вас с любовью и
тогда, как покой и безмятежие нежат меня, беспечного, в кругу милого моего
семейства! Я счастлив... Но отчего тоскую и теперь о времени, когда голова
кипела отважными замыслами и грудь, полная обширнейших надежд, трепетала
честолюбием изящным, поэтическим?
По отступлении неприятеля от Красного размещение партизанов было следующее.
Отряд Бороздина, заняв Ляды 7-го и Дубровну 8-го, шел к Орше. Отряд графа
Ожаровского, пройдя возле большой дороги от Нейкова до Козяков, обращен был
к Горкам, 9-го Сеславин из селения Грехова, что около Корытни, шел в
направлении к Копысу. Как тот, так и другой – в намерении атаковать
кавалерийское депо, о коем я узнал только в Ланниках чрез разъездных,
посланных мною из Палкина в Горки.
В ночь на 6-е число разъездные мои, посланные в селение Сыву, перехватили
рапорт к маршалу Бертье от начальника означенного депо – майора Бланкара.
Узнав о числе войск его по ведомости, приложенной при рапорте, я рассудил,
что поиски, предпринимаемые партизанами против отступающих колонн главной
армии, могут без осуждения быть неудачными (плетью обуха не перешибешь), но
что нападение на отдельную часть, столь необходимую французской армии,
каково кавалерийское депо, надлежит произвести с полною уверенностию в
успехе, дабы тем лишить кавалерию неприятельскую лучших всадников и почти
всего имущества – генералов, штаб– и обер-офицеров армии.
Рассуждение сие понудило меня, во-первых, отсрочить нападение на депо,
ровно вшестеро сильнее моей партии, во-вторых, немедленно отослать
перехваченные мною бумаги в главную квартиру, подходившую тогда к Романову
(в шестнадцати верстах от меня, то есть от Ланников, где я находился),
в-третьих, просить у светлейшего одного полка пехоты и двух орудий на
подкрепление и, наконец, в-четвертых, употребить все способы до прибытия
требуемых мною войск, чтобы не спускать с глаз означенное депо, дабы, в
случае движения его за Днепр, напасть на него с тем, чем бог послал.
В ночь на 8-е число засада, поставленная мною на дороге, из Орши в Горки
лежащей, перехватила прежде курьера, а через два часа жида[49], посланных
от маршала Бертье к Бланкару с повелением идти наипоспешнее за Днепр. В ту
же минуту дали мне знать, что один из разъездов моих, ходивший из Савы к
Горкам, вступил беспрепятственно в сие местечко, что вместо депо встретил
там отряд графа Ожаровского и что, по известиям от жителей, неприятель
пошел к Копысу. Немедля мы пустились, чрез Горяны и Бабиники, к сему же
городу.
На походе узнал я, что депо прибыло в Копыс и заняло его, со всею воинской
предосторожностию, половинным числом пеших кавалеристов, дабы назавтра
прикрыть ими переправу тягостей, защищаемых другою половиною сей сволочи.
Обстоятельство это понудило меня остановиться скрытно в шести верстах от
Копыса при селе Сметанке, с намерением не прежде предпринять нападение, как
по переправе половины депо чрез реку, и тогда разбить поодиночке: одну
часть на сей, а другую – на той стороне Днепра. Река сия не была еще
схвачена льдом, одни края оной были легко замерзшими.
Девятого, поутру, мы помчались к Копысу. Почти половина депо была уже на
противоположном берегу; другая половина, оставшаяся на сей стороне,
намеревалась вначале защищаться против вскакавших в главную улицу гусаров
моих и донского полка Попова 13-го; но коль скоро Чеченский с Бугским своим
полком пробрался вдоль берега и явился в тылу оной, среди города, у
переправы, – тогда все стало бросать оружие, отрезывать пристяжки у
повозочных лошадей и переправляться где попало вплавь на противоположный
берег. Мгновенно река покрылась плывущими и утопающими людьми и лошадьми.
Берега оной и сама она завалилась фурами, каретами и колясками. В улицах
началась погоня и резня беспощадная, а с противного берега открылся по нас
сильный ружейный огонь. Желая дать время рассыпанным по городу казакам моим
окончательно очистить улицы от неприятеля, я остановился с резервом на
площади у самого берега и велел привести ко мне мэра (городничего),
определенного в город сей французами. По дошедшим ко мне слухам, он
притеснял и даже убивал пленных наших в угождение полякам. Привели пред
меня какого-то рябого и среднего роста человека. Он на чистом русском языке
просил у меня позволения объясниться, в одно время как жена его с
престарелой матерью своей бросились к ногам моим и просили ему помилования.
Пули осыпали нас. Я им сказал, что тут не их место, и просил удалиться, дав
честное слово, что господин Попов (так звали сего мнимого мэра) нимало не
пострадает, если он невиновен, и отдал его под стражу до окончания дела.
Вскоре наездники мои очистили от неприятеля улицы. Я собрал полки и,
невзирая на стрельбу, производимую с противного берега, пустился двумя
толпами вплавь чрез Днепр, оплывая, так сказать, справа и слева линию
стрелков, защищавших переправу. Еще мы не коснулись до берега, как большая
часть сих стрелков пришла в смятение, стала бросать оружие и кричать, что
они сдаются. Мы переправились. Я отрядил сотню казаков для забрания
сдавшихся в плен, скрывавшихся в Александрии[50] и бежавших в разброде чрез
столбовую Белорусскую дорогу. Вся партия пустилась за остатками депо,
направление которого показывали нам брошенные фуры, повозки и отставшие
пехотинцы от главной массы, состоявшей уже не более как в двести пятьдесят
рядовых и офицеров, ибо все разбрелось по лесам, погибло в реке, поколото
казаками и захвачено ими в плен. Сих последних было шестьсот рядовых и,
помнится, около десяти офицеров.
Оконча преследование в нескольких верстах от берега, я послал поручика
Макарова со ста казаками по дороге к Толочину, а подполковника Храповицкого
со ста пятьюдесятью казаками в Шклов. Сам же с остальною частью партии
воротился в Копыс, где удостоверился, что господин Попов не только не
исполнял должности мэра, но даже скрывался с семьею своею в лесах во время
властвования в сем краю неприятеля. Видя невинность сего чиновника, я
поручил ему временное управление городом и велел открыть магистрат
по-прежнему. Истинного же мэра отыскал и отослал в главную квартиру с
описанием его неистовств с русскими пленными и лихоимства с жителями.
Не прошло двух часов, как прибыл в Копыс Шамшева казачий полк с ста
пятьюдесятью Мариупольского полка гусарами, под командою подполковника
Павла Ржевского. Сей офицер известил меня, что граф Ожаровский, не застав
неприятеля в Горках и видя невозможность догнать его целым отрядом, отрядил
часть оного к Копысу, а сам обратился к Шклову, занимаемому, по слухам,
дошедшим до графа, сильным неприятельским отрядом. Хотя я верно знал, что в
Шклове было не более шестидесяти человек неприятеля, при всем том не мог я
чрез Ржевского не пожелать графу Ожаровскому победы и славы тем
чистосердечнее, что сражение с шестьюдесятью человеками исполняло если не
все, то по крайней мере первую часть моего желания. Обеты мои остались
втуне, но когда 10-го числа отряд генерала сего готовился уже
переправляться чрез Днепр для атаки на Шклов, Храповицкий явился к нему из
сего местечка и объявил, что он накануне еще занял оное своими казаками без
сопротивления.
Спустя несколько часов после прибытия Ржевского в Копыс, прибыл туда же и
Сеславин. Он немедленно переправился чрез Днепр и, простояв в Александрии
до 11-го числа, выступил оттуда чрез Староселье, Круглое и Кручу вслед за
французскою армиею.
В ожидании отряда, посланного с поручиком Макаровым к Толочину, я принужден
был пробыть в Копысе день более, нежели Сеславин. Тут меня оставили мичман
Храповицкий, титулярный советник Татаринов, землемер Макаревич и Федор,
приставший ко мне из Царева-Займища. Отдав долг свой отечеству, они
возвратились на родину с торжествующей совестию после священного дела!
Исключая Храповицкого, два последние были бедные дворяне, а Федор -
крестьянин; но сколь возвышаются они пред потомками тех древних бояр,
которые, прорыскав два месяца по московскому бульвару с гремучими шпорами и
с густыми усами, ускакали из Москвы в отдаленные губернии, и там, – пока
достойные и незабвенные соотчичи их подставляли грудь на штык врагов
родины, – они прыскались духами и плясали на могиле отечества! Некоторые из
этих бесславных беглецов до сих пор воспоминают об этой ужасной эпохе, как
о счастливейшем времени их жизни! И как быть иначе? Как действительному
статскому советнику забыть генеральские эполеты, а регистратору – усы и
шпоры?
Двенадцатого я получил повеление оставить прикомандированный ко мне 11-й
егерский полк на переправе при Копысе. Хотя по сей только бумаге узнал я,
что, вследствие просьбы моей, полк сей был ко мне назначен, – при всем том
я с сожалением переслал оному данное мне повеление. Мы подходили к лесистым
берегам Березины; пехота была необходима, а пехоту у меня отнимали; что
было делать? Я прибегнул к прибывшему в город генералу Милорадовичу,
который на время одолжил меня двумя орудиями конной артиллерии и тем
несколько исправил мое положение.
С вышесказанной бумагой я получил другую следующего содержания: "Полагая
генерал-адъютанта Ожаровского весьма слабым, чтобы одному предпринять
поиски на Могилев без генерал-лейтенанта Шепелева, имеете, ваше
высокоблагородие, немедленно присодиниться к нему и состоять в команде его
до овладения Могилевом. По овладении же, отделясь от него, идти
форсированными маршами к местечку Березине, где остановиться, ибо вероятно,
что около сего места удастся вам многое перехватить, и для того, прибыв
туда, отрядить партию в сторону Бобра и Гумны. Генерал-лейтенант
Коновницын. 11-го ноября. На марше к деревне Лещи".
Сия бумага довершила неприятность! Я всегда был готов поступить под
начальство всякого того, кого вышняя власть определяла мне в начальники;
скажу более: под Ляховым и Мерлином я сам добровольно поступил в команду к
графу Орлову-Денисову, потому что я видел в том пользу службы; но тут
обстоятельства были иные. Отряд графа Ожаровского достаточен был по силе
своей для овладения Могилевом, хотя бы город сей и не был 9-го оставлен
отрядом неприятельским, состоявшим в тысячу двести человек польских
войск[51] . Я видел ясно, что направление, данное мне к местечку Нижнему
Березину, и предписание наблюдать за неприятельскою армиею к Бобру и Гумнам
основывались на предположении, что армия эта склонится к Нижнему Березину и
Гумнам и чрез то совершенно прекратит фланговое преследование наше, столько
пользы нам принесшее! Конечно, я не в состоянии был преградить путь целой
армии слабым моим отрядом, если бы дело пришло до драки: но при бедственном
положении неприятеля необходимо нужно было считать и на расстройство
нравственной силы оного: часто сто человек, которые нечаянно покажутся на
дороге, по коей отступает неприятельская армия, напугают ее более, нежели
несколько тысяч, когда дух ее еще не потрясен неудачами. Рассуждение сие
решило меня идти прямо на Шклов, Головнино и Белыничи, о чем я
предварительно известил как графа Ожаровского, так и Коновницына, и принял
на себя ответственность за непослушание.
Тринадцатого, к ночи, партия моя прибыла в Головнино. Я узнал, что местечко
Белыничи занято отрядом польских войск, прикрывающих гошпиталь, прибывший
туда из Нижнего Березина, по причине появления у местечка сего отряда графа
Орурка от Чичагова армии.
Рано 14-го числа мы выступили к Белыничам. На походе встретили мы
Ахтырского гусарского полка поручика Казановича, который, полагая край сей
очищенным от неприятеля, ездил из полка к родителям своим для свидания с
ними и во время скрытного двухдневного пребывания у них видел дом
родительский, посещаемый несколько раз грабителями из Белыничей. Он, узнав
о приближении моем к сему местечку, сел на конь и поскакал ко мне
навстречу, чтобы уведомить меня о пребывании неприятеля в местечке, о числе
оного и вместе с тем чтобы быть вожатым моим по дорогам, более ему, нежели
мне, известным.
Местечко Белыничи, принадлежащее князю Ксаверию Огинскому, лежит на
возвышенном берегу Друцы, имеющей течение свое с севера к югу. По дороге от
Шклова представляется поле плоское и обширное. За местечком – один мост
чрез Друцу, довольно длинный, потому что берега оной болотисты. За мостом,