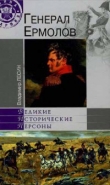Текст книги "Дневник партизанских действии 1812 года"
Автор книги: Денис Давыдов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
партией, а неприятельские передовые войска, остановясь на той стороне реки,
стали стрелять из ружей и пистолетов, в одно время как часть оных искала
броду выше того места, где находилась партия моя. Я увидел по сему, что
стремление неприятеля не ограничится рекою, и потому взял меры к
отступлению на Федотково. Вследствие чего и дабы совершить оное безопаснее,
я немедленно послал три разъезда, по десяти казаков каждый: один на
Кузнецово к селу Козельску для открытия левой стороны, дабы никакой другой
неприятельский отряд не мог сбоку помешать моему отступлению, второй – в
Федотково, для открытия дороги, которую партия избрала, и для приготовления
оной продовольствия, а третий – в Знаменское, с повелением Бельскому
оставить немедленно сие село с поголовным ополчением и с моею пехотою и
поспешнее следовать по Юхновской дороге к селу Слободке. Сам же, желая
выиграть время, пока неприятель дойдет до реки и будет чрез оную
переправляться, двинулся рысью в три колонны и в два коня, чтобы по
средству длины колонн показаться сильнее, нежели я был действительно.
Сначала все шло удачно: перестрелка умолкла, и мы продолжали путь
беспрепятственно, но едва успели пройти около семи верст, как оба первые
разъезда во всю прыть прибыли к нам навстречу и уведомили меня, первый: что
другая конная неприятельская колонна идет на дорогу, по коей я следую, а
второй: что и в Федотково вступил неприятель. В доказательство первому
известию неприятель стал уже показываться с левой стороны, а последнее
подтвердил мне прибывший из Федоткова конный крестьянин, который сам видел
неприятеля, вступившего в село, и с тем оттуда выехал, чтобы меня
уведомить. Обстоятельства представлялись не в розовом цвете! Долгое
размышление было неуместно; я немедленно, поворотя вправо на Борисенки и
переправясь чрез Угру при Кобелеве, прибыл в Воскресенское, находящееся на
границе Медынского уезда, возле дороги из Юхнова в Гжать.
На марше моем один урядник и два казака были посланы к Бельскому с
повелением не останавливаться уже в Слободке, отступить к Климовскому
заводу; сим же посланным велено было поспешнее проехать в Юхнов для
уведомления дворянского предводителя, что партия отступает в Воскресенское
и чтобы все бумаги, которые будут адресованы на мое имя из главной
квартиры, были посылаемы прямо в означенное село.
Двадцатого, поутру, я получил уведомление от дежурного генерала об
отступлении неприятеля из Малоярославца и о следовании его на Гжать и
Смоленск[38] . Этого надлежало ожидать: внезапное умножение неприятельских
отрядов и обозов с некоторого времени между Вязьмою и Юхновом достаточно
могло удостоверить в незамедленном отступлении всей неприятельской армии.
Несмотря на это, я не мог бы тронуться с места, если бы светлейший не
отрядил после Малоярославского дела всю легкую свою конницу наперерез
неприятельским колоннам, идущим к Вязьме. Появление большой части легкого
войска с атаманом Платовым и с графом Орловым-Денисовым на пространстве,
где я шесть недель действовал и которое в сие время находилось уже во
власти неприятельских отрядов, принудило их удалиться частию к Вязьме, а
частию к Дорогобужу, и тем освободило меня из заточения в Воскресенском.
Без сомнения, я лично много обязан сей спасительной мысли; но если бы
уважили неоднократные представления мои об умножении на сем пространстве
числа легких войск с начала занятия Тарутина, тогда отряды, потеснившие
меня почти до Юхнова, или не смели бы явиться на пространстве, столь
впоследствии необходимом для нашей армии, и опустошать оное, или попались
бы немедленно в руки нашим партиям. Как бы то ни было, исправлять прошедшее
было поздно; следовало пользоваться настоящим, и я немедленно послал
Бельскому повеление поспешнее двинуться в Знаменское, где соединился с ним
того же числа вечером.
Двадцать первого я оставил поголовное ополчение на месте и, присоединяя
регулярную пехоту к партии, выступил в два часа утра по Дорогобужской
дороге на село Никольское, где, сделав большой привал, продолжал следовать
далее. От направления сего я попался между отрядами двух
генерал-адъютантов: графа Ожаровского и графа Орлова-Денисова [39]; первый
прислал ко мне гвардии ротмистра (что ныне генерал-лейтенант) Палицына,
дабы выведать, не можно ли ему прибрать меня к рукам, а последний еще от
19-го числа прислал офицера отыскивать меня для объяснения, что если я не
имею никакого повеления от светлейшего после 20-го октября, то чтобы
немедленно поступил в его команду.
Уверен будучи, что звание партизана не освобождает от чинопослушания, но с
сим вместе и позволяет некоторого рода хитрости, я воспользовался
разновременным приездом обоих присланных и объявил первому о невозможности
моей служить под командою графа Ожаровского по случаю получения повеления
от графа Орлова-Денисова поступить под его начальство, а второго уверил,
что я уже поступил под начальство графа Ожаровского и, вследствие повеления
его, иду к Смоленской дороге.
Между тем я не счел не только предосудительным, но даже приличным
солдатской гордости – просить генерала Коновницына довести до сведения
светлейшего неприятность, которою я угрожаем. "Имев счастие, – писал я ему,
– заслужить в течение шестинедельного моего действия особенное его
светлости внимание, мне чрезмерно больно, при всем уважении моем к графу
Орлову-Денисову и к графу Ожаровскому, поступить в начальство того или
другого, получив сам уже некоторый навык к партизанской войне, тогда как я
вижу, что в то же время поручают команды людям, хотя по многим отношениям
достойным, но совершенным школьникам в сем роде действия". Я заключал
письмо мое изложением выгод размножения, а не сосредоточивания партий при
тогдашних обстоятельствах, и послал урядника Крючкова с пятью казаками в
главную квартиру, находившуюся, по известиям, около Вязьмы. Я приказал ему
искать меня к 23-му числу около села Гаврикова, чрез которое я намерен был
следовать после поиска моего к селу Рыбкам.
Того же числа, то есть 21-го, около полуночи, партия моя прибыла за шесть
верст от Смоленской дороги и остановилась в лесу без огней, весьма скрытно.
За два часа пред рассветом мы двинулись на Ловитву. Не доходя за три версты
до большой дороги, нам уже начало попадаться несметное число обозов и туча
мародеров. Все мы били и рубили без малейшего сопротивления. Когда же
достигли села Рыбков, тогда попали в совершенный хаос! Фуры, телеги,
кареты, палубы, конные и пешие солдаты, офицеры, денщики и всякая сволочь -
все валило толпою. Если б партия моя была бы вдесятеро сильнее, если бы у
каждого казака было по десяти рук, и тогда невозможно было бы захватить в
плен десятую часть того, что покрывало большую дорогу. Предвидя это, я
решился, еще пред выступлением на поиск, предупредить в том казаков моих и
позволить им не заниматься взятием в плен, а, как говорится, катить
головнею по всей дороге. Скифы мои не требовали этому подтверждения; зато
надо было видеть ужас, объявший всю сию громаду путешественников! Надо было
быть свидетелем смешения криков отчаяния с голосом ободряющих, со стрельбою
защищающихся, с треском на воздух взлетающих артиллерийских палубов и с
громогласным "ура" казаков моих! Свалка эта продолжалась с некоторыми
.переменами до времени появления французской кавалерии, а за нею и
гвардии[40].
Тогда я подал сигнал, и вся партия, отхлынув от дороги, начала строиться.
Между тем гвардия Наполеона, посредине коей он сам находился, подвигалась.
Вскоре часть кавалерии бросилась с дороги вперед и начала строиться с
намерением отогнать нас далее. Я весьма уверен был, что бой не по силе, но
страшно хотелось погарцевать вокруг его императорского и королевского
величества и первому из отдельных начальников воспользоваться честью отдать
ему прощальный поклон за посещение его. Правду сказать, свидание наше было
недолговременно; умножение кавалерии, которая тогда была еще в положении
довольно изрядном, принудило меня вскоре оставить большую дорогу и уступить
место громадам, валившим одна за другою. Однако во время сего перехода я
успел, задирая и отражая неприятельскую кавалерию, взять в плен с бою сто
восемьдесят человек и двух офицеров и до самого вечера конвоевал императора
французов и протектора Рейнского союза с приличной почестью.
Двадцать третьего числа я, перешед речку Осму, предпринял поиск на
Славково, где снова столкнулся с старою гвардиею. Часть оной расположена
была на биваках, а часть в окрестных деревушках. Внезапное и шумное
появление наше из скрытного местоположения причинило большую сумятицу в
войсках. Все бросились к ружью; нам сделали даже честь стрелять по нас из
орудий. Перестрелка продолжалась до вечера без значительной с нашей стороны
потери. Вечером прибыло несколько эскадронов неприятельской кавалерии, но с
решительным намерением не сражаться, ибо, сделав несколько движений вправо
и влево колоннами, они, выслав фланкеров, остановились, а мы, забрав из
оных несколько человек, отошли в Гаврюково. Поиск сей доставил нам со
взятыми фланкерами сто сорок шесть человек фуражиров, трех офицеров и семь
провиантских фур с разною рухлядью; успех не важный относительно добычи, но
важный потому, что опроверг намерение Наполеона внезапно напасть со всею
армиею на авангард наш; по крайней мере, так можно заключить по циркуляру,
посланному от Бертье ко всем корпусным командирам. Нападение сие, будучи
основано на тайне и неведении с нашей стороны о местопребывании всех сил
неприятеля, не могло уже быть приведено в исполнение, коль скоро завеса
была сорвана моею партиею.
Поутру 24-го числа я получил от генерала Коновницына разрешение действовать
отдельно и повеление поспешно следовать к Смоленску. Посланный сей уведомил
меня о счастливом сражении при Вязьме 22-го числа и о шествии вслед за мной
партий Сеславина и Фигнера, в одно время как Платов напирал на арьергард
неприятеля с тыла. Получа повеление сие, я не мог уже тащить за собою
храбрую пехоту мою, состоявшую еще в ста семидесяти семи рядовых и двух
унтер-офицерах; почему я расстался с нею на дороге от Гаврюкова и отправил
ее в Рославль к начальнику ополчения Калужской губернии.
Теперь я касаюсь до одного случая с прискорбием, ибо он навлекает проклятие
на русского гражданина. Но долг мой говорить все то, что я делал, в чем
кому содействовал, кто в чем мне содействовал и чему я был свидетелем.
Пусть время поставит каждого на свое место.
Около Дорогобужа явился ко мне вечером Московского гренадерского полка
отставной подполковник Маслеников, в оборванном мужичьем кафтане и в
лаптях. Будучи знаком с Храповицким с детства своего, свидание их было
дружеское; вопросы следовали один за другим, и, как вопросы того времени,
все относились к настоящим обстоятельствам. Он рассказывал свое несчастие:
как не успел выехать из села своего и был захвачен во время наводнения края
сего приливом неприятельской армии, как его ограбили и как он едва спас
последнее имущество свое – испрошением себе у вяземского коменданта
охранного листа. Знав по опытам, сколько охранные листы бесполезны к
охранению, мы любопытствовали видеть лист сей, но как велико было наше
удивление, когда мы нашли в нем, что г. Маслеников освобождается от всякого
постоя и реквизиций в уважение обязанности, добровольно принятой им на
себя, продовольствовать находившиеся в Вязьме и проходившие чрез город сей
французские войска. Приметя удивление наше, он хотя с замешательством, но
спешил уверить нас, что эта статья поставлена единственно для спасения его
от грабительства и что он никогда и ничем нс снабжал войска французского в
Вязьме.
Сердца наши готовы были извинить его: хотя русский, он мог быть слабее
другого духом, прилипчивее другого к интересу и потому мог ухватиться за
всякий способ для сохранения своей собственности. Мы замолчали, а он,
приглася нас на мимоходный завтрак, отправился в село свое, расстоящее в
трех верстах от деревни, в коей мы ночевали.
На рассвете изба моя окружилась просителями; более ста пятидесяти крестьян
окрестных сел пали к ногам моим с просьбою на Масленикова, говоря: "Ты
увидишь, кормилец, село его, ни один хранц, (то есть франц, или француз) до
него не дотронулся, потому что он с ними же грабил нас и посылал все в
Вязьму, – всех разорил; у нас ни синь-пороха не осталось по его милости!"
Это нас все взорвало.
Я велел идти за мною как окружившим избу мою, так и встретившимся со мною
на дороге просителям.
Приехав в село Масленикова, я поставил их скрытно за церковью и запретил им
подходить ко двору прежде моего приказания. Казалось, мы вступили на
благословенный остров, оставшийся от всеобщего потопления! Село, церковь,
дом, избы и крестьяне – все было в цветущем положении! Я уверился в
справедливости доноса и, опасаясь, чтобы после ухода моего страдальцы сами
собой управы не сделали и тем не подали пример другим поселянам к мятежу и
безначалию, что в тогдашних обстоятельствах было бы разрушительно и
совершенно пагубно для России, я решился обречь себя в преступники и
принять ответственность за подвиг беззаконный, хотя спасительный!
Между тем товарищи мои сели за сытный завтрак... Я не ел, молчал и даже не
глядел на все лишние учтивости хозяина, который, чувствуя вину свою и видя
меня сумрачным и безмолвным, усугублял их более и более. После завтрака он
показал нам одну горницу, нарочно, как кажется, для оправдания себя
приготовленную: в ней все мебели были изломаны, обои оборваны и пух
разбросан по полу. "Вот, – говорил он, – вот что эти злодеи французы
наделали!"
Я, продолжая молчание, подал потаенно от него знак вестовому моему, чтобы
позвал просителей, и вышел на улицу будто бы садиться на конь и продолжать
путь мой. Когда на улице показалась толпа просителей, я, будто не зная, что
они за люди, спросил: "Кто они такие?" Они отвечали, что окрестные
крестьяне, и стали жаловаться на Масленикова, который уверял, что они
изменники и бунтовщики, но бледнел и трепетал. "Глас божий – глас народа!"
– отвечал я ему и немедленно велел казакам разложить его и дать двести
ударов нагайками.
По окончании экзекуции я спросил крестьян, довольны ли они? И когда
передний из них начал требовать возвращения похищенного, то, чтобы прервать
все претензии разом, я его взял за бороду и, ударив нагайкою, сказал
сердито и грозно: "Врешь! Этого быть не может. Вы знаете сами, что
похищенное все уже израсходовано французами, – где его взять? Мы все
потерпели от нашествия врагов, но что бог взял, то бог и даст. Ступайте по
домам, будьте довольны, что разоритель ваш наказан, как никогда помещиков
не наказывали, и чтобы я ни жалоб и ни шуму ни от одного из вас не слыхал.
Ступайте!"
После сего сел на конь и уехал. Теперь обратимся к военным действиям.
Размещение отдельных отрядов около 24-го и 25-го числ, то есть во время
нахождения главной квартиры французской армии в Дорогобуже, было следующее:
Князь Яшвиль, командовавший отрядом калужского ополчения, встретя в Ельне
дивизию Бараге-Дильера, находился на обратном марше в Рославль.
Генерал-лейтенант Шепелев с калужским ополчением, шестью орудиями и тремя
казачьими полками – в Рославле.
Отряд графа Орлова-Денисова был на марше от Вязьмы чрез Колпитку и Волочок
к Соловьевой переправе. Партия моя – вслед за оной на марше из Гаврюкова
чрез Богородицкое и Дубовище к Смоленску.
Отряд графа Ожаровского от Юхнова и Знаменского – на марше чрез Балтутино в
Вердебяки. Партии Фигнера и Сеславина – от Вязьмы к Смоленску, вслед за
моею партией, но ближе к главным колоннам неприятельской армии. Отряд
атамана Платова – вслед за арьергардом неприятеля, около Семлева.
Отряд генерала Кутузова [41] – между Гжатью и Сычевкой, в направлении к
Николе-Погорелову и к Духовщине. По тому же направлению, но ближе к
неприятелю, – партия Ефимова.
Пока покушался я занять большую дорогу у села Рыбков и производил поиск на
Славково, граф Орлов-Денисов опередил меня, так что едва усиленными
переходами я мог достичь его 25-го числа в селе Богородицком и то уже в
минуту выступления его к Соловьевой переправе. Оставя мою партию на марше,
я явился к графу с рапортом. Он меня принял хотя и ласково, но при всем том
весьма приметно было, сколь тревожил его вид подполковника, ускользнувшего
от владычества генерал-адъютанта и пользовавшегося одинакими с ними
правами. Дабы хотя на время исправить противоестественное положение сие, он
пригласил меня идти вместе с ним к Соловьевой переправе, предсказывая и
обещая мне, если я не последую за ним, несчастные успехи. Но я, помня
лесистые места около Соловьева и быв убежден в бесполезности сего поиска,
отказался, представив ему полученное мною повеление идти к Смоленску. К
тому же, прибавил я, изнурение лошадей принуждает меня дать отдых моей
партии, по крайней мере часа на четыре. На сие граф, усмехнувшись, сказал:
"Желаю вам спокойно отдыхать!" – и поскакал к своему отряду, который уже
вытягивался по дороге.
Я расчел верно. Покушение графа Орлова-Денисова не принесло ожидаемой им
пользы, и он принужденным нашелся обратиться к прежнему пути своему. Если б
партия моя была сильнее, дорого бы он заплатил за свою усмешку и долго бы
помнил залет свой к Соловьеву, ибо в продолжение сего времени я открыл
отряд генерала Ожеро в Ляхове и смог бы сделать один то, что сделал под
командою графа. 26-го, на марше к Дубовищам, я приметил, что авангард мой
бросился в погоню за конными французами. Вечернее время и туманная погода
не позволили ясно рассмотреть числа неприятеля, почему я, стянув полки,
велел взять дротики наперевес и пошел рысью вслед за авангардом. Но едва
вступил в маленькую деревушку, которой я забыл имя, как увидел несколько
авангардных казаков моих, ведущих ко мне лейб-жандармов французских
(Gendarmes d'elite). Они объявили мне о корпусе Бараге-Дильера,
расположенном между Смоленском и Ельнею, и требовали свободы, поставляя на
вид, что дело их не сражаться, а сохранять порядок в армии. Я отвечал им:
"Вы вооружены, вы французы, и вы в России; следовательно, молчите и
повинуйтесь!"
Обезоружа их, я приставил к ним стражу и приказал при первом удобном случае
отослать их в главную квартиру; а так как уже было поздно, то мы расставили
посты и остановились на ночлег.
Спустя час времени соединились со мною Сеславин и Фигнер [41] .
Я уже давно слышал о варварстве сего последнего, но не мог верить, чтобы
оно простиралось до убийства врагов безоружных, особенно в такое время,
когда обстоятельства отечества стали исправляться и, казалось, никакое
низкое чувство, еще менее мщение, не имело места в сердцах, исполненных
сильнейшею и совершеннейшею радостью! Но едва он узнал о моих пленных, как
бросился просить меня, чтобы я позволил растерзать их каким-то новым
казакам его, которые, как говорил он, еще не натравлены. Не могу выразить,
что почувствовал я при противуположности слов сих с красивыми чертами лица
Фигнера и взором его – добрым и приятным! Но когда вспомнил превосходные
военные дарования его, отважность, предприимчивость, деятельность – все
качества, составляющие необыкновенного воина, – я с сожалением сказал ему:
"Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения. Оставь меня думать, что
великодушие есть душа твоих дарований; без него они – вред, а не польза, а
как русскому, мне бы хотелось, чтобы у нас полезных людей было побольше".
Он на это сказал мне: «Разве ты не расстреливаешь?» – "Да, – говорил я, -
расстрелял двух изменников отечеству, из коих один был грабитель храма
божия". – "Ты, верно, расстреливал и пленных?" – "Боже меня сохрани! Хоть
вели тайно разведать у казаков моих". – "Ну, так походим вместе, – он
отвечал мне, – тогда ты покинешь все предрассудки". – "Если солдатская
честь и сострадание к несчастию – предрассудки, то их предпочитаю твоему
рассудку! Послушай, Александр Самойлович, – продолжал я. – Я прощаю
смертоубийству, коему причина – заблуждение сердца огненного; возмездие
души, гордой за презрение, оказанное ей некогда спесивой ничтожностию;
лишняя страсть к благу общему, часто вредная, но очаровательная в
великодушии своем! И пока вижу в человеке возвышенность чувств, увлекающих
его на подвиги отважные, безрассудные и даже бесчеловечные, – я подам руку
сему благородному чудовищу и готов делить с ним мнение людей, хотя бы чести
его приговор написан был в сердцах всего человечества! Но презираю убийцу
по расчетам или по врожденной склонности к разрушению".
Мы замолчали. Однако, опасаясь, чтобы он не велел похитить ночью пленных
моих, я, под предлогом отдавать приказания партии, вышел из избы, удвоил
секретно стражу, поручил сохранение их на ответственность урядника, за ними
надзиравшего, и отослал их рано поутру в главную квартиру.
Мы часто говорим о Фигнере – сем странном человеке, проложившем кровавый
путь среди людей, как метеор всеразрушающий. Я не могу постичь причину
алчности его к смертоубийству! Еще если бы он обращался к оному в
критических обстоятельствах, то есть посреди неприятельских корпусов,
отрезанный и теснимый противными отрядами и в невозможности доставить
взятых им пленных в армию. Но он обыкновенно предавал их смерти не во время
опасности, а освободясь уже от оной; и потому бесчеловечие сие вредило ему
даже и в маккиавеллических расчетах его, истребляя живые грамоты его
подвигов. Мы знали, что он истинно точен был в донесениях своих и
действительно забирал и истреблял по триста и четыреста нижних и вышних
чинов, но посторонние люди, линейные и главной квартиры чиновники, всегда
сомневались в его успехах и полагали, что он только бьет на бумаге, а не на
деле. Ко всему тому таковое поведение вскоре лишило его лучших офицеров,
вначале к нему приверженных. Они содрогнулись быть не токмо помощниками, но
даже свидетелями сих бесполезных кровопролитий и оставили его с одним его
сеидом – Ахтырского гусарского полка унтер-офицером Шиановым, человеком
неустрашимым, но кровожаждущим и по невежеству своему надеявшимся получить
царство небесное за истребление неприятеля каким бы то образом ни было.
В ночь возвратились разъездные мои, посланные к селу Ляхову, и уведомили
меня, что как в нем, так и в Язвине находятся два сильных неприятельских
отряда, что мне подтвердил и приведенный ими пленный, уверяя, что в первом
селе стоит генерал Ожеро с двумя тысячами человек пехоты и частью
кавалерии.
Мы решились атаковать Ляхово. Но так как все три партии не составляли более
тысячи двухсот человек разного сбора конницы, восьмидесяти егерей 20-го
егерского полка и четырех орудий, то я предложил пригласить на удар сей
графа Орлова-Денисова, которого партия состояла из шести полков казачьих и
Нежинского драгунского полка, весьма слабого, но еще годного для декорации
какого-нибудь возвышения.
Немедленно я послал к графу письмо пригласительное: "По встрече и разлуке
нашей я приметил, граф, что вы считаете меня непримиримым врагом всякого
начальства; кто без властолюбия? И я, при малых дарованиях моих, более
люблю быть первым, нежели вторым, а еще менее четвертым. Но властолюбие мое
простирается до черты общей пользы. Вот пример вам: я открыл в селе Ляхове
неприятеля, Сеславин, Фигнер и я соединились. Мы готовы драться. Но дело не
в драке, а в успехе. Нас не более тысячи двухсот человек, а французов две
тысячи и еще свежих. Поспешите к нам в Белкино, возьмите нас под свое
начальство – и ура! с богом!"
Двадцать седьмого числа мы были на марше. Вечером я получил от графа ответ.
Он писал: "Уведомление о движении вашем в Белкино я получил. Вслед за сим и
я следую для нападения на неприятеля; но кажется мне, что атака наша без
присоединения ко мне командированных мною трех полков, которые прибыть
должны через два часа, будет не наверное; а потому не худо бы нам дождаться
и действовать всеми силами".
Двадцать восьмого, поутру, Фигнер, Сеславин и я приехали в одну деревушку,
занимаемую полком Чеченского, верстах в двух от Белкина. Вдали было видно
Ляхово, вокруг села биваки; несколько пеших и конных солдат показывались
между избами и шалашами, более ничего не можно было заметить. Спустя
полчаса времени мы увидели неприятельских фуражиров в числе сорока человек,
ехавших без малейшей осторожности в направлении к Таращину. Чеченский
послал в тыл им лощиною сотню казаков своих. Фуражиры приметили их, когда
уже было поздно. Несколько спаслось бегством, большая часть, вместе с
офицером (адъютантом генерала Ожеро), сдалась в плен. Они подтвердили нам
известие о корпусе Бараге-Дильера и об отряде генерала Ожеро, кои невзирая
на следование отряда графа Ожаровского, прошедшего 27-го числа Балтутино на
Рославльскую дорогу, остались неподвижными, хотя Балтутино от Ляхова не
более как в семнадцати, а от Язвина в девяти верстах.
Вскоре из Белкина подошла ко мне вся партия моя, и граф Орлов-Денисов
явился на лихом коне с вестовыми гвардейскими казаками. Он известил нас,
что командированные им три полка прибыли и что вся его партия подходит.
Поговоря со мною, как и с которой стороны будем атаковать, он повернулся к
Фигнеру и Сеславину, которых еще партии не прибыли на место, и сказал: "Я
надеюсь, господа, что вы нас поддержите". Я предупредил ответ их: "Я за них
отвечаю, граф; не русским – выдавать русских". Сеславин согласился от всего
сердца, но Фигнер с некоторою ужимкой, ибо один любил опасности, как свою
стихию, другой – не боялся их, но любил сквозь них видеть собственную
пользу без раздела ее с другими. Спустя час времени все партии наши
соединились, кроме восьмидесяти егерей Сеславина; а так как мне поручена
была честь вести передовые войска, то я, до прибытия егерей, велел выбрать
в стрелки казаков, имевших ружья, и пошел к Ляхову, следуемый всеми
партиями.
Направление наше было наперерез Смоленской дороге, дабы совершенно
преградить отряду Ожеро отступление к Бараге-Дильеру, занимавшему
Долгомостье.
Коль скоро начали мы вытягиваться и подвигаться к Ляхову, все в селе этом
пришло в смятение; мы услышали барабаны и ясно видели, как отряд становился
в ружье; стрелки отделялись от колонн и выбегали из-за изб к нам навстречу.
Немедленно я спешил казаков моих и завязал дело. Полк Попова 13-го и
партизанскую мою команду развернул на левом фланге спешенных казаков, чтобы
закрыть движение подвигавшихся войск наших, а Чеченского с его полком
послал на Ельненскую дорогу, чтобы пресечь сообщение с Ясминым, где
находился другой отряд неприятеля. Последствия оправдали эту меру.
Сеславин прискакал с орудиями к стрелкам моим, открыл огонь по колоннам
неприятельским, выходившим из Ляхова, и продвинул гусар своих для прикрытия
стрелков и орудий. Партии его и Фигнера построились позади сего прикрытия.
Граф Орлов-Денисов расположил отряд свой на правом фланге партий Фигнера и
Сеславина и послал разъезды по дороге в Долгомостье.
Неприятель, невзирая на пушечные выстрелы, выходил из села, усиливал
стрелков, занимавших болотистый лес, примыкающий к селу, и напирал на
правый фланг наш главными силами. Сеславин сменил пеших казаков моих
прибывшими егерями своими и в одно время приказал ахтырским гусарам, под
командою ротмистра Горскина находившимся, ударить на неприятельскую
конницу, покусившуюся на стрелков наших. Горскин атаковал, – опрокинул сию
конницу и вогнал ее в лес, уже тогда обнаженный от листьев и, следственно,
неспособный к укрытию пехоты, стрелявшей для поддержания своей конницы.
Стрелки наши бросились за Горскиным и вместе с ним начали очищать лес, а
стрелки неприятельские – тянуться из оного чистым полем к правому флангу
отряда своего. Тогда Литовского уланского полка поручик Лизогуб, пользуясь
их смятением, рассыпал уланов своих и ударил. Проезжая в то время вдоль по
линии с правого на левый фланг, я попался между ними и был свидетелем
следующего случая.
Один из уланов гнался с саблею за французским егерем. Каждый раз, что егерь
прицеливался по нем, каждый раз он отъезжал прочь и преследовал снова,
когда егерь обращался в бегство. Приметя сие, я закричал улану: "Улан,
стыдно!" Он, не отвечав ни слова, поворотил лошадь, выдержал выстрел
французского егеря, бросился на него и рассек ему голову.
После сего, подъехав ко мне, он спросил меня: "Теперь довольны ли, ваше
высокоблагородие?" – и в ту же секунду охнул: какая-то бешеная пуля
перебила ему правую ногу. Странность состоит в том, что сей улан, получив
за подвиг сей Георгиевский знак, не мог носить его... Он был бердичевский
еврей, завербованный в уланы. Этот случай оправдывает мнение, что нет
такого рода людей, который не причастен был бы честолюбия и, следовательно,
не способен был бы к военной службе.
Приехав на левый фланг, мне представили от Чеченского взятого в плен
кривого гусарского ротмистра, которого я забыл имя, посланного в Ясмино с
уведомлением, что ляховский отряд атакован и чтобы ясминский отряд поспешал
к нему на помощь. Между тем Чеченский донес мне, что он прогнал обратно в
село вышедшую против него неприятельскую кавалерию, пресек совершенно путь
к Ясмину, и спрашивал разрешения: что прикажу учинить с сотнею человек
пехоты, засевшей в отдельных от села сараях, стрелявших из оных и не
сдающихся? Я велел жечь сараи – исчадье чингисханово, – сжечь и сараи и
французов.
Между тем граф Орлов-Денисов уведомлен был, что двухтысячная колонна спешит
по дороге от Долгомостья в тыл нашим отрядам и что наблюдательные войска
его, на сей дороге выставленные, с поспешностию отступают. Граф, оставя нас
продолжать действие против Ожеро, взял отряд свой и немедленно обратился с
ним на кирасиров, встретил их неподалеку от нас, атаковал, рассеял и,
отрядив полковника Быхалова с частию отряда своего для преследования оных к
Долгомостью, возвратился к нам под Ляхово.
Вечерело. Ляхово в разных местах загорелось; стрельба продолжалась...
Я уверен, что если бы при наступлении ночи генерал Ожеро свернул войска
свои в одну колонну, заключа в средину оной тяжести отряда своего, и
подвинулся бы таким порядком большою дорогою к Долгомостью и к Смоленску, -
все наши покушения остались бы тщетными. Иначе ничего сделать мы не могли,
как конвоировать его торжественно до корпуса Бараге-Дильера и откланяться
ему при их соединении.
Вместо того мы услышали барабанный бой впереди стрелковой линии и увидали
подвигавшегося к нам парламентера. В это время я ставил на левом моем
фланге между отдельными избами присланное мне от Сеславина орудие и
готовился стрелять картечью по подошедшей к левому моему флангу довольно
густой колонне. Граф Орлов-Денисов прислал мне сказать, чтобы я прекратил