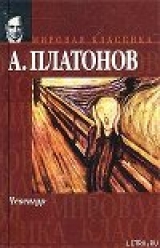
Текст книги "Чевенгур"
Автор книги: Денис Луженский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Гони березку в рост,
Иначе съест ее коза Европы!
Достоевский побледнел от сосредоточенного воображения неминуемой опасности капитализма. Действительно, представлял он, объедят у нас белые козы молодую кору, заголится вся революция и замерзнет насмерть.
– Так за кем же дело, товарищи? – воодушевленно воскликнул Достоевский. – Давайте начнем тогда сейчас же: можно к Новому году поспеть сделать социализм! Летом прискочут белые козы, а кора уже застареет на советской березе.
Достоевский думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал. Дванов его сразу понял.
– Нет, товарищ Достоевский. Социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей. Сколько у вас дворов в селе?
– У нас многодворье: триста сорок дворов, да на отшибе пятнадцать хозяев живут, – сообщил Достоевский.
– Вот и хорошо. Вам надо разбиться артелей на пять, на шесть, – придумывал Дванов. – Объяви немедленно трудповинность – пусть пока колодцы на залежи копают, а с весны гужом начинай возить постройки. Колодезники-то есть у вас?
Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и превращал их в видимые обстоятельства. Он не имел дара выдумывать истину, и мог ее понять, только обратив мысли в события своего района, но это шло в нем долго: он должен умственно представить порожнюю степь в знакомом месте, поименно переставить на нее дворы своего села и посмотреть, как оно получается.
– Колодезники-то есть, – говорил Достоевский. – Примерно, Франц Меринг: он ногами воду чует. Побродит по балкам, прикинет горизонты и скажет: рой, ребята, тутошнее место на шесть сажен. Вода потом гуртом оттуда прет. Значит, мать ему с отцом так угодили.
Дванов помог Достоевскому вообразить социализм малодворными артельными поселками с общими приусадебными наделами. Достоевский же все принял, но не хватало какой-то общей радости над всеми гумнами, чтобы воображение будущего стало любовью и теплом, чтобы совесть и нетерпение взошли силой внутри его тела – от временного отсутствия социализма наяву.
Копенкин слушал-слушал и обиделся:
– Да что ты за гнида такая: сказано тебе от губисполкома – закончи к лету социализм! Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты Ленин тут, ты советский сторож: темп разрухи только задерживаешь, пагубная душа!
Дванов завлекал Достоевского дальше:
– Земля от культурных трав будет ярче и яснее видна с других планет. А еще – усилится обмен влаги, небо станет голубей и прозрачней!
Достоевский обрадовался: он окончательно увидел социализм. Это голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий, жизнь настолько счастлива, что – бесшумна. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский; и вот – он сидит сороковые сутки без сна и в самозабвенной задумчивости; чистоплотные красивые девушки приносят ему вкусную пищу – борщ и свинину, но уносят ее целой обратно: Достоевский не может очнуться от своей обязанности.
Девицы влюбляются в Достоевского, но они поголовные партийки и из-за дисциплины не могут признаться, а мучаются молча в порядке сознательности.
Достоевский корябнул ногтем по столу, как бы размежевывая эпоху надвое:
– Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!.. А я смотрю: чего я тоскую? Это я по социализму скучал.
– По нем, – утвердительно сказал Копенкин. – Всякому охота Розу любить.
Достоевский обратил внимание на Розу, но полностью не понял – лишь догадался, что Роза, наверно, сокращенное название революции, либо неизвестный ему лозунг.
– Совершенно правильно, товарищ! – с удовольствием сказал Достоевский, потому что основное счастье уже было открыто. – Но все-таки я вот похудел от руководства революцией в своем районе.
– Понятно: ты здесь всем текущим событиям затычка, – поддерживал Копенкин достоинство Достоевского.
Однако Федор Михайлович не мог спокойно заснуть тою ночью; он ворочался и протяжно бормотал мелочи своих размышлений.
– Ты что? – услышал звуки Достоевского незаснувший Копенкин. – Тебе от скуки скулья сводит? Лучше вспомни жертвы гражданской войны, и тебе станет печально.
Ночью Достоевский разбудил спящих. Копенкин, еще не проснувшись, схватился за саблю – для встречи внезапно напавшего врага.
– Я ради Советской власти тебя тронул! – объяснил Достоевский.
– Тогда чего же ты раньше не разбудил? – строго спросил Копенкин.
– Скотского поголовья у нас нету, – сразу заговорил Достоевский: он за половину ночи успел додумать дело социализма до самой жизни. – Какой же тебе гражданин пойдет на тучную степь, когда скота нету? К чему же тогда постройки багажом тащить?.. Замучился я от волнений...
Копенкин почесал свой худой резкий кадык, словно потроша горло.
– Саша! – сказал он Дванову. – Ты не спи зря: скажи этому элементу, что он советских законов не знает.
Затем Копенкин мрачно пригляделся к Достоевскому.
– Ты белый вспомогатель, а не районный Ленин! Над чем думает. Да ты выгони завтра весь живой скот, если у кого он остался, и подели его по душам и по революционному чувству. Кряк – и готово!
Копенкин сейчас же снова заснул: он не понимал и не имел душевных сомнений, считая их изменой революции; Роза Люксембург заранее и за всех продумала все – теперь остались одни подвиги вооруженной руки, ради сокрушения видимого и невидимого врага.
Утром Достоевский пошел в обход Ханских Двориков, объявляя подворно объединенный приказ волревкома и губисполкома – о революционном дележе скота без всякого изъятия.
И скот выводили к церкви на площадь, под плач всего имущего народа. Но и бедняки страдали от вида ноющих хозяев и жалостных старух, а некоторые из неимущих тоже плакали, хотя их ожидала доля.
Женщины целовали коров, мужики особо ласково и некрепко держали своих лошадей, ободряя их, как сыновей на войну, а сами решали – заплакать им или так обойтись.
Один крестьянин, человек длинного тонкого роста, но с маленьким голым лицом и девичьим голосом, привел своего рысака не только без упрека, а со словами утешения для всех тоскующих однодеревенцев:
– Дядя Митрий, чего ты? – высоко говорил он грустному старику. – Да пралич ее завозьми совсем: что ты, с жизнью, что ль, без остатка расстаешься? Ишь ты, скорбь какая – лошадь заберут, да сатана с ней, еще заведем. Собери скорбя свои обратно!
Достоевский знал этого крестьянина: старый дезертир. Он в малолетстве прибыл откуда-то без справки и документа – и не мог быть призванным ни на одну войну: не имел официального года рождения и имени, а формально вовсе не существовал; чтобы обозначить его как-нибудь, для житейского удобства соседи прозвали дезертира Недоделанным, а в списках бывшего сельсовета он не значился. Был один секретарь, который ниже всех фамилий написал: «Прочие – 1; пол: сомнительный». Но следующий секретарь не понял такой записи и прибавил одну лишнюю голову к крупнорогатому скоту, а «прочих» вычеркнул абсолютно. Так и жил Недоделанный общественной утечкой, как просо с воза на землю.
Однако недавно Достоевский чернилами вписал его в гражданский список под названием «уклоняющегося середняка без лично присвоенной фамилии», и тем прочно закрепил его существование: как бы родил Недоделанного для советской пользы.
Степная жизнь шла в старину по следам скота, и в народе остался страх умереть с голоду без скота, поэтому люди плакали больше из предрассудка, чем из страха убытка.
Дванов и Копенкин пришли, когда Достоевский начал разверстывать скот по беднякам.
Копенкин проверил его:
– Не ошибись: революционное-то чувство сейчас в тебе полностью?
Гордый властью Достоевский показал рукой от живота до шеи. Способ дележа он придумал простой и ясный: самые бедные получали самых лучших лошадей и коров; но так как скота было мало, то середнякам уже ничего не пришлось, лишь некоторым перепало по овце.
Когда дело благополучно подбивалось к концу, вышел тот же Недоделанный и обратился хрипатым голосом:
– Федор Михалыч, товарищ Достоевский, наше дело, конечно, нелепое, но ты не обижайся, что я тебе сейчас скажу. Ты только не обижайся!
– Говори, гражданин Недоделанный, говори честно и бесстрашно! – открыто и поучительно для всех – разрешил Достоевский.
Недоделанный повернулся к горюющему народу. Горевали даже бедняки, испуганно державшие даровых лошадей, а многие из них тайком поотдавали скот обратно имущим.
– Раз так, то слушай меня весь скоп! Я вот по-дурацки спрошу: а чего будет делать, к примеру, Петька Рыжов с моим рысаком? У него же весь корм в соломенной крыше, на усадьбе жердины в запасе нету, а в пузе полкартошки парится с третьего дня. А во-вторых, ты не обижайся, Федор Михалыч, – твое дело революция, нам известно, – а во-вторых, как потом с приплодом быть? Теперча мы бедняки: стало быть, лошадные для нас сосунов будут жеребить? А ну-ка спроси, Федор Михалыч, похотят ли бедняки-лошадники жеребят и телок нам питать?
Народ окаменел от такого здравого смысла. Недоделанный учел молчание и продолжал:
– По-моему, годов через пять выше куры скота ни у кого не будет. Кому ж охота маток телить для соседа? Да и нынешний-то скот, не доживя веку, подохнет. У того же Петьки мой рысак первым ляжет – человек сроду лошадь не видал, а кроме кольев, у него кормов нету! Ты вот утешь меня, Федор Михалыч, – только обиды в себе на меня не томи!
Достоевский его сразу утешил:
– Верно, Недоделанный, ни к чему дележ!
Копенкин вырвался на чистоту посреди круга людей.
– Как так ни к чему? Ты что, бандитскую сторону берешь? Так я тебя враз доделаю! Граждане, – с устрашением и дрожью сказал всем Копенкин. – Того, что недоделанный кулак сейчас говорил, – ничего не будет. Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет! Вследствие же отвода рысака от Рыжова предлагаю его передать уполномоченному губисполкома – товарищу Дванову. А теперь – расходитесь, товарищи бедняки, для борьбы с разрухой!
Бедняки неуверенно тронулись с коровами и лошадьми, разучившись их водить.
Недоделанный, обомлевши, глядел на Копенкина – емо мучила уже не утрата рысака, а любопытство.
– А дозвольте мне слово спросить, товарищ из губернии? – насмелился наконец Недоделанный детским голосом.
– Власти тебе не дано, так спрашивай тогда! – сжалился Копенкин.
Недоделанный вежливо и внимательно спросил:
– А что такое социализм, что там будет и откуда туда добро прибавится?
Копенкин объяснил без усилия:
– Если бы ты бедняк был, то сам бы знал, а раз ты кулак, то ничего не поймешь.
Вечером Дванов и Копенкин хотели уезжать, но Достоевский просил остаться до утра, чтобы окончательно узнать – с чего начинать и чем кончать социализм в степи.
Копенкин скучал от долгой остановки и решил ехать в ночь.
– Уж все тебе сказали, – инструктировал он Достоевского. – Скот есть. Классовые массы на ногах. Теперь объявляй трудгужповинность – рой в степи колодцы и пруды, а с весны вези постройки. Гляди, чтоб к лету социализм из травы виднелся! Я к тебе наведаюсь!
– Тогда выходит, что одни бедняки и будут работать – у них ведь лошади, а зажиточные будут жить без толку! – опять сомневался Достоевский.
– Ну и что ж? – не удивился Копенкин. – Социализм и должен произойти из чистых бедняцких рук, а кулаки в борьбе погибнут.
– Это верно, – удовлетворился Достоевский.
Ночью Дванов и Копенкин уехали, еще раз пристрожив Достоевского насчет срока устройства социализма.
Рысак Недоделанного шагал рядом с Пролетарской Силой. Обоим всадникам стало легче, когда они почувствовали дорогу, влекущую их вдаль из тесноты населения. У каждого, даже от суточной оседлости, в сердце скоплялась сила тоски; поэтому Дванов и Копенкин боялись потолков хат и стремились на дороги, которые отсасывали у них лишнюю кровь из сердца.
Уездная широкая дорога пошла навстречу двум всадникам, переведшим коней на степную рысь.
А над ними было высокое стояние ночных облаков, полуосвещенных давно зашедшим солнцем, и опустошенный дневным ветром воздух больше не шевелился. От свежести и безмолвия поникшего пространства Дванов ослаб, он начал засыпать на рысаке.
– Встретится жилье – давай там подремлем до рассвета, – сказал Дванов.
Копенкин показал на недалекую полосу леса, лежавшего на просторной земле черной тишиной и уютом.
– Там будет кордон.
Еще только въехав в чащу сосредоточенных грустных деревьев, путники услышали скучающие голоса кордонных собак, стерегущих во тьме уединенный кров человека.
Лесной надзиратель, хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи.
Его отец-лесничий оставил ему библиотеку из дешевых книг самых последних, нечитаемых и забытых сочинителей. Он говорил сыну, что решающие жизнь истины существуют тайно в заброшенных книгах.
Отец лесного надзирателя сравнивал плохие книги с нерожденными детьми, погибающими в утробе матери от несоответствия своего слишком нежного тела грубости мира, проникающего даже в материнское лоно.
– Если бы десять таких детей уцелело, они сделали бы человека торжественным и высоким существом, – завещал отец сыну. – Но рождается самое смутное в уме и нечувствительное в сердце, что переносит резкий воздух природы и борьбу за сырую пищу.
Лесной надзиратель читал сегодня произведение Николая Арсакова, изданное в 1868 году. Сочинение называлось «Второстепенные люди», и надзиратель сквозь скуку сухого слова отыскивал то, что ему нужно было. Надзиратель считал, что скучных и бессмысленных книг нет, если читатель бдительно ищет в них смысл жизни. Скучные книги происходят от скучного читателя, ибо в книгах действует ищущая тоска читателя, а не умелость сочинителя.
«Откуда вы? – думал надзиратель про большевиков. – Вы, наверное, когда-то уже были, ничего не происходит без подобия чему-нибудь, без воровства существовавшего».
Двое маленьких детей и располневшая жена спали мирно и безотчетно. Поглядывая на них, надзиратель возбуждал свою мысль, призывая ее на стражу для этих трех драгоценных существ. Он хотел открыть будущее, чтобы заблаговременно разобраться в нем и не дать погибнуть своим ближайшим родственникам.
Арсаков писал, что только второстепенные люди делают медленную пользу. Слишком большой ум совершенно ни к чему – он как трава на жирных почвах, которая валится до созревания и не поддается покосу. Ускорение жизни высшими людьми утомляет ее, и она теряет то, что имела раньше.
«Люди, – учил Арсаков, – очень рано почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души. Созерцание – это самообучение из чуждых происшествий. Пускай же как можно длительнее учатся люди обстоятельствам природы, чтобы начать свои действия поздно, но безошибочно, прочно и с оружием зрелого опыта в деснице. Надобно памятовать, что все грехи общежития растут от вмешательства в него юных разумом мужей. Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия».
Собаки взвыли голосами тревоги, и надзиратель, взяв винтовку, вышел встречать поздних гостей.
Сквозь строй преданных собак и мужающих щенков надзиратель провел лошадей с Двановым и Копенкиным.
Через полчаса трое людей стояли вокруг лампы в бревенчатом, надышенном жизнью доме. Надзиратель поставил гостям хлеб и молоко.
Он насторожился и заранее приготовился ко всему плохому от ночных людей. Но общее лицо Дванова и его часто останавливающиеся глаза успокаивали надзирателя.
Поев, Копенкин взял раскрытую книгу и с усилием прочитал, что писал Арсаков.
– Как ты думаешь? – подал Копенкин книгу Дванову.
Дванов прочел.
– Капиталистическая теория: живи и не шевелись.
– Я тоже так думаю! – сказал Копенкин, отстраняя порочную книгу прочь. – Ты скажи, куда нам лес девать в социализме? – с огорченной задумчивостью вздохнул Копенкин.
– Скажите, товарищ, сколько лес дает дохода на десятину? – спросил Дванов надзирателя.
– Разно бывает, – затруднился надзиратель. – Какой смотря лес, какого возраста и состояния – здесь много обстоятельств...
– Ну а в среднем?
– В среднем... Рублей десять-пятнадцать надо считать.
– Только? А рожь, наверно, больше?
Надзиратель начал пугаться и старался не ошибиться.
– Рожь несколько больше... Двадцать-тридцать рублей выйдет у мужика чистого дохода на десятину. Я думаю, не меньше.
У Копенкина на лице появилась ярость обманутого человека.
– Тогда лес надо сразу сносить и отдать землю под пахоту! Эти дерева только у озимого хлеба место отнимают...
Надзиратель затих и следил чуткими глазами за волнующимся Копенкиным. Дванов высчитывал карандашом на книжке Арсакова убыток от лесоводства. Он еще спросил у надзирателя, сколько десятин в лесничестве, – и подвел итог.
– Тысяч десять мужики в год теряют от этого леса, – спокойно сообщил Дванов. – Рожь, пожалуй, будет выгоднее.
– Конечно, выгодней! – воскликнул Копенкин. – Сам лесник тебе сказал. Вырубить надо наголо всю эту гущу и засеять рожью. Пиши приказ, товарищ Дванов!
Дванов вспомнил, что он давно не сносился с Шумилиным. Хотя Шумилин не осудит его за прямые действия, согласные с очевидной революционной пользой. Надзиратель осмелился немного возразить:
– Я хотел вам сказать, что самовольные порубки и так сильно развились в последнее время, и не надо больше рубить такие твердые растения.
– Ну тем лучше, – враждебно отозвался Копенкин. – Мы идем по следу народа, а не впереди его. Народ, значит, сам чует, что рожь полезней деревьев. Пиши, Саша, ордер на рубку леса.
Дванов написал длинный приказ-обращение для всех крестьян-бедняков Верхне-Мотнинской волости. В приказе, от имени губисполкома, предлагалось взять справки о бедняцком состоянии и срочно вырубить лес Биттермановского лесничества. Этим, говорилось в приказе, сразу проложатся два пути в социализм. С одной стороны, бедняки получат лес – для постройки новых советских городов на высокой степи, а с другой – освободится земля для посевов ржи и прочих культур, более выгодных, чем долгорастущее дерево.
Копенкин прочитал приказ.
– Отлично! – оценил он. – Дай-ка и я подпишусь внизу, чтобы страшнее было: меня здесь многие помнят – я ведь вооруженный человек.
И подписался полным званием:
«Командир отряда полевых большевиков имени Розы Люксембург Верхне-Мотнинского района Степан Ефимович Копенкин».
– Отвезешь завтрашний день в ближние деревни, а другие сами узнают, – вручил Копенкин бумагу лесному надзирателю.
– А что мне после леса делать? – спросил распоряжений надзиратель.
Копенкин указал:
– Да тоже – землю паши и кормись! Небось в год-то столько жалованья получал, что целый хутор съедал! Теперь поживи, как масса.
Уже поздно. Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом. До революции Копенкин ничего внимательно не ощущал – лесá, люди и гонимые ветром пространства не волновали его, и он не вмешивался в них. Теперь наступила перемена. Копенкин слушал ровный гул зимней ночи и хотел, чтобы она благополучно прошла над советской землей.
Не одна любовь к срубленной Розе существовала в сердце Копенкина – она лишь лежала в своем теплом гнезде, но это гнездо было свито из зелени забот о советских гражданах, трудной жалости ко всем обветшалым от нищеты и яростных подвигов против ежеминутно встречающихся врагов бедных.
Ночь допевала свои последние часы над лесным Биттермановским массивом. Дванов и Копенкин спали на полу, потягивая во сне ноги, уставшие от коней.
Дванову снилось, что он маленький мальчик и в детской радости жмет грудь матери, как, видел он, другие жмут, но глаз поднять на ее лицо боится и не может. Свой страх он сознавал неясно и пугался на шее матери увидеть другое лицо – такое же любимое, но не родное.
Копенкину ничего не снилось, потому что у него все сбывалось наяву.
В этот час, быть может, само счастье искало своих счастливых, а счастливые отдыхали от дневных социальных забот, не помня своего родства со счастьем.
* * *
На другой день Дванов и Копенкин отправились с рассветом солнца вдаль и после полудня приехали на заседание правления коммуны «Дружба бедняка», что живет на юге Новоселовского уезда. Коммуна заняла бывшее имение Карякина и теперь обсуждала вопрос приспособления построек под нужды семи семейств – членов коммуны. Под конец заседания правление приняло предложение Копенкина: оставить коммуне самое необходимое – один дом, сарай и ригу, а остальные два дома и прочие службы отдать в разбор соседней деревне, чтобы лишнее имущество коммуны не угнетало окружающих крестьян.
Затем писарь коммуны стал писать ордера на ужин, выписывая лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» от руки на каждом ордере.
Все взрослые члены коммуны – семь мужчин, пять женщин и четыре девки занимали в коммуне определенные должности.
Поименный перечень должностей висел на стене. Все люди, согласно перечня и распорядка, были заняты целый день обслуживанием самих себя; названия же должностей изменилось в сторону большего уважения к труду, как-то – была заведующая коммунальным питанием, начальник живой тяги, железный мастер – он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества (должно быть, кузнец, плотник и прочее – в одной и той же личности), заведующий охраной и неприкосновенностью коммуны, заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных деревнях, коммунальная воспитательница поколения – и другие обслуживающие должности.
Копенкин долго читал бумагу и что-то соображал, а потом спросил председателя, подписывавшего ордера на ужин:
– Ну, а как же вы пашете-то?
Председатель ответил, не останавливаясь подписывать:
– В этом году не пахали.
– Почему так?
– Нельзя было внутреннего порядка нарушать: пришлось бы всех от должностей отнять – какая ж коммуна тогда осталась? И так еле наладили, а потом – в имении хлеб еще был...
– Ну тогда так, раз хлеб был, – оставил сомнения Копенкин.
– Был, был, – сказал председатель, – мы его на учет сразу и взяли – для общественной сытости.
– Это, товарищ, правильно.
– Без сомнения: у нас все записано и по ртам забронировано. Фельдшера звали, чтобы норму пищи без предрассудка навсегда установить. Здесь большая дума над каждой вещью была: великое дело – коммуна! Усложнение жизни!
Копенкин и здесь согласился – он верил, что люди сами справедливо управятся, если им не мешать. Его дело – держать дорогу в социализм чистой; для этого он применял свою вооруженную руку и веское указание. Смутило Копенкина только одно – усложнение жизни, про которое упомянул председатель. Он даже посоветовался с Двановым: не ликвидировать ли коммуну «Дружба бедняка» немедленно, так как при сложной жизни нельзя будет разобрать, кто кого угнетает. Но Дванов отсоветовал: пусть, говорит, это они от радости усложняют, из увлечения умственным трудом – раньше они голыми руками работали и без смысла в голове; пусть теперь радуются своему разуму.
– Ну, ладно, – понял Копенкин, – тогда им надо получше усложнять. Следует в полной мере помочь. Ты выдумай им что-нибудь... неясное.
Дванов и Копенкин остались в коммуне на сутки, чтобы их кони успели напитаться кормом для долгой дороги.
С утра свежего солнечного дня началось обычное общее собрание коммуны. Собрания назначались через день, чтобы вовремя уследить за текущими событиями. В повестку дня вносилось два пункта: «текущий момент» и «текущие дела». Перед собранием Копенкин попросил слова, ему его с радостью дали и даже внесли предложение не ограничивать времени оратору.
– Говори безгранично, до вечера времени много, – сказал Копенкину председатель.
Но Копенкин не мог плавно проговорить больше двух минут, потому что ему лезли в голову посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что он сам останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове.
Нынче Копенкин начал с подхода, что цель коммуны «Дружба бедняка» – усложнение жизни, в целях создания запутанности дел и отпора всею сложностью притаившегося кулака. Когда будет все сложно, тесно и непонятно, – объяснял Копенкин, – тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть. А потому, – поскорее закончил Копенкин, чтобы не забыть конкретного предложения, – а потому я предлагаю созывать общие собрания коммуны не через день, а каждодневно и даже дважды в сутки: во-первых, для усложнения общей жизни, а во-вторых, чтобы текущие события не утекли напрасно куда-нибудь без всякого внимания, – мало ли что произойдет за сутки, а вы тут останетесь в забвении, как в бурьяне...
Копенкин остановился в засохшем потоке речи, как на мели, и положил руку на эфес сабли, сразу позабыв все слова. Все глядели на него с испугом и уважением.
– Президиум предлагает принять единогласно, – заключил председатель опытным голосом.
– Отлично, – сказал стоявший впереди всех член коммуны – начальник живой тяги, веривший в ум незнакомых людей. Все подняли руки – одновременно и вертикально, обнаружив хорошую привычку.
– Вот и не годится! – громко объявил Копенкин.
– А что? – обеспокоился председатель.
Копенкин махнул на собрание досадной рукой:
– Пускай хоть одна девка всегда будет голосовать напротив...
– А для чего, товарищ Копенкин?
– Чудаки: для того же самого усложнения...
– Понял – верно! – обрадовался председатель и предложил собранию выделить заведующую птицей и рожью Маланью Отвершкову – для постоянного голосования всем напротив.
Затем Дванов доложил о текущем моменте. Он принял во внимание ту смертельную опасность, которая грозит коммунам, расселенным в безлюдной враждебной степи, от бродящих бандитов.
– Эти люди, – говорил Дванов про бандитов, – хотят потушить зарю, но заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомков человечества. Ибо несомненно – после завоевания земного шара – наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней...
– Красочно говорит, – похвалил Дванова тот же начальник живой тяги.
– Вникай молча, – тихо посоветовал ему председатель.
– Ваша коммуна, – продолжал Дванов, – должна перехитрить бандитов, чтобы они не поняли, что тут есть. Вы должны поставить дело настолько умно и сложно, чтобы не было никакой очевидности коммунизма, а на самом деле он налицо. Въезжает, скажем, бандит с обрезом в усадьбу коммуны и глядит, чего ему тащить и кого кончать. Но навстречу ему выходит секретарь с талонной книжкой и говорит: если вам, гражданин, чего-нибудь надо, то получите талон и ступайте себе в склад; если вы бедняк, то возьмите свой паек даром, а если вы прочий, то прослужите у нас одни сутки в должности, скажем, охотника на волков. Уверяю граждан, что ни один бандит внезапно на вас руки не поднимет, потому что сразу вас не поймет. А потом вы либо откупайтесь от них, если бандитов больше вас, либо берите их в плен понемногу, когда они удивятся и в недоумении будут ездить по усадьбе с покойным оружием. Правильно я говорю?
– Да почти что, – согласился все тот же разговорчивый начальник живой тяги.
– Единогласно, что ль, и при одной против? – провозгласил председатель.
Но вышло сложнее: Маланья Отвершкова, конечно, голосовала против, но, кроме нее, заведующий удобрением почвы – рыжеватый член коммуны с однообразным массовым лицом, – воздержался.
– Ты что? – озадачился председатель.
– Воздержусь для усложнения! – выдумал тот.
Тогда его, по предложению председателя, назначили постоянно воздерживаться. Вечером Дванов и Копенкин хотели трогаться дальше – в долину реки Черной Калитвы, где в двух слободах открыто жили бандиты, планомерно убивая членов Советской власти по всему району. Но председатель коммуны упросил их остаться на вечернее заседание коммуны, чтобы совместно обдумать памятник революции, который секретарь советовал поставить среди двора, а Маланья Отвершкова, напротив, в саду. Заведующий же удобрением почвы воздерживался и ничего не говорил.
– По-твоему, нигде не ставить, что ль? – спрашивал председатель воздержавшегося.
– Воздерживаюсь от высказывания своего мнения, – последовательно отвечал заведующий удобрением.
– Но большинство – за, придется ставить, – озабоченно рассуждал председатель. – Главное, фигуру надо придумать.
Дванов нарисовал на бумаге фигуру.
Он подал изображение председателю и объяснил:
– Лежачая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела – бесконечность пространства.
Председатель показал фигуру всем собранию:
– Тут и вечность и бесконечность, значит – все, умней не придумаешь: предлагаю принять.
Приняли при одной против и одном воздержавшемся. Памятник решили соорудить среди усадьбы на старом мельничном камне, ожидавшем революцию долгие годы. Самый же памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру.
– Тут мы организовали хорошо, – говорил утром Дванов Копенкину. Они двигались по глинистой дороге под облаками среднего лета в дальнюю долину Черной Калитвы. – У них теперь пойдет усиленное усложнение, и они к весне обязательно, для усложнения, начнут пахать землю и перестанут съедать остатки имения.
– Ясно придумано, – счастливо сказал Копенкин.
– Конечно, ясно. Иногда здоровому человеку, притворяющемуся для сложности больным, нужно только говорить, что он недостаточно болен, и убеждать его в этом дальше, и он, наконец, сам выздоровеет.
– Понятно, тогда ему здоровье покажется свежим усложнением и упущенной редкостью, – правильно сообразил Копенкин, а про себя подумал, какое хорошее и неясное слово: усложнение, как – текущий момент. Момент, а течет: представить нельзя.
– Как такие слова называются, которые непонятны? – скромно спросил Копенкин. – Тернии иль нет?
– Термины, – кратко ответил Дванов. Он в душе любил неведение больше культуры: невежество – чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура – уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем – не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять: он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным, если только ветер войны не принесет из Западной Европы семена капиталистического бурьяна.
Однажды, среди равномерности степи, он увидел далекую толпу куда-то бредущих людей, и при виде их множества в нем встала сила радости, будто он имел взаимное прикосновение к тем недостижимым людям.








