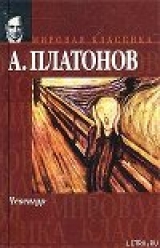
Текст книги "Чевенгур"
Автор книги: Денис Луженский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
До полудня никто не являлся в ревком, а лошадь Копенкина ржала от жажды, но Копенкин, ради захвата Чевенгура, заставил ее страдать. В полдень в храм явился Прокофий, на паперти он вынул из-за пазухи портфель и пошел с ним через учреждение заниматься в алтарь. Копенкин стоял на амвоне и дожидался его.
– Прибыл? – спросил он Прокофия. – Останавливайся на месте, жди меня.
Прокофий покорился, он знал, что в Чевенгуре отсутствует правильное государство и разумным элементам приходится жить в отсталом классе и лишь постепенно подминать его под свое начало.
Копенкин изъял от Прокофия портфель и два дамских револьвера, а потом повел в притвор алтаря – сажать под арест.
– Товарищ Копенкин, разве ты можешь делать революцию? – спросил Прокофий.
– Могу. Ты же видишь, я ее делаю.
– А ты платил членские взносы? Покажи мне твой партбилет!
– Не дам. Тебе была дана власть, а ты бедный народ коммунизмом не обеспечил. Ступай в алтарь, сиди – ожидай.
Лошадь Копенкина зарычала от жажды, и Прокофий отступил от Копенкина в притвор алтаря. Копенкин нашел в шкафу просвирни сосуд с кутьей, просунул ее Прокофию, чтоб он мог питаться, а затем запер арестованного крестом, продев его через дверные ручки.
Прокофий смотрел на Копенкина через сквозные узоры двери и ничего не говорил.
– Там Саша приехал, по городу ходит и тебя ищет, – сказал вдруг Прокофий.
Копенкин почувствовал, что он от радости хочет есть, но усиленно сохранил спокойствие перед лицом врага.
– Если Саша приехал, то ты сейчас же выходи наружу: он сам знает, что с вами делать, – теперь ты не страшен.
Копенкин выдернул крест из дверных скоб, сел верхом на Пролетарскую Силу и сразу дал ход коню навскок – через паперть и притвор в Чевенгур.
Александр Дванов шел по улице и ничего еще не понимал – видел только, что в Чевенгуре хорошо. Солнце сияло над городом и степью, как единственный цвет среди бесплодного неба, и с раздраженным давлением перезревшей силы нагнетало в землю светлую жару своего цветения. Чепурный сопровождал Дванова, пытаясь ему объяснить коммунизм, и не мог. Заметив наконец солнце, он указал на него Дванову:
– Вон наша база горит и не сгорает.
– Где ваша база? – посмотрел Дванов на него.
– Вонна. Мы людей не мучаем, мы от лишней силы солнца живем.
– Почему – лишней?
– А потому, что если б она была не лишняя, солнце бы ее вниз не спускало – и стало черным. А раз лишняя – давай ее нам, а мы между собой жизнью займемся! Понял ты меня?
– Я хочу сам увидеть, – сказал Дванов; он шел усталый и доверчивый, он хотел видеть Чевенгур не для того, чтобы его проверить, а для того, чтобы лучше почувствовать его сбывшееся местное братство.
Революция прошла как день; в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испустившее дух, как скошенная нива, – и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над Чевенгуром. Никто уже не показывался в степи на боевом коне: иной был убит и труп его не был найден, а имя забыто, иной смирил коня и вел вперед бедноту в родной деревне, но уже не в степь, а в лучшее будущее. А если кто и показывался в степи, то к нему не приглядывались – это был какой-нибудь безопасный и покойный человек, ехавший мимо по делам своих забот. Дойдя с Гопнером до Чевенгура, Дванов увидел, что в природе не было прежней тревоги, а в подорожных деревнях – опасности и бедствия: революция миновала эти места, освободила поля под мирную тоску, а сама ушла неизвестно куда, словно скрылась во внутренней темноте человека, утомившись на своих пройденных путях. В мире было как вечером, и Дванов почувствовал, что и в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления. В такой же, свой вечер жизни отец Дванова навсегда скрылся в глубине озера Мутево, желая раньше времени увидеть будущее утро. Теперь начинался иной вечер – быть может, уже был прожит тот день, утро которого хотел видеть рыбак Дванов, и сын его снова переживал вечер. Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма, но он шел вперед со всеми, потому что все шли и страшно было остаться одному, он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца и своего семейства. Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре, – так же, как рыбак Дванов не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света. Но отец был дорог Дванову не за свое любопытство и Чепурный понравился ему не за страсть к немедленному коммунизму – отец был сам по себе необходим для Дванова, как первый утраченный друг, а Чепурный – как безродный товарищ, которого без коммунизма люди не примут к себе. Дванов любил отца, Копенкина, Чепурного и многих прочих за то, что они все, подобно его отцу, погибнут от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих.
Дванов вспомнил старого, еле живущего Захара Павловича. «Саша, – говорил, бывало, он, – сделай что-нибудь на свете, видишь – люди живут и погибают. Нам ведь надо чего-нибудь чуть-чуть».
И Дванов решил дойти до Чевенгура, чтобы узнать в нем коммунизм и возвратиться к Захару Павловичу для помощи ему и другим еле живущим. Но коммунизма в Чевенгуре не было наружи, он, наверное, скрылся в людях, – Дванов нигде его не видел, – в степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные прочие. «Кончается моя молодость, – думал Дванов, – во мне тихо, и во всей истории проходит вечер». В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно: революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела.
– История грустна, потому что она время и знает, что ее забудут, – сказал Дванов Чепурному.
– Это верно, – удивился Чепурный. – Как я сам не заметил! Поэтому вечером и птицы не поют – одни сверчки: какая ж у них песня! Вот у нас тоже – постоянно сверчки поют, а птиц мало, – это у нас история кончилась! Скажи пожалуйста – мы примет не знали!
Копенкин настиг Дванова сзади; он загляделся на Сашу с жадностью своей дружбы к нему и забыл слезть с коня. Пролетарская Сила первая заржала на Дванова, тогда и Копенкин сошел на землю. Дванов стоял с угрюмым лицом – он стыдился своего излишнего чувства к Копенкину и боялся его выразить и ошибиться.
Копенкин тоже имел совесть для тайных отношений между товарищами, но его ободрил ржущий повеселевший конь.
– Саша, – сказал Копенкин. – Ты пришел теперь?.. Давай я тебя немного поцелую, чтоб поскорей не мучиться.
Поцеловавшись с Двановым, Копенкин обернулся к лошади и стал тихо разговаривать с ней. Пролетарская Сила смотрела на Копенкина хитро и недоверчиво, она знала, что он говорит с ней не вовремя, и не верила ему.
– Не гляди на меня, ты видишь, я растрогался! – тихо беседовал Копенкин. Но лошадь не сводила своего серьезного взора с Копенкина и молчала. – Ты лошадь, а дура, – сказал ей Копенкин. – Ты пить хочешь, чего ж ты молчишь?
Лошадь вздохнула. «Теперь я пропал, – подумал Копенкин. – Эта гадина и то вздохнула от меня!»
– Саша, – обратился Копенкин, – сколько уж годов прошло, как скончалась товарищ Люксембург? Я сейчас стою и вспоминаю о ней – давно она была жива.
– Давно, – тихо произнес Дванов.
Копенкин еле расслышал его голос и испуганно обернулся. Дванов молча плакал, не касаясь лица руками, а слезы его изредка капали на землю, – отвернуться ему от Чепурного и Копенкина было некуда.
– Ведь это лошадь можно простить, – упрекнул Чепурного Копенкин. – А ты человек – и уйти не можешь!
Копенкин обидел Чепурного напрасно: Чепурный все время стоял виноватым человеком и хотел догадаться – чем помочь этим двум людям. «Неужели коммунизма им мало, что они в нем горюют?» – опечаленно соображал Чепурный.
– Ты так и будешь стоять? – спросил Копенкин. – Я у тебя нынче ревком отобрал, а ты меня наблюдаешь!
– Бери его, – с уважением ответил Чепурный. – Я его сам хотел закрыть – при таких людях на что нам власть!
Федор Федорович Гопнер выспался, обошел весь Чевенгур и благодаря отсутствию улиц заблудился в уездном городе. Адреса предревкома Чепурного никто из населения не знал, зато знали, где он сейчас находится, – и Гопнера довели до Чепурного и Дванова.
– Саша, – сказал Гопнер, – здесь я никакого ремесла не вижу, рабочему человеку нет смысла тут жить.
Чепурный сначала огорчился и находился в недоумении, но потом вспомнил, чем должны люди жить в Чевенгуре, и постарался успокоить Гопнера:
– Тут, товарищ Гопнер, у всех одна профессия – душа, а вместо ремесла мы назначили жизнь. Как скажешь, ничего так будет?
– Не то что ничего, а прямо гадко, – сразу ответил Копенкин.
– Ничего-то ничего, – сказал Гопнер. – Только чем тогда люди друг около друга держатся – неизвестно. Что ты, их слюнями склеиваешь иль одной диктатурой слепил?
Чепурный, как честный человек, уже начал сомневаться в полноте коммунизма Чевенгура, хотя должен быть прав, потому что он делал все по своему уму и согласно коллективного чувства чевенгурцев.
– Не трожь глупого человека, – сказал Гопнеру Копенкин. – Он здесь славу вместо добра организовал. Тут ребенок от его общих условий скончался.
– Кто ж у тебя рабочий класс? – спросил Гопнер.
– Над нами солнце горит, товарищ Гопнер, – тихим голосом сообщил Чепурный. – Раньше эксплуатация своей тенью его загораживала, а у нас нет, и солнце трудится.
– Так ты думаешь – у тебя коммунизм завелся? – снова спросил Гопнер.
– Кроме его ничего нет, товарищ Гопнер, – грустно разъяснил Чепурный, усиленно думая, как бы не ошибиться.
– Пока не чую, – сказал Гопнер.
Дванов смотрел на Чепурного с таким сочувствием, что ощущал боль в своем теле во время грустных, напрягающихся ответов Чепурного. «Ему трудно и неизвестно, – видел Дванов, – но он идет куда нужно и как умеет».
– Мы же не знаем коммунизма, – произнес Дванов, – поэтому мы его сразу увидеть здесь не сумеем. И не надо нам пытать товарища Чепурного, мы ничего не знаем лучше его.
Народ гречишной каши себе сварить не может, крупы нигде нету... А я кузнецом был – хочу кузницу подальше на шлях перенесть, буду работать на проезжих, может, на крупу заработаю.
– Поглуше в степь – гречиха сама растет, рви и кушай, – посоветовал Чепурный.
– Покуда дойдешь да покуда нарвешь, есть еще больше захочешь, – сомневался Яков Титыч, – способней будет вещь по кузнечному сработать.
– Пускай кузницу тащит, не отвлекай от дела человека, – сказал Гопнер, и Яков Титыч пошел меж домов в кузницу.
В горне кузницы давно уже вырос лопух, а под лопухом лежало куриное яйцо, наверное, последняя курица спряталась от Кирея сюда, чтобы снестись, а последний петух где-нибудь умер в темноте сарая от мужской тоски.
Солнце уже склонилось далеко за полдень, на земле запахло гарью, наступила та вечерняя тоска, когда каждому одинокому человеку хотелось идти к другу или просто в поле, чтобы думать и ходить среди утихших трав, успокаивая этим свою нарушенную за день жизнь. Но прочим в Чевенгуре некуда было пойти и некого к себе ждать – они жили неразлучно и еще днем успевали обойти все окрестные степи в поисках питательных растений, и никому негде было находиться в одиночестве. В кузнице Якова Титыча взяло какое-то томление – крыша нагрелась, всюду висела паутина, и многие пауки уже умерли, видны были их легкие трупики, которые в конце концов падали на землю и делались неузнаваемым прахом. Яков Титыч любил поднимать с дорог и с задних дворов какие-нибудь частички и смотреть на них: чем они раньше были? Чье чувство обожало и хранило их? Может быть, это были кусочки людей, или тех же паучков, или безымянных земляных комариков, – и ничто не осталось в целости, все некогда жившие твари, любимые своими детьми, истреблены на непохожие части, и не над чем заплакать тем, кто остался после них жить и дальше мучиться. «Пусть бы все умирало, – думал Яков Титыч, – но хотя бы мертвое тело оставалось целым, было бы чего держать и помнить, а то дуют ветры, течет вода, и все пропадает и расстается в прах. Это ж мука, а не жизнь. И кто умер, тот умер ни за что, и теперь не найдешь никого, кто жил когда, все они – одна потеря».
Вечером пролетарии и прочие собрались вместе, чтобы развеселить и занять друг друга на сон грядущий. Никто из прочих не имел семейства, потому что каждый жил раньше с таким трудом и сосредоточием всех сил, что ни в ком не оставалось телесного излишка на размножение. Для семейства нужно иметь семя и силу собственности, а люди изнемогали от поддержания жизни в одном своем теле; время же, необходимое для любви, они тратили на сон. Но в Чевенгуре они почувствовали покой, достаток пищи, а от товарищей вместо довольства – тоску. Раньше товарищи были дороги от горя, они были нужны для тепла во время сна и холода в степи, для взаимной страховки по добыче пищи – один не достанет, другой принесет, – товарищи были хороши, наконец, для того, чтобы иметь их всегда рядом, если не имеешь ни жены, ни имущества и не с кем удовлетворять и расходовать постоянно скапливающуюся душу. В Чевенгуре имущество было, был дикий хлеб в степях, и рос овощ в огородах посредством зарождения от прошлогодних остатков плодов в почве, – горя пищи, мучений ночлега на пустой земле в Чевенгуре не было, и прочие заскучали: они оскудели друг для друга и смотрели один на одного без интереса – они стали бесполезны самим себе, между ними не было теперь никакого вещества пользы. Прочий, по прозванью Карпий, сказал всем в тот вечер в Чевенгуре: «Я хочу семейства: любая гадина на своем семени держится и живет покойно, а я живу ни на чем – нечаянно. Что за пропасть такая подо мной!».
Старая нищенка Агапка тоже пригорюнилась.
– Возьми меня, Карпий, – сказала она, – я б тебе и рожала, я б тебе и стирала, я б тебе и щи варила. Хоть и чуднό, а хорошо быть бабой – жить себе в заботах, как в орепьях, и горюшка будет мало, сама себе станешь незаметной! А то живешь тут, и все как сама перед собой торчишь!
– Ты хамка, – отказал Карпий Агапке. – Я люблю женщин дальних.
– А помнишь, ты однова грелся со мной, – напомнила Агапка, – небось тогда я тебе дальней была, что в больное нутрё поближе лез!
Карпий от правды не отказывался, он лишь поправил время события:
– То было до революции.
Яков Титыч сказал, что в Чевенгуре сейчас находится коммунизм, всем дана блажь: раньше простой народ внутри туловища ничего не имел, а теперь кушает все, что растет на земле, – чего еще хотеть? Пора жить и над чем-нибудь задумываться: в степях много красноармейцев умерло от войны, они согласились умереть затем, чтобы будущие люди стали лучше их, а мы – будущие, а плохие – уже хотим жен, уже скучаем, пора нам начать в Чевенгуре труд и ремесло! Завтра надо кузницу выносить вон из города – сюда никто не заезжает.
Прочие не слушали и побрели вразброд, чувствуя, что каждому чего-то хочется, только неизвестно – чего. Редкие из пришлых чевенгурцев бывали временно женаты, они помнили и другим говорили, что семейство – это милое дело, потому что при семье уже ничего не хочется и меньше волнуешься в душе, хочется лишь покоя для себя и счастья в будущем – для детей; кроме того, детей бывает жалко и от них становишься добрей, терпеливей и равнодушней ко всей происходящей жизни.
Солнце стало громадное и красное и скрылось за окраиной земли, оставив на небе свой остывающий жар; в детстве любой прочий человек думал, что это его отец ушел от него вдаль и печет себе картошки к ужину на большом костре. Единственный труженик в Чевенгуре успокоился на всю ночь; вместо солнца – светила коммунизма, тепла и товарищества – на небе постепенно засияла луна – светило одиноких, светило бродяг, бредущих зря. Свет луны робко озарил степь, и пространства предстали взору такими, словно они лежали на том свете, где жизнь задумчива, бледна и бесчувственна, где от мерцающей тишины тень человека шелестит по траве. В глубину наступившей ночи, из коммунизма – в безвестность уходили несколько человек; в Чевенгур они пришли вместе, а расходились одинокими: некоторые шли искать себе жен, чтобы возвратиться для жизни в Чевенгур, иные же отощали от растительной чевенгурской пищи и пошли в другие места есть мясо, а один изо всех ушедших в ту ночь – мальчик по возрасту – хотел найти где-нибудь на свете своих родителей и тоже ушел.
Яков Титыч увидел, как многие люди молча скрылись из Чевенгура, и тогда он явился к Прокофию.
– Езжай за женами народу, – сказал Яков Титыч, – народ их захотел. Ты нас привел, веди теперь женщин, народ отдохнул – без них, говорит, дальше нетерпимо.
Прокофий хотел сказать, что жены – тоже трудящиеся и им нет запрета жить в Чевенгуре, а стало быть, пусть сам пролетариат ведет себе за руки жен из других населенных мест, но вспомнил, что Чепурный желает женщин худых и изнемогших, чтобы они не отвлекали людей от взаимного коммунизма, и Прокофий ответил Якову Титычу:
– Разведете вы тут семейства и нарожаете мелкую буржуазию.
– Чего ж ее бояться, раз она мелкая! – слегка удивился Яков Титыч. – Мелкая – дело слабое.
Пришел Копенкин и с ним Дванов, а Гопнер и Чепурный остались наружи; Гопнер хотел изучить город: из чего он сделан и что в нем находится.
– Саша! – сказал Прокофий; он хотел обрадоваться, но сразу не мог. – Ты к нам жить пришел? А я тебя долго помнил, а потом начал забывать. Сначала вспомню, а потом думаю, нет, ты уже умер, и опять забываю.
– А я тебя помнил, – ответил Дванов. – Чем больше жил, тем все больше тебя помнил, и Прохора Абрамовича помню, и Петра Федоровича Кондаева, и всю деревню. Целы там они?
Прокофий любил свою родню, но теперь вся родня его умерла, больше любить некого, и он опустил голову, работавшую для многих и почти никем не любимую.
– Все умерли, Саш, теперь будущее настанет...
Дванов взял Прокофия за потную лихорадочную руку и, заметив в нем совестливый стыд за детское прошлое, поцеловал его в сухие огорченные губы.
– Будем вместе жить, Прош. Ты не волнуйся. Вот Копенкин стоит, скоро Гопнер с Чепурным придут... Здесь у вас хорошо – тихо, отовсюду далеко, везде трава растет, я тут никогда не был.
Копенкин вздохнул про себя, не зная, что надо ему думать и говорить. Яков Титыч был ни при чем и еще раз напомнил об общем деле:
– Что ж скажешь? Самим жен искать иль ты сам их гуртом приведешь? Иные уж тронулись.
– Ступай собери народ, – сказал Прокофий, – я приду и там подумаю. Яков Титыч вышел, и здесь Копенкин узнал, что ему надо сказать.
– Думать тебе за пролетариат нечего, он сам при уме...
– Я тут с Сашей пойду, – произнес Прокофий.
– С Сашей – тогда иди думай, – согласился Копенкин, – я думал, ты один пойдешь.
На улице было светло, среди пустыни неба над степной пустотой земли светила луна своим покинутым, задушевным светом, почти поющим от сна и тишины. Тот свет проникал в чевенгурскую кузницу через ветхие щели дверей, в которых еще была копоть, осевшая там в более трудолюбивые времена. В кузницу шли люди, – Яков Титыч всех собирал в одно место и сам шагал сзади всех, высокий и огорченный, как пастух гонимых. Когда он поднимал голову на небо, он чувствовал, что дыхание ослабевает в его груди, будто освещенная легкая высота над ним сосала из него воздух, дабы сделать его легче, и он мог лететь туда. «Хорошо быть ангелом, – думал Яков Титыч, – если б они были. Человеку иногда скучно с одними людьми».
Двери кузницы отворились, и туда вошли люди, многие же остались наружи.
– Саша, – тихо сказал Прокофий Александру, – у меня нет своего двора в деревне, я хочу остаться в Чевенгуре, и жить надо со всеми, иначе из партии исключат, ты поддержи меня сейчас. И тебе ведь жить негде, давай тут всех в одно покорное семейство сорганизуем, сделаем изо всего города один двор.
Дванов видел, что Прокофий томится, и обещал ему помочь.
– Жен вези! – закричали Прокофию многие прочие. – Привел нас да бросил одних! Доставляй нам женщин сюда, аль мы нé люди! Нам одним тут жутко – не живешь, а думаешь! Про товарищество говоришь, а женщина человеку кровный товарищ, чего ж ее в город не поселяешь?
Прокофий поглядел на Дванова и начал говорить, что коммунизм есть забота не одного его, а всех существующих пролетариев; значит, пролетарии должны жить теперь своим умом, как то и было постановлено на последнем заседании Чевенгурского ревкома. Коммунизм же произойдет сам, если в Чевенгуре нет никого, кроме пролетариев, – больше нечему быть.
И Чепурный, стоявший вдалеке, вполне удовлетворился словами Прокофия, – это была точная формулировка его личных чувств.
– Что нам ум? – воскликнул один прочий. – Мы хотим жить по желанию!
– Живите, пожалуйста, – сразу согласился Чепурный. – Прокофий, езжай завтра женщин собирать!
Прокофий досказал еще немного про коммунизм: что он все равно в конце концов полностью наступит и лучше заранее его организовать, чтоб не мучиться; женщины же, прибыв в Чевенгур, заведут многодворье вместо одного Чевенгура, где живет ныне одна сиротская семья, где бродят люди, меняя ночлеги и привыкая друг другу от неразлучности.
– Ты говоришь: коммунизм настанет в конце концов! – с медленностью произнес Яков Титыч. – Стало быть, на самом коротке – где близко конец, там коротко! Стало быть, вся долгота жизни будет проходить без коммунизма, а зачем тогда нам хотеть его всем туловищем? Лучше жить на ошибке, раз она длинная, а правда короткая! Ты человека имей в виду!
Лунное забвение простиралось от одинокого Чевенгура до самой глубокой вышины, и там ничего не было, оттого и лунный свет так тосковал в пустоте. Дванов смотрел туда, и ему хотелось закрыть сейчас глаза, чтобы открыть их завтра, когда встанет солнце и мир будет снова тесен и тепл.
– Пролетарская мысль! – определил вдруг Чепурный слово Якова Титыча; Чепурный радовался, что пролетариат теперь сам думает головой и за него не надо ни думать, ни заботиться.
– Саша! – растерянно сказал Прокофий, и все его стали слушать. – Старик верно говорит! Ты помнишь – мы с тобой побирались. Ты просил есть, и тебе не давали, а я не просил, я лгал и вымажживал и всегда ел соленое и курил папиросы.
Прокофий было остановился от своей осторожности, но потом заметил, что прочие открыли рты от искреннего внимания, и не побоялся Чепурного сказать дальше:
– Отчего нам так хорошо, а неудобно? Оттого, как правильно высказался здесь один товарищ, – оттого, что всякая правда должна быть немного и лишь в самом конце концов, а мы ее, весь коммунизм, сейчас устроили, и нам от нее не совсем приятно! Отчего у нас все правильно, буржуев нет, кругом солидарность и справедливость, а пролетариат тоскует и жениться захотел?
Здесь Прокофий испугался развития мысли и замолчал. За него досказал Дванов:
– Ты хочешь посоветовать, чтоб товарищи пожертвовали правдой – все равно она будет жить мало и в конце, – а занялись бы другим счастьем, которое будет жить долго, до самой настоящей правды!
– Да ты это знаешь, – грустно проговорил Прокофий и вдруг весь заволновался. – Ты знаешь, как я любил свою семью и свой дом в нашей деревне! Из-за любви ко двору я тебя, как буржуя, выгнал помирать, а теперь я хочу здесь привыкнуть жить, хочу устроить для бедных, как для родных, и самому среди них успокоиться, – и никак не могу...
Гопнер слушал, но ничего не понимал; он спросил у Копенкина, но тот тоже не знал, чего здесь кому надо, кроме жен. «Вот видишь, – сообразил Гопнер, – когда люди не действуют – у них является лишний ум, и он хуже дурости».
– Я тебе, Прош, пойду лошадь заправлю, – пообещал Чепурный. – Завтра ты на заре трогайся, пожалуйста, пролетариат любви захотел: значит, в Чевенгуре он хочет все стихии покорить, это отличное дело!
Прочие разошлись ожидать жен – теперь им недолго осталось, – а Дванов и Прокофий вышли вместе за околицу. Над ними, как на том свете, бесплотно влеклась луна, уже наклонившаяся к своему заходу; ее существование было бесполезно – от него не жили растения, под луною молча спал человек; свет солнца, озарявший издали ночную сестру земли, имел в себе мутное, горячее и живое вещество, но до луны этот свет доходил уже процеженным сквозь мертвую долготу пространства, – все мутное и живое рассеивалось из него в пути, и оставался один истинный мертвый свет. Дванов и Прокофий ушли далеко, голоса их почти смолкли от дальности и оттого, что они говорили тихо. Копенкин видел ушедших, но смущался пойти за ними – оба человека, показалось ему, говорили печально, и к ним стыдно сейчас подходить.
Дорогу под ногами Дванова и Прокофия скрыл мирный бурьян, захвативший землю под Чевенгуром не от жадности, а от необходимости своей жизни; два человека шли разрозненно, по колеям некогда проезжего тракта: каждый из них хотел почувствовать другого, чтобы помочь своей неясной блуждающей жизни, но они отвыкли друг от друга – им было неловко, и они не могли сразу говорить без стеснения. Прокофию было жалко отдавать Чевенгур в собственность жен, пролетариев и прочих – одной Клавдюше ему было ничего не жаль подарить, и он не знал почему. Он сомневался, нужно ли сейчас истратить, привести в ветхость и пагубность целый город и все имущество в нем – лишь для того, чтобы когда-нибудь, в конце, на короткое время наступила убыточная правда; не лучше ли весь коммунизм и все счастье его держать в бережном запасе – с тем чтобы изредка и по мере классовой надобности отпускать его массам частичными порциями, охраняя неиссякаемость имущества и счастья.
– Они будут довольны, – говорил убежденно и почти радуясь Прокофий. – Они привыкли к горю, им оно легко, дадим пока им мало, и они будут нас любить. Если же отдадим сразу все, как Чепурный, то они потом истратят все имущество и снова захотят, а дать будет нечего, и они нас сместят и убьют. Они же не знают, сколько чего у революции, весь список города у одного меня. А Чепурный хочет, чтоб сразу ничего не осталось и наступил конец, лишь бы тот конец был коммунизмом. А мы до конца никогда не допустим, мы будем давать счастье помаленьку, и опять его накоплять, и нам хватит его навсегда. Ты скажи, Саш, это верно так надо?
Дванов еще не знал, насколько это верно, но он хотел полностью почувствовать желания Прокофия, вообразить себя его телом и его жизнью, чтобы самому увидеть, почему по его будет верно. Дванов прикоснулся к Прокофию и сказал:
– Говори мне еще, я тоже хочу здесь жить.
Прокофий оглядел светлую, но неживую степь и Чевенгур позади, где луна блестела в оконных стеклах, а за окнами спали одинокие прочие, и в каждом из них лежала жизнь, о которой теперь необходимо было заботиться, чтобы она не вышла из тесноты тела и не превратилась в постороннее действие. Но Дванов не знал, что хранится в каждом теле человека, а Прокофий знал почти точно, он сильно подозревал безмолвного человека.
Дванов вспоминал многие деревни и города и многих людей в них, а Прокофий попутно памяти Александра указывал, что горе в русских деревнях – это есть не мýка, а обычай, что выделенный сын из отцовского двора больше уж никогда не является к отцу и не тоскует по нем, сын и отец были связаны нисколько не чувством, а имуществом; лишь редкая странная женщина не задушила нарочно хотя бы одного своего ребенка на своем веку, – и не совсем от бедности, а для того, чтобы еще можно свободно жить и любиться со своим мужиком.
– Вот сам видишь, Саш, – убедительно продолжал Прокофий, – что от удовлетворения желаний они опять повторяются и даже нового чего-то хочется. И каждый гражданин поскорее хочет исполнить свои чувства, чтобы меньше чувствовать себя от мученья. Но так на них не наготовишься – сегодня ему имущество давай, завтра жену, потом счастья круглые сутки, – это и история не управится. Лучше будет уменьшать постепенно человека, а он притерпится: ему так и так все равно страдать.
– Что же ты хочешь сделать, Прош?
– А я хочу прочих организовать. Я уже заметил, где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация – умнейшее дело: все себя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному первому плохо – он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять.
– Зачем это нужно, Прош? Ведь тебе будет трудно, ты будешь самым несчастным, тебе будет страшно жить одному и отдельно, выше всех. Пролетариат живет друг другом, а чем же ты будешь жить?
Прокофий практически поглядел на Дванова: такой человек – напрасное существо, он не большевик, он побирушка с пустой сумкой, он сам – прочий, лучше б с Яковом Титычем было говорить: тот знает, по крайней мере, что человек все перетерпит, если давать ему новые, неизвестные мучения, – ему вовсе не больно: человек чувствует горе лишь по социальному обычаю, а не сам его внезапно выдумывает. Яков Титыч понял бы, что дело Прокофия вполне безопасное, а Дванов только излишне чувствует человека, но аккуратно измерить его не может.
И голоса двоих людей смолкли вдалеке от Чевенгура, в громадной лунной степи; Копенкин долго ожидал Дванова на околице, но так и не дождался, слег от утомления в ближний бурьян и уснул.
Проснулся он уже на заре от грохота телеги: все звуки от чевенгурской тишины превращались в гром и тревогу. Это Чепурный ехал искать Прокофия в степь на готовой подводе, чтоб тот выезжал за женщинами. Прокофий же был совсем недалеко, он давно возвращался с Двановым в город.
– Каких пригонять? – спросил Прокофий у Чепурного и сел в повозку.
– Не особых! – указал Чепурный. – Женщин, пожалуйста, но знаешь: еле-еле, лишь бы в них разница от мужика была, – без увлекательности, одну сырую стихию доставь!
– Понял, – сказал Прокофий и тронул лошадь в отъезд.
– Сумеешь? – спросил Чепурный.
Прокофий обернулся своим умным надежным лицом.
– Диво какое! Кого хочешь пригоню, любых в одну массу сплочу, никто в одиночку скорбеть не останется.
И Чепурный успокоился: теперь пролетариат будет утешен, но вдруг он кинулся вслед поехавшему Прокофию и попросил его, уцепившись в задок телеги:
– И мне, Прош, привези: чего-то прелести захотелось! Я забыл, что я тоже пролетарий! Клавдюши ведь не вижу!
– Она к тетке в волость пошла, – сообщил Прокофий, – я ее доставлю обратным концом.
– А я того не знал, – произнес Чепурный и засунул в нос понюшку, чтобы чувствовать табак вместо горя разлуки с Клавдюшей.
Федор Федорович Гопнер уже выспался и наблюдал с колокольни чевенгурского храма тот город и то окружающее место, где, говорят, наступило будущее время и был начисто сделан коммунизм – оставалось лишь жить и находиться здесь. Когда-то, в молодости лет, Гопнер работал на ремонте магистрали англо-индийского телеграфа, и там тоже местность была похожа на чевенгурскую степь. Давно было то время, и ни за что оттуда нельзя догадаться, что Гопнер будет жить при коммунизме, в одном смелом городе, который, быть может, Гопнер и проходил, возвращаясь с англо-индийского телеграфа, но не запомнил на пути: это жалко, лучше б было уже с тех пор ему остановиться навсегда в Чевенгуре, хотя неизвестно: говорят только, что здесь хорошо живет простой человек, но Гопнер того пока не чувствует.








