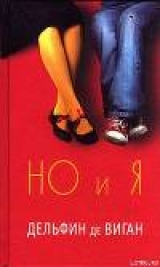
Текст книги "Но и я"
Автор книги: Дельфин де Виган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
13
– Мсье Мюллер, к доске.
Лукас лениво распрямляет свое длинное тело, неторопливо встает, поднимается на кафедру, застывает перед безупречно чистой доской.
– Нарисуйте круг.
Он берет мел и выполняет команду.
– Это ваша оценка.
По классу проносится смешок.
– Собирайте свои вещи и отправляйтесь в актовый зал. Я не могу иначе оценить столь посредственные знания, которые вы продемонстрировали на контрольной, о которой было объявлено две недели назад.
Мсье Маран раздает проверенные работы, Лукас с непроницаемым видом складывает вещи, бросает мне заговорщицкий взгляд.
Нужно что-то большее, чтобы вывести его из себя. Он направляется к двери, шаркая ногами, нарочно делает все очень медленно.
Я замечаю его, выйдя из лицея, – он стоит, привалившись к дорожному знаку «проезд запрещен», и курит. Он кивает головой и окликает меня – каждый раз это вызывает одно и то же ощущение: будто внутри поднимается сквозняк, желудок ухает куда-то вниз, потом резко взлетает к горлу, совсем как в лифтах башни Монпарнас, когда поднимаешься на самый верх. Лукас ждал меня.
– Хочешь, пойдем ко мне, а, Пепит?
Паника в Диснейленде, штормовое предупреждение, всеобщая мобилизация, гормональный ураган, короткое замыкание, срочная эвакуация, сидерическое обращение.
– Э-э… Спасибо… Н-нет… Я не могу. (Какой богатый диалог, сказал бы мой отец.)
Мне до смерти хочется сказать «да!», но мало ли…
Может, он приглашает просто от скуки… А вдруг он меня поцелует… Может быть, ему охота просто поболтать.
Но мало ли что…
Когда целуются, в каком направлении надо двигать языком? (По логике, по часовой стрелке, но, кажется, когда целуются, не думают о логике, о порядке вещей, значит, вполне возможно, что против часовой стрелки…)
– Мне надо домой. Спасибо. Возможно, в другой раз.
Он уходит, руки в карманах, внизу его джинсы сильно обтрепаны, потому что постоянно волочатся по земле. Он очень хорош, даже издалека. Может, никакого другого раза не будет. Может, в жизни вообще бывает один-единственный шанс, и горе тебе, если ты его упустил, он уже никогда не вернется. Может, я только что упустила свой шанс. В автобусе разглядываю пассажиров, думаю о том, смогли ли они поймать свою синюю птицу, внешне тому нет никаких подтверждений. У всех на лицах одинаковое выражение усталости, иногда смутная улыбка. Выхожу на две остановки раньше, чтобы пройтись, я часто так делаю, когда хочу подольше не идти домой. На вокзал я больше не наведываюсь, но прогуливаюсь иногда по бульвару Ришар-Ленуар, там вокруг всегда много бездомных – в скверах и парке, они собираются группами, окружают себя набитыми до отказа сумками, собаками, мятыми матрасами, устраиваются на скамейках, общаются, пьют пиво; когда им весело, они смеются, а иногда орут и ругаются. Часто среди них я вижу девушек с грязными волосами, в старой стоптанной обуви и все такое… Я наблюдаю за ними издалека: помятые лица, поцарапанные руки, черная от грязи одежда, беззубый смех.
Я смотрю на них и чувствую стыд, жгучий стыд быть на «хорошей стороне».
Я смотрю на них и боюсь, что Но станет такой же, как они.
Из-за меня.
Несколько дней назад умер Мулу. Десять лет жил он на улице, в нашем квартале. У него была «своя» вентиляционная решетка, на перекрестке, возле глухой стены, напротив булочной. Это была его территория. Несколько лет подряд я видела его, возвращаясь домой из начальной школы. Каждое утро и каждый вечер. Все ребята из школы знали его. Сначала мы его немного боялись. Но потом привыкли. Здоровались. Останавливались поболтать. Он всегда отказывался ночевать в приютах, даже в сильные холода, потому что туда не пускали его собаку. Люди приносили ему одеяла, одежду, еду. У него были свои привычки, он заходил иногда в кафе, что напротив, пил вино из пластиковых бутылок. Мы дарили ему подарки на Рождество. Мулу был из берберов, синеглазый. Красивый. Говорили, что он десять лет работал сборщиком на заводе «Рено». А потом от него ушла жена.
Ему стало плохо, и его отвезли в больницу. А на следующий день мы узнали, что он умер от легочной эмболии. Отцу об этом сообщил владелец кафе. На угол Мулу люди начали приносить фотографии, письма и даже стихи. Зажженные свечи и цветы. Через неделю состоялось собрание, сотни людей пришли к его осиротевшей палатке, которая так и осталась стоять на своем месте, никто не хотел ее трогать. А на следующий день «Паризьен» опубликовал статью о Мулу, с фотографией его угла, превращенного в алтарь.
Дама из кафе напротив взяла к себе его собаку. Собаку можно взять к себе, а бомжа – нет. Я подумала, что если каждый из нас приютит одного бездомного, если каждый поможет всего одному человеку – станет сопровождать его по всяким учреждениям, собирать нужные бумаги, – то тогда, возможно, их и не останется, бездомных?.. Но отец ответил, что это невозможно. Что эти вещи гораздо сложнее, чем мне кажется. Таков порядок вещей, и против многого мы, к сожалению, бессильны. Вот с чем, без сомнения, нужно смириться, чтобы стать взрослым.
Мы умеем строить сверхзвуковые самолеты и отправлять ракеты в космос, мы способны найти преступника по одному-единственному волоску или микрочастице кожи, мы выращиваем помидоры, которые сохраняют свежесть три недели и даже дольше, мы придумали малюсенький электронный чип, способный вместить пропасть информации. Мы умеем оставлять людей умирать на улице.
14
На новогодние праздники мы остаемся в Париже. Мама не любит путешествовать, горы, деревня – все это выше ее сил, она должна оставаться дома, на знакомой территории. По вечерам мне кажется, что я вижу нас снаружи, через окна гостиной: в глубине комнаты мигает зажженной гирляндой елка, она украшена старыми шарами и бусами, которые мы достаем каждый год из коробок и на которые никто из нас, по сути, не обращает внимания, даже мой отец, несмотря на его талант поддерживать иллюзию семейной жизни. Наверное, мы все с радостью согласились бы, что все эти манипуляции не имеют никакого смысла, но никто не произносит ни слова, и каждый год распаковываются одни и те же коробки, готовятся одни и те же блюда. Из Дордони приезжают бабушка с дедушкой, они проводят у нас ночь накануне Рождества. Единственное, что мне нравится, так это поздний ужин – бабушка с дедом посещают рождественскую службу, и бабушка отказывается есть до этого, иначе она засыпает в церкви.
На следующий день к нам на обед приходят тетя, дядя, их дети. Рождественское перемирие: все должны притворяться довольными и счастливыми, делать вид, будто все в полном ажуре. Например, за столом папина сестра вслух рассуждает о маме так, будто той здесь нет или она является предметом обстановки: Анук должна постараться встряхнуться, прошло много времени, уже пора взять себя в руки, ты не согласен, Бернар, это нехорошо для девочки, она и так достаточно травмирована, и ты выглядишь изможденным, ты не можешь все время быть и швецом и жнецом, нужно, чтобы она уже оклемалась. Отец же на это ничего не отвечает, а мама делает вид, будто ничего не слышит, и мы передаем друг другу блюда, кладем добавку индейки, баранины или чего-то там еще, выслушиваем занудные рассказы о каникулах на острове Морис: питание было рос-кош-ным, развлечения – за-ме-ча-тель-ны-ми, они познакомились с о-ча-ро-ва-тель-ны-ми людьми, а мальчики научились прекрасно нырять.
Я ненавижу, когда нападают на беззащитных людей, меня это бесит, особенно если речь идет о моей маме. Однажды я не выдержала и спросила: а как бы ты чувствовала себя, тетя Сильвия, если бы тебе довелось сжимать в объятиях твоего мертвого ребенка? В комнате тут же воцарилось гробовое молчание, я почти поверила, что тетка подавится устрицей. О, это был потрясающий момент, по маминому лицу скользнула легкая улыбка, а бабушка погладила меня по щеке, но через мгновение разговор возобновился.
Рождество – это ложь, которая заставляет всех членов семьи собираться вокруг мертвого дерева, разряженного в пух и прах; ложь, состоящая из пустых бесед, спрятанная под тоннами праздничного пудинга; ложь, в которую никто не верит.
Ну вот, все ушли. У меня на шее тоненькая золотая цепочка с кулоном в виде сердечка, подарок родителей. За столом я думала о Но, о Мулу, о Лукасе, я смотрела на стоящую передо мной тарелку и старалась сосчитать макаронины и число ударов ногой под столом. Мне очень нравится делить себя надвое и заниматься двумя вещами одновременно, – например, петь какую-нибудь песню и читать инструкцию или объявление. Я сама ставлю себе задачи, пусть они кажутся глупыми. Сорок шесть макаронин и пятьдесят четыре удара ногой. Перестаю считать. Бесполезно. Все равно не помогает забыть о единственной важной вещи: Но одна. Она где-то там, я не знаю где. Она подарила мне часть себя, а я ничем ее не отблагодарила.
15
На следующее утро я доехала на метро до станции «Баньоле» и решительно вошла в огромный магазин. Подумала, не взять ли тележку, ну, чтобы не выделяться из толпы, было десять часов, народ сновал уже вовсю. С десяток человек томилось в очереди к мясному прилавку, за которым трудились две продавщицы. Я встала в хвост очереди. На продавщицах были одинаковые белые фартуки и кружевные наколки, одна – блондинка с прямыми волосами, другая – кудрявая брюнетка. Я решила положиться на волю случая, не сомневаясь, что мой черед попадет обязательно на Женевьеву, подругу Но. Иногда так бывает – случай подчиняется необходимости. Это одна из моих теорий – Теория Абсолютной Необходимости. Нужно только покрепче зажмуриться, точно представить себе желаемую ситуацию, предельно сосредоточиться и ни на что не отвлекаться. Тогда действительно что-то происходит и вы получаете в точности то, о чем мечтали. (К сожалению, срабатывает далеко не всегда. Как и все теории, достойные этого определения, Теория Абсолютной Необходимости допускает исключения.)
Мне досталась брюнетка, спросила, чего я желаю. Вздрогнув, я ответила:
– Я ищу одного человека, с которым вы знакомы. Ее зовут Но.
– Нолвенн?
– Да.
– Зачем?
Я настолько погрузилась в свои мысли, что совсем забыла, о чем хотела сказать.
– Мне очень надо ее найти.
– Послушай, я работаю, мне некогда с тобой болтать.
– Она ночует у вас?
– Нет. Я попросила ее идти на все четыре стороны и больше ко мне не приходить. Я не могу ее содержать. Она ела за мой счет, бездельничала целыми днями, даже не пыталась найти работу.
– Вы знаете, где она?
– По слухам, ночевала в каком-то приюте, не знаю, в каком именно, но обычно там надолго не задерживаются.
За моей спиной дама в зеленом пальто, с наполненной до краев тележкой, демонстрировала явное раздражение. Я поблагодарила Женевьеву и вышла на улицу. Снова метро, на этот раз до площади Бастилии, оттуда пешком до Шарантона. Напротив дома номер 29, прямо на тротуаре позади здания Оперы, в точности как описывала Но, стояла палатка, настоящее эскимосское иглу. За ней громоздились разнокалиберные картонные коробки, тряпичные тюки и рваные одеяла. Полог палатки был закрыт. Я позвала, подождала несколько минут и нерешительно потянула за молнию. Просунув голову внутрь, я чуть не задохнулась от жуткой вони. Опустившись на четвереньки, я наполовину вползла в палатку в поисках признаков человеческого присутствия (в детстве мы с кузенами играли в детективов – и я была лучшей). Осмотрелась. Пустые пакеты, жестянки из-под пива.
– Эй ты!
Вздрогнув от неожиданности, я хотела встать на ноги, но наступила на шнурок и растянулась во весь рост. Надо мной возвышался какой-то мужик. Ухватив за шиворот, он вытащил меня из палатки и рывком поставил на ноги. Нет, все-таки если бы я была оснащена функцией «немедленного исчезновения», меня бы это очень устроило.
Лицо у мужика было красным, и от него сильно пахло вином. Мне стало страшно.
– Что ты здесь делаешь?
Сердце билось где-то в горле, понадобилось не меньше минуты, чтобы издать хоть какой-то звук.
– Тебе никогда не говорили, что нельзя вламываться к людям?
– Простите… Я… я ищу Но… Она говорила мне, что вы знакомы…
– Не помню такой.
– Н-ну… Брюнетка, с голубыми глазами, не очень высокая, волосы как у меня, только покороче. Она спала с вами несколько раз, ой, то есть я хотела сказать, ночевала у вас в палатке.
– Ну да, ну да… Что-то такое припоминаю.
– Вы не знаете, где ее можно найти?
– Послушай, мне на хрен сдались все эти проблемы. И вообще, у меня своих дел полно, вали отсюда.
– А вы давно ее видели?
– Сказал же, отвали!
– Ну пожалуйста, может, вы догадываетесь, где она?
– Ну ты даешь! Своего не упустишь, а? Ну да, я выручаю людей время от времени, пускаю их на ночь-две, но потом я о них забываю.
Он разглядывал меня в упор – пальто, сапоги, прическу, потом почесал затылок с таким видом, будто не может решить, как быть.
– Сколько тебе лет?
– Тринадцать. Почти четырнадцать.
– Ты ее родственница?
– Нет.
– Иногда она хавает в муниципальной столовке на улице Клеман. Я сам ее туда отправил. Пару раз видел ее там. Ну все, теперь отваливай.
Вернувшись домой, я вошла на сайт Парижской мэрии, нашла точный адрес столовой, о которой мне сказал знакомый Но, часы ее работы и номер телефона. Еда подается между 11.45 и 12.30, талоны раздают с 10 часов. Все последующие дни я исправно дежурила на улице Клеман, разглядывая людей, которые стягивались заранее, стояли в очереди, входили и выходили. Я так и не увидела Но.
16
Сегодня последний день каникул, очередь в столовую растянулась на пятьдесят метров, двери еще закрыты. Куртку Но я замечаю издали. По мере того как я подхожу все ближе, ноги слабеют, мне надо немного помедлить, собраться с духом, надо произвести в уме какой-нибудь невероятно сложный подсчет – я всегда так делаю, когда вот-вот заплачу или чувствую, что убегу. Даю себе десять секунд, чтобы найти три слова, начинающихся на «h» и оканчивающихся на «е», и произвести деление какого-нибудь сложного числа с бесконечным остатком. Она видит меня. Смотрит прямо в глаза. Ни единого жеста, ни улыбки, поворачивается ко мне спиной, словно мы незнакомы. Я подхожу вплотную, заглядываю ей в лицо, она изменилась, губы кривятся в горькой гримасе, и вся она кажется какой-то заброшенной, сломленной. Делает вид, будто не замечает меня. Она стоит в очереди между двумя мужчинами и даже не пытается шагнуть мне навстречу. Так и стоит за спиной толстого человека, уткнув лицо в шарф. Вокруг вдруг все смолкают, настороженно смотрят на меня, разглядывают с ног до головы.
Я хорошо одета. У меня теплое пальто с исправной молнией, начищенные кожаные сапоги, фирменный рюкзак. Мои волосы недавно вымыты и гладко причесаны. В логической игре, где надо найти чужака, меня можно вычислить мгновенно.
Беседы возобновляются, но голоса звучат глуше. Я делаю еще шаг к ней. Она резко оборачивается, гневно смотрит на меня.
– Чего тебе здесь надо?
– Я искала тебя…
– Что тебе еще от меня надо?!
– Я волновалась за тебя.
– У меня все хорошо, спасибо.
– Ты…
– Все хорошо, ясно? Все прекрасно. Ты мне не нужна.
Она повышает голос, очередь начинает переглядываться, перешептываться, до меня долетают обрывки фраз – что происходит, эта девчонка, чего ей надо, – я не успеваю ничего добавить, как Но резким движением выталкивает меня из очереди, я поскальзываюсь, по-прежнему не отрывая взгляда от ее лица, она вытянула перед собой руку, не позволяя мне приблизиться.
Мне хотелось сказать, что это я нуждаюсь в ней, что я не могу ни читать, ни спать, что она не имеет права бросать меня вот так, даже если это все абсурдно и должно быть наоборот, но ведь я давно поняла, что мир вертится наоборот, достаточно лишь посмотреть вокруг; мне хотелось сказать, что мне ее не хватает, даже если это глупо, потому что это ей всего не хватает, всего самого необходимого для жизни, но я тоже совсем одна, и я пришла за ней.
Двери столовой открылись, и очередь начала продвигаться быстро.
– Лу, сказала же тебе, убирайся! Ты меня достала. Тебя все это не касается, Это не твоя жизнь, понимаешь ты, не твоя жизнь!
Она проорала последние слова с удивительной яростью, я отступаю, по-прежнему не спуская с нее глаз. Потом поворачиваюсь и медленно бреду прочь, через несколько метров оглядываюсь в последний раз, вижу, как она входит в здание, она тоже оборачивается, на пороге замирает, кажется, она плачет, но люди напирают, толкают ее, ктото орет, она грубо ругается в ответ, сплевывает на землю, какой-то мужчина сильно толкает ее вперед, и она исчезает в темноте подъезда.
Я плетусь к метро, тупо следуя серой кромке тротуара, считая по дороге количество урн, зеленых с одной стороны и желтых – с другой. Кажется, что в этот момент я ее ненавижу, ненавижу всех бомжей на свете, им следовало бы быть повежливее и почище. Так им и надо, раз они не хотят приложить хоть немного усилий, вместо того чтобы только выпивать и бездельничать.
17
Глядя в небо, я обязательно спрашиваю себя – где же оно заканчивается? На сколько миллиардов километров оно простирается? Из своей новой книги я кое-что узнала, там целая глава посвящена этому вопросу. По различным наблюдениям, опирающимся в большинстве случаев на теорию Большого взрыва, возраст Вселенной составляет 13,7 миллиарда лет. Спустя приблизительно 300 ООО лет после ее рождения свет получил возможность свободно распространяться, иначе говоря, Вселенная стала видимой. Именно тогда свет от самого удаленного объекта Вселенной достиг ее противоположного края. Это излучение принято называть теперь «видимый горизонт», и равен он лучу длиною в 13,7 миллиарда световых лет. За пределами этого расстояния ничего не видно, и неизвестно, простирается Вселенная дальше или нет. Непонятно даже, имеет ли смысл сам вопрос. Вот почему люди предпочитают оставаться в своих домах, в своих маленьких квартирках с их жалкой мебелью, чашками-плошками и всем таким – из-за головокружения. Потому что, если мы высунем нос наружу, перед нами сразу встанет вопрос: какую роль играем мы, бесконечно маленькие, в этом пространстве, бесконечно большом, и вообще – кто мы такие?
Вечерами, когда отец возвращается домой, я осаждаю его вопросами, на которые он не может ответить. Он ищет в справочниках, в словарях и в Интернете, никогда не отступая, даже если он очень устал.
Однажды я спросила, что такое «теллурический». Он явно предпочел бы посмотреть какой-нибудь сериал про полицейских, которые проводят свои дни в решении запутанных загадок и погоне за преступниками, но и у них, как у простых смертных, полно проблем – и с деньгами, и в личной жизни. Вместо этого отец зарылся в справочники, чтобы дать мне точное определение. Если бы он хотел, то тоже мог бы быть симпатягой-детективом, как в сериалах. Он никогда не нервничает, у него есть кожаная куртка, больная жена и непростая дочь переходного возраста, – короче, все ингредиенты, необходимые для того, чтобы зрители его полюбили и переживали, как бы с ним не случилось несчастья.
Если я смотрю кино вместе с отцом, я даю себе слово молчать, но это сильнее меня – я не могу удержаться от замечаний и комментариев. Например, когда в кадре мы видим героиню, сидящую на диване с распущенными волосами, откинутыми назад, и в следующем же кадре та же самая героиня на том же самом диване сидит в той же самой позе, но волосы уже у нее на груди. Отец, поддразнивая меня, советует: выключи свой компьютер, Лу, поставь его на паузу, потом ерошит мне волосы, приговаривая: вот я сейчас тебе сделаю прическу!
Когда я была маленькая, мама укладывала одну-две шоколадные дольки на кусок хлеба и ставила в духовку. Я стояла рядом с плитой и через стекло смотрела, как плавится шоколад, как переходит из твердой формы в жидкую, мне очень нравилось наблюдать за этой метаморфозой, гораздо больше, чем само лакомство. В детстве я наблюдала, как сворачивается кровь на ссадинах, не обращая внимания на боль, ждала последней капли, которая должна загустеть, высохнуть и превратиться в корочку, ту самую, которую я, конечно же, потом сдирала. В детстве я опускала голову вниз и стояла в такой позе, пока не становилась красная как вареный рак, потом резко выпрямлялась и в зеркале следила, как щеки постепенно приобретают нормальный цвет. Я ставила опыты.
Сегодня я наблюдаю за изменениями своего тела, но я не похожа на других девочек, я имею в виду не тех, кто в моем классе, им уже по пятнадцать лет, нет, я говорю о сверстницах. Они ходят по улицам с таким видом, будто куда-то спешат, никогда не смотрят себе под ноги, а в их смехе звенят все тайны, которыми они делятся друг с другом. Мне же никак не удается подрасти, приобрести хоть какие-нибудь формы, я совсем маленькая, может, это оттого, что я знаю секрет, который остальные стараются не замечать, – я знаю, насколько мы на самом деле малы и ничтожны.
Если очень долго сидеть в горячей ванне, кожа на пальцах сморщивается. Я прочитала объяснение в книге: внешний слой кожи, эпидермис, впитывает воду словно губка, он растягивается и образует складки. Вот в чем истинная проблема: мы – губки. А я впитываю не только эпидермисом. Я впитываю все и всегда – стопроцентная промокаемость. Бабушка считает, что это опасно и вообще вредно для здоровья. Она говорит обо мне – ах, бедняжка, у нее когда-нибудь лопнет голова, она впитывает все подряд, как же она может в этом разобраться, нужно, чтобы она сортировала информацию, Бернар, вы должны записать ее в спортивную секцию, ну хотя бы на теннис, чтобы она расходовала энергию, не то – вот помяните мое слово! – у нее лопнет голова.








