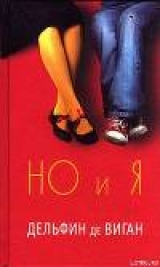
Текст книги "Но и я"
Автор книги: Дельфин де Виган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
43
В лицее мы говорим о ней вполголоса, у нас разработана система секретных кодов и паролей, улыбки сообщников, переглядывания заговорщиков. Еще чуть-чуть – и мы почувствуем себя как во время войны, когда люди прятали еврейских детей. Я обожаю выражение лица Лукаса по утрам, этот еле заметный, издалека, кивок головой: мол, все в порядке. Он занимается всем сам – ходит за продуктами, убирает кухню, убирает за Но, гасит свет, когда она засыпает. Домработница приходит раз в неделю, перед этим нужно спрятать все вещи Но в шкаф, застелить постель, проветрить комнату, уничтожить все следы ее присутствия. Мы с ним все предусмотрели, мы придумали, что нужно говорить, если вдруг позвонит его мать, разработали сценарии на тот случай, если она приедет без предупреждения или если вдруг моим родителям вздумается зайти за мной к Лукасу. Мы до зубов вооружены аргументами и объяснениями.
Бывают дни, когда Но поднимается еще до нашего возвращения, ждет нас в гостиной перед телевизором, улыбается при нашем появлении. Бывают дни, когда она танцует на диване и все кажется простым и возможным, потому что она здесь.
Бывают и другие дни – когда с ней почти невозможно разговаривать, когда она открывает рот, только чтобы сказать «бля…», «дерьмо» и «затрахали»; дни, когда она пинает стулья и кресла; дни, когда хочется крикнуть: «Если тебе здесь не нравится, уходи восвояси!» – но проблема-то как раз в том, что у нее нет никакого «свояси». Проблема в том, что Но – одна во всем мире, потому что я ее приручила. И я уверена, что Лукас тоже ее любит. Даже если иногда он жалуется, что больше не может, что она его достала. Даже если иногда говорит: у нас не хватит сил, Лу, у нас ничего не получится.
Как-то вечером я провожаю Но до отеля, на улице темно и холодно, она решает угостить меня чем-нибудь, за все те разы, что я ее угощала, мы заходим в кафе. Я смотрю, как она залпом, одну за другой, опрокидывает три рюмки водки, у меня от этого образуется какая-то дыра в животе, я не осмеливаюсь ей ничего сказать. Я просто не знаю, что сказать.
В другой раз мы идем куда-то, недалеко от площади Бастилии нас окликает какой-то мужчина – у вас не найдется монетки, пожалуйста, – он сидит на асфальте, опираясь спиной на стену заброшенного магазина, Но бросает беглый взгляд и идет дальше, я пихаю ее локтем – эй, Но, ведь это твой приятель, Момо с Аустерлицкого вокзала! Она останавливается, колеблется несколько секунд, потом подходит к нему, говорит: «Привет, Момо», протягивает двадцать евро. Момо встает на ноги, вытягивается перед ней в струнку, разглядывает Но сверху вниз и снизу вверх, не берет протянутую купюру, сплевывает на землю и снова усаживается на прежнее место. Я прекрасно знаю, о чем думает Но, когда мы отправляемся дальше, – она больше не принадлежит миру Момо, но она и нашему не принадлежит, она ни тут ни там, она – между, в самой середине пустоты.
Как-то раз мы с Но были вдвоем, Лукас ушел в магазин; она только что встала, и я увидела красные следы на ее шее, она объяснила это тем, что шарф прищемило в эскалаторе. Я не умею сказать что-нибудь вроде «ври, да не завирайся», не умею рассердиться. Я не решаюсь задавать ей прямых вопросов, как раньше, и спокойно ждать, пока она соизволит ответить. Я прекрасно вижу, что она очень рада меня видеть, она встает, как только я прихожу. Я знаю, что она нуждается во мне. В те редкие дни, когда я не могу прийти, потому что риск слишком велик, Но паникует. Это Лукас мне рассказал.
Но откладывает деньги. Она прячет их в конверт из крафт-бумаги, купюру за купюрой. Когда наберется достаточно, она уедет к Лоису, в Ирландию. По крайней мере, она так говорит. Она не хочет, чтобы я рассказывала об этом Лукасу, – ни о конверте, ни о Лоисе, ни об Ирландии, ни о чем. Я пообещала молчать, дала клятву, как в детстве. Я так и не осмелилась хотя бы раз заглянуть в крафтовый конверт. О Лоисе она говорит только в отсутствие Лукаса – рассказывает о проказах в интернате, о разных хитростях, чтобы получить лишнюю порцию в столовой, о карточных играх, о ночных побегах.
Они любили друг друга. Но так говорит.
Они рассказывали друг другу свои жизни, свои сны, мечты. Они хотели уехать вместе, далеко-далеко, они делились сигаретами и кофе в общем зале, где серые стены были оклеены афишами американских фильмов. Они часами болтали приглушенными голосами, оставляя после себя на полу пластиковые стаканчики с засохшим сахаром на дне. Перед тем как попасть в интернат, Лоис ворвался в булочную и выхватил сумку у пожилой дамы, после чего его отправили в закрытый центр для малолетних преступников. Он умел играть в покер, доставал из карманов смятые купюры, делал крупные ставки, он научил остальных – Женевьеву, Но и прочих, и они играли ночами, после отбоя, в тишине спальни. Она точно знала, когда он ведет игру, когда блефует, когда жульничает. Иногда она ловила его с поличным, бросала свои карты на стол, отказывалась продолжать, убегала. Тогда он бежал за ней следом, догонял, обнимал, брал ее лицо в свои руки и целовал в губы. Женевьева говорила, что они созданы друг для друга.
У меня возникают вопросы, которые я хотела бы задать Но, про любовь и все такое, но я чувствую, что сейчас не самый подходящий момент.
Когда Лоису исполнилось восемнадцать, он покинул интернат. В последний день он объявил Но, что уезжает в Ирландию искать работу и «сменить декорации». Сказал, что напишет, как только устроится, и будет ее ждать. Он пообещал. В том же году покинула интернат и Женевьева, она уехала в Париж сдавать экзамены. Но было семнадцать лет. Она снова начала убегать. Как-то вечером в парижском баре она встретилась с мужчиной, тот заказал для нее выпивку, и она опрокидывала рюмку за рюмкой, глядя ему прямо в глаза, ей хотелось спалить себя изнутри, сжечь заживо, она смеялась, громко смеялась и плакала – пока не свалилась замертво на пол кафе. Приехала «скорая», полиция, ее забрали в специальный приют для несовершеннолетних, в 14-м округе. Это произошло за несколько месяцев до нашей встречи. Письма от Лоиса Но прячет в только ей известном месте. Десятки писем.
Когда она с трудом встает с кровати, когда у нее больше нет сил, когда она не может есть, потому что ее тошнит, я подхожу к ней и говорю шепотом – думай о Лоисе, где-то там он ждет тебя.
44
Я ищу глазами фигуру Лукаса, жду его до последней минуты, вхожу в класс после всех, проскальзываю в тот момент, когда мсье Маран уже закрывает дверь. Лукас не появился.
Мсье Маран делает перекличку. Леа одета в черный обтягивающий джемпер, на пальцах серебряные кольца. Волосы Аксель приобрели свой естественный цвет, на губах – блеск. Леа поворачивается ко мне, чтобы спросить, не болен ли Лукас. Обе улыбаются мне с видом сообщниц. Мсье Маран начинает урок в своей обычной манере, прохаживается между рядами, сцепив руки за спиной, он никогда не смотрит в свои записи, все держит в голове, даты, цифры, графики. В классе мертвая тишина.
С ума сойти – до чего же вещи иногда могут казаться в порядке. Если немного постараться. Если не заглядывать под ковер. Еще немного – и можно поверить, что мы живем в идеальном мире, где все всегда устраивается наилучшим образом.
Урок длится уже более получаса, когда Лукас наконец стучит в дверь и входит. Мсье Маран позволяет ему занять свое место за партой, не прерываясь. Лукас достает тетрадь, снимает пиджак, мы делаем записи. Возможно ли, чтобы Маран оставил нас без внимания?
Нет.
Нападение не заставляет себя ждать.
– Мсье Мюллер, у вас сломался будильник?
– Э-э… Нет, мсье, лифт. Я застрял в лифте. По классу пробегает смешок.
– И вы думаете, что я это проглочу?
– Естественно. То есть, я хочу сказать, это правда.
– Мсье Мюллер, я преподаю почти тридцать пять лет, и вы как минимум пятидесятый ученик, застревающий по утрам в лифте.
– Но…
– Потрудились бы придумать что-нибудь новенькое, мы привыкли ждать от вас большего. Например, если бы вам преградило дорогу стадо овец, мне было бы легче вам посочувствовать.
– Но…
– Вы можете надеть ваш пиджак, мсье Мюллер. Пойдите-ка поздоровайтесь с мадам директрисой.
Лукас встает, надевает пиджак и выходит, даже не взглянув на меня. Ни ворчания, ни комментариев, он даже не шаркает ногами и не хлопает дверью. Совсем не в его духе. И вид у него встревоженный. Что-то случилось. Что-то наверняка случилось.
В конце занятий мсье Маран идет за мной по лестнице, окликает меня:
– Мадемуазель Бертиньяк, у вас развязан шнурок.
Я пожимаю плечами. Вот уже почти тринадцать лет, как он развязан. Я взмахиваю ногой, откидываю шнурок, ускоряю шаг. Вопрос тренировки. Мсье Маран проходит вперед, смотрит на меня с улыбкой.
– Берегите себя, мадемуазель.
Я не отвечаю. Он и так все прекрасно понял.
Перед английским я нахожу Лукаса, но даже не успеваю ни о чем спросить. Сегодня Но не вернулась. Лукас оставил ключи под ковриком. Он считает, что у нее явно плохи дела, она пьет втихую, от нее за версту несет спиртным, она творит бог весть что, бог весть что. Лукас говорит громко и быстро, он забыл про нашу скрытность, его слышно в другом конце коридора, снова и снова он повторяет: у нас ничего не выйдет, Лу, надо, чтобы ты поняла это, мы не можем оставить ее в таком состоянии, она что-то принимает, с ней невозможно разговаривать, нет смысла бороться…
– Со мной она разговаривает.
Лукас смотрит на меня так, будто я сошла с ума, он входит в класс, я сажусь рядом с ним.
– Ты не отдаешь себе отчета, Пепит, не хочешь признать…
Я прижимаюсь спиной к моему дереву, которое теперь и его тоже, вокруг нас – смех и крики. Я не знаю, что сказать. Я не понимаю уравнения жизни, деление мечты на реальность, не понимаю, почему порядок вещей вдруг нарушается, опрокидывается, исчезает, почему жизнь не выполняет своих обещаний.
Решительным шагом, держась за руки, к нам подходят Леа и Аксель.
– Привет!
– Привет.
– Мы хотим пригласить вас на праздник, к Леа, в следующую субботу.
Лукас улыбается:
– О'кей, классно.
– Ты бываешь в «аське»?
– Ага.
– Дай твой адрес в сети, мы отправим приглашение.
Мне лично это совсем не нравится. У нас полно других проблем. Мы боремся с порядком вещей. Мы связаны общей немой клятвой. Это гораздо важнее. Все остальное не в счет. Не должно быть в счет.
Я ничего не говорю, молча слушаю, как они болтают о музыке, Лукас обещает принести свой iPod, в котором у него куча всего, хватит на целую ночь, лучшие сборники мира и все такое. Они хихикают, восторгаются, поворачиваются ко мне: и ты, Лу, в этот раз ты ведь точно придешь? Я наблюдаю за ними, пока они развлекаются с Лукасом, им по пятнадцать лет, внутри лифчиков у них – груди, а внутри джинсов – упругие задницы, джинсам есть что обтягивать. Они обе очень хорошенькие, даже красивые, ни единого изъяна, хоть под микроскопом изучай. Лукас откидывает волосы, лезущие в глаза, и мне вдруг становится неприятно, перестает нравиться и он сам, и его развязно-уверенная манера держаться.
Весь остаток дня я ворчу. Иногда это помогает: ворчать – то же самое, что наорать на свое отражение в зеркале, становится легче. Главное – не заворчаться, остановиться до того, как начнешь всерьез скисать. Вот почему в конце уроков я беру Лукаса за руку, говорю, ну все, пошли к тебе, я куплю тебе пирожных. Его любимые – с кремом и шоколадной крошкой. Он обожает шоколадные крошки, вот о чем я думаю в очереди в булочной, он меня обожает, хоть и не знает об этом. Или считает слишком маленькой, чтобы меня поцеловать. Или сердится, что я забросила его ради Но. Или он влюблен в Леа Жермен. Или еще…
Проблема гипотез – они размножаются со скоростью звука, как только теряешь бдительность.
Мы возвращаемся с огромным пакетом пирожных. Ставни закрыты. Но мы обнаруживаем на диване – она, должно быть, свалилась здесь, когда вернулась утром, ее майка задралась, оголив живот, изо рта тянется тоненькая ниточка слюны, волосы свешиваются до пола, она лежит на спине, вся как на ладони. Мы продвигаемся на цыпочках, я едва осмеливаюсь дышать. Лукас смотрит на меня, и в его глазах я читаю крупными буквами: «А что я тебе говорил».
Действительно, рядом с ней валяется пустая бутылка. Спиртным разит во всей комнате. Действительно, ей плохо. Не лучше, чем раньше. Но раньше она была одна. Раньше никто в целом мире не беспокоился о том, где она спит и есть ли у нее еда. Раньше никто не волновался, что она возвращается поздно. Теперь у нее есть мы. Мы укладываем ее в кровать, когда она не может сделать это сама, мы переживаем, если она не возвращается. Вот в чем разница. Порядок вещей от этого, может, и не меняется, но разница все-таки есть.
Лукас слушает меня. Ничего не говорит. Он мог бы возразить – ты такая маленькая, Пепит, и такая большая, – но он молчит. Он знает, что я права. Есть разница. Он проводит рукой по моим волосам.
Раньше я думала, что у вещей есть причины, скрытый смысл. Я верила, что этот смысл влияет на мироустройство. Но это всего лишь иллюзия – думать, что есть причины для плохого и хорошего, и грамматика лжет, заставляя нас верить в то, что союзы и предлоги могут что-то связать, давняя ложь, кочующая из века в век. Теперь я точно знаю, что жизнь – это бесконечная смена фаз покоя и смуты, очередность и длительность которых не подчиняются никакой теории.
45
Они достали из шкафа картонные коробки со всяким барахлом и устроились разбирать их прямо на полу. На ковре по всей комнате разложены вещи, старые бумаги, газеты, журналы. Отец взял два дня в счет отпуска, чтобы совершить Великую Уборку перед тем, как перекрашивать стены. Я вхожу в гостиную, сумка через плечо, они здороваются. Мама не задает своих ритуальных вопросов – как прошел день? не слишком ли долго ждала автобуса? – у нее распущены волосы, она надела сережки, которые отец подарил ей на последнее Рождество. Они сортируют барахло на две кучи – в одну то, что еще пригодится, в другую то, что отправится на свалку. Выглядят страшно довольными. Наводят порядок. Расчищают место для новой жизни. Иной. Конечно, они не забыли про Но. Не совсем забыли. Иногда мы говорим о ней, вечером за ужином, отец старается меня уверить, что когда-нибудь мы получим от нее весточку, он в этом не сомневается. Он по-прежнему звонит в социальную службу, почти каждую неделю.
Я отнесла сумку в комнату, заглянула в буфет на кухне, взяла яблоко и вернулась в гостиную. Они орудуют молча, мама берет очередную вещь и вопросительно смотрит на отца, он указывает подбородком, и она кладет предмет в нужную кучу. Потом отец точно так же справляется об участи старых журналов, мама корчит гримасу, журналы отправляются на выброс. Они прекрасно понимают друг друга.
– Меня пригласили на праздник к одной девочке из класса, в субботу.
– Да? Очень хорошо.
Это отец. Мама даже не подняла головы.
– Вечером. В восемь.
– Вот как? И до которого часа?
– Не знаю, до двенадцати или позже, до когда нам захочется.
– Что ж, прекрасно.
Вот как. «Прекрасно». Все идеально. Все к лучшему. Дело улажено.
Я возвращаюсь к себе в комнату, вытягиваюсь на кровати, на спине, скрещиваю руки, как Но.
Мне не нравится эта новая жизнь. Не нравится, когда вещи стираются из памяти, теряются, я не люблю делать вид, будто я забыла. Я не забываю.
Мне не нравится наступающий вечер. Не нравятся все эти дни, уходящие в темноту, навсегда.
Я ищу в памяти точные детали, освещение, декорации. Часы, проведенные с мамой, игры, выдуманные истории, слышанные сто раз. Мы придумывали персонажей, мужчин, женщин, детей, давали им имена и голоса, они уезжали в путешествия на желтом грузовике, устраивали пикники, спали в палатках, праздновали дни рождения. У них были велосипеды, стаканы, снимающиеся кепки и негасимые улыбки. Так было до.
Я помню осенний вечер, после, мне должно быть лет девять или десять. Мы с матерью гуляли в парке, близились сумерки, парк практически опустел, все дети вернулись домой, наступил час вечерней ванны, пижам, влажных после душа босых ног, втиснутых в уютные тапочки. На мне цветастая юбка и ботинки, ноги голые. Я катаюсь на велосипеде, мама сидит на скамейке, наблюдает за мной. В центральной аллее я набираю скорость, курточка застегнута наглухо, волосы развеваются за спиной, кручу педали изо всех сил, чтобы выиграть гонку, мне совсем не страшно. На повороте колесо проскальзывает, велосипед заносит, я вылетаю из седла и приземляюсь на колени. С трудом сажусь, очень больно. На колене глубокая рана, под слоем налипших камешков и земли. Я кричу. Мама сидит на скамейке в нескольких метрах от меня, смотрит себе под ноги. Она ничего не видит. Не слышит. У меня течет кровь, я кричу еще громче. Мама не двигается, ее здесь нет. Я кричу изо всех сил, задыхаюсь, руки уже все в крови, я распрямляю раненую коленку, по щекам текут слезы. С того места, где я сижу, мне видно, как с другой скамейки поднимается дама, подходит к маме. Она кладет руку ей на плечо, мама поднимает голову, дама пальцем указывает ей на меня. Я прибавляю громкости. Мама подзывает меня жестом. Я не двигаюсь, продолжаю орать. Мама сидит, все такая же застывшая. Тогда та дама сама подходит ко мне, присаживается рядом. Она вынимает из сумки платок, вытирает кровь вокруг раны. Говорит, что надо продезинфицировать, когда я вернусь домой. Говорит – пойдем, я отведу тебя к маме. Помогает мне подняться, берет мой велосипед и подводит меня к матери. Та смотрит на меня со слабой улыбкой. Она даже не взглянула на даму, не поблагодарила. Я сажусь рядом, уже не плачу. Дама возвращается на прежнее место. На свою скамейку. Она смотрит на нас. Не может удержаться. Я крепко сжимаю в руке ее бумажный платок. Мама поднимается, говорит, что пора идти. Мы идем. Проходим мимо дамы, которая не сводит с меня глаз. Я поворачиваюсь к ней в последний раз. Она делает мне знак рукой. И я понимаю, что она хочет сказать этим знаком, в пустом парке поздним вечером. Она хочет сказать, что я должна быть сильной, что мне нужно много мужества, мне придется расти с этим. Вернее, без этого.
Я иду рядом с велосипедом. За мной сухо щелкает калитка парка.
46
– Мсье Мюллер, встаньте и сосчитайте до двадцати.
Сегодня утром Лукас совершенно не в себе, у него опухшие глаза, растрепанные волосы, отсутствующий вид. Он обреченно вздыхает, медленно поднимается, начинает считать:
– Один, два, три…
– Стоп!.. Это ваша оценка, мсье Мюллер, три из двадцати. Задание было дано две недели назад, ваш средний балл в этом триместре – пять с половиной. Я буду требовать у мадам директрисы вашего отстранения от уроков на три дня. Если вы желаете остаться на третий год, у вас есть все шансы. Вы свободны.
Лукас собирает вещи. Впервые он выглядит уязвленным. Он не возражает, ничего не роняет на пол, перед тем как выйти из класса, он оборачивается ко мне, в его глазах такое выражение, будто он говорит: «Помоги мне, не бросай меня», но я играю неприступность – прямая спина, высоко поднятая голова, предельно сосредоточенный вид, как в передаче «Вопросы для чемпиона». Если бы я была оснащена функцией «срочная блокировка дверей», меня бы это вполне устроило.
Лукас собирается на вечеринку к Леа. Он пойдет один. Без меня. Я очень старалась представить себе декорации праздника и себя в сердцевине торжества, в сполохах прожекторов, музыки, окруженную выпускниками и все такое. Я очень старалась прокрутить в голове картинки праздника так, чтобы выглядеть естественно: вот я танцую в толпе, непринужденно болтаю с Аксель, в руке – бокал шампанского, сижу на диване и отпускаю остроумные реплики. Но у меня ничего не получилось. Это просто-напросто невозможно. Несовместимо. Это все равно что стараться представить себе жалкого слизня на Международном Салоне стрекоз.
Во дворе я ищу его глазами, он разговаривает с Франсуа Гайяром, широко разводит руками, издалека я вижу, что он улыбается мне, и я не могу сдержать ответную улыбку, даже если я сержусь, потому что у меня нет черепашьего панциря и улиточной раковины тоже нет. Я всего лишь малюсенький слизень в «конверсах». Совершенно голый.
После уроков Аксель и Леа стоят с Жад Лебрун и Анной Делатр, самыми красивыми девочками из выпускного, и о чем-то громко говорят. Я сразу же понимаю, что они обсуждают Лукаса и не замечают моего присутствия, я нарочно остаюсь за большим цветочным горшком и вострю уши.
– Сегодня утром я видела его в пивной на бульваре с о-о-очень странной девушкой, они пили кофе.
– Что за девушка?
– Не знаю. Она не из лицея. У нее был такой чумовой вид, уверяю тебя, просто живой труп, она плакала, а он орал на нее как бешеный.
Лукас присоединяется ко мне. Они тотчас замолкают. Мы идем к метро. Я молчу. Смотрю себе под ноги, считаю окурки на асфальте.
– Пепит, ты должна пойти со мной в субботу, это тебя отвлечет.
– Я не могу.
– Почему?
– Родители не разрешают.
– А ты у них спрашивала?
– Ну ес-тессс-но, спрашивала, они не хотят, чтобы я шла. Считают, что мне еще рано.
– Жаль.
Ага, как же, жаль ему, держи карман шире. Ему наплевать. У него своя жизнь. У каждого своя жизнь. В конечном счете Но права. Ничего нельзя совместить. Есть несовместимость вещей. Ему семнадцать лет. Он ничего не боится – ни того, что на него будут смотреть, ни быть смешным, ни говорить с людьми, с девочками, он не боится, что не впишется в интерьер, он знает, что он красивый, большой и сильный. И это меня раздражает.
Мы продолжаем идти молча. У меня нет желания разговаривать. Хотя я все равно должна зайти к нему – ради Но. Когда мы приходим, она уже полностью собралась на работу. Я предлагаю проводить ее, кивком прощаюсь с Лукасом. Мы спускаемся пешком, потому что в лифте ее тошнит. Впрочем, ее все время тошнит. Тошнит от жизни.
На улице она достает из сумки картонную коробку и протягивает мне:
– Держи, это тебе.
Я открываю и вижу там пару красных кроссовок «Конверс», о которых давно мечтала. Бывают моменты, когда на самом деле трудно не расплакаться. Если бы только я нашла что-нибудь посчитать, сию же секунду, меня бы это устроило, но ничего не попадается на глаза, только слезы. Кроссовки, Но купила мне пару кроссовок, которая стоит как минимум пятьдесят девять евро. Красные, как мне хотелось.
– Ну спасибо. Не надо было… Ты должна экономить деньги, для твоей поездки…
– Не волнуйся, все в порядке.
Я иду рядом с ней, шарю по карманам в поисках платка, хотя бы и несвежего, старого, но ничего не нахожу.
– Лукас хочет, чтобы ты ушла?
– Нет-нет, не волнуйся. Все хорошо.
– Он ничего такого тебе не говорил?
– Да нет, ничего. Все будет нормально, не дергайся. Все будет в порядке. Ну давай, мне пора, иди домой, дальше я пойду одна.
Я поднимаю голову и замечаю, что мы стоим под рекламным щитом. Это реклама духов, женщина идет по улице, решительная, собранная, на плече – большая кожаная сумка, длинные волосы развеваются на ветру, она одета в красивую шубку, позади нее сверкает в сумерках город, яркие огни какого-то отеля, у дверей стоит мужчина, сраженный наповал ее красотой.
С чего началась эта разница между рекламными щитами и реальной жизнью? Это жизнь становится все дальше от них или реклама все меньше похожа на реальность? С каких пор? Что именно не так?
Я смотрю, как уходит Но, в руках – жалкий полиэтиленовый пакет, вот она поворачивает за угол, вокруг нее ничего не сверкает, все темное и серое.
Войдя в квартиру, швыряю сумку на пол, мне хочется дать понять, что я раздражена, расстроена, тогда маме придется со мной заговорить. Это всегда срабатывает. Она одета, причесана и накрашена, присмотревшись, можно подумать, что она – самая обычная мама, только что вернувшаяся с работы. Она идет за мной на кухню, я даже не сказала ей «привет» или «добрый вечер», я открываю шкаф, тут же захлопываю, есть не хочется. Она следует за мной в комнату, я захлопываю дверь у нее перед носом. Слышу, как она кричит из-за двери, в глубине души я этим довольна, вот уже три миллиарда лет она на меня не орала. Она жалуется, что я никогда ничего не убираю за собой, все валяется где попало, ножницы, клей, веревка, ей осточертели мои концептуальные опыты и тесты на сопротивляемость, ей надоело, надоело, надоело, дом похож на свинарник, со мной невозможно разговаривать, что, в конце концов, не так?
Вот именно. Вот в чем вопрос. ЧТО НЕ ТАК? Главный вопрос, который все себе задают, и никто не может ответить. Что именно не так? Я не открываю дверь, сижу в комнате и молчу.
Ну вот например, мне тоже надоело, надоело, надоело быть все время одной, надоело, что она говорит со мной так, будто я – дочь нашей консьержки, мне надоели слова и опыты, мне все надоело.
Вот например, мне бы хотелось, чтобы она смотрела на меня так же, как другие матери смотрят на своих детей, чтобы она приходила поболтать перед сном, и без этого вечного ее выражения, будто она с интересом изучает пол, а все реплики нашего диалога знает наизусть.
– Лу, открой сейчас же дверь!
Я молчу, только громко сморкаюсь – чтобы у нее прибавилось угрызений совести.
– Лу, ну почему ты не хочешь со мной поговорить?
Я не хочу с ней говорить, потому что она не слушает, потому что у нее всегда такой вид, будто она думает о чем-то другом, будто она витает где-то в своем мире или только что приняла успокоительное. Я не хочу с ней говорить, потому что она больше не знает, кто я такая, кажется, всякий раз она спрашивает себя, что нас с ней связывает, кто я и какое имею к ней отношение?
Я слышу, как в замке поворачивается ключ, пришел отец, он зовет нас из прихожей. Его шаги приближаются, приглушенным голосом он что-то говорит, мама уходит.
– Эй, Сердитый Гном, мне ты откроешь? Я поворачиваю защелку. Отец обнимает меня.
– Что происходит?
Я смотрю на скомканный платок, зажатый в руке. Мне по-настоящему грустно.
– Ну?
– Мама… Она меня не любит.
– Почему ты так думаешь? Ты прекрасно знаешь, что это неправда.
– Правда! И ты сам это знаешь! Она разлюбила меня после смерти Таис.
При этих словах отец вдруг резко бледнеет, будто на него свалилось что-то тяжелое, и я уже жалею, что сказала это, потому что все эти годы отец делает все возможное, чтобы замаскировать правду.
Он отвечает не сразу, и я знаю, до чего ему трудно найти верные слова, чтобы они звучали правдиво и убедительно.
– Лу, ты ошибаешься. Мама тебя любит. Она любит тебя всем сердцем. Просто она не очень-то умеет это выразить, как если бы она немного отвыкла, понимаешь, как если бы она проснулась после долгого сна, но во сне она все время думала о тебе, и именно ради тебя она наконец проснулась. Ты знаешь, Лу, мама была очень больна… Сейчас ей лучше, намного лучше, но нужно дать ей время.
Я говорю «хорошо», чтобы показать, будто все поняла. Даже улыбаюсь. Но в то же время думаю о продавцах-лоточниках перед входом в галерею Лафайет, демонстрирующих сверхсложные агрегаты, которые режут все подряд квадратами, полосками, кубиками, кружочками, розами, трут, давят, выжимают сок, перемешивают, – короче, агрегаты, умеющие делать все что угодно и никогда не ломающиеся.
Все так, но я не идиотка.








