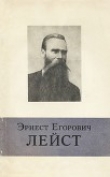Текст книги "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами"
Автор книги: Давид Шраер-Петров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА 21
Ворота в Америку
Тяжело было прощаться с друзьями, больными, домом. Но эта тяжесть, знакомая каждому, кто уезжает в эмиграцию, перевешивалась тяжестью горчайших в нашей жизни восьми с половиной лет пребывания в положении отказников. Мы были бесправны. Каждый день мог принести арест, суд, тюрьму. Каждый призыв в армию мог оторвать от нас Максима. Кровожадный Молох войны в Афганистане ежедневно пожирал солдат. Так что мы спешили оформить выездные документы и покинуть эту страну, которая так и осталась нелюбящей мачехой.
Мы вылетали из Международного аэропорта Шереметьево 7 июня 1987 года Пристальные глаза советского пограничника скользнули по моему лицу, по моей визе, снова по лицу. Я перешел государственную границу СССР и вместе с Милой и Максимом шагнул на борт самолета, отправлявшегося в Вену. Вместе с нами эмигрировала мать Милы, сестра и племянница. Этим же рейсом улетали еще несколько семей отказников.
Мы приземлились в Вене поздним вечером. Встречали нас чиновники из Сохнута – организации, переправляющей советских евреев в Израиль. Мы погрузили наши чемоданы в багажник маленького автобуса, который начал развозить эмигрантов по отелям. Нас вместе с родственниками привезли в пансион, расположенный довольно далеко от Вены, в городке Таблиц. Там, у самых склонов холмов, начинался Винервальд (Венский лес). Пожалуй, самым необычным впечатлением от первого утра в Европе был головокружительно чистый, даже сладкий воздух и тишина, на фоне которой пение дроздов и мирное шуршание автомобильных шин казались музыкой свободы.
Мы прожили в Таблице десять дней – в Вене мы беседовали с чиновниками Сохнута, а потом с представителями американской организации ХИАС, опекающей еврейских беженцев, пожелавших эмигрировать в США. Конечно же, мы использовали каждую возможность, чтобы обойти и посмотреть Вену. Денег не было на транспорт. Частенько мы голосовали у обочины шоссе, и любезные австрийцы подсаживали и привозили в центр Вены. «Денег не было» означало, что пособия, выданного на десять дней, хватало только на еду, а три сотни долларов, которые нам обменяли советские власти, мы оставляли на черный день. До сих пор помню неповторимый кружевной готический собор Святого Стефана, древнюю Площадь Высокого Рынка с фонтаном «Обручение», где скульптурно воспроизведено обручение Девы Марии со Святым Иосифом, танцующие часы «Анкерур», и, конечно же, Ринг-штрассе, подковой окружающую центр Вены. Мы часами гуляли по Рингштрассе, переходя от одной группы музыкантов, наряженных в костюмы разных регионов Австрии, к другим. На Рингштрассе было множество кафе и увеселительных заведений с зазывающими названиями: секс-шоу, топлес шоу или стрип-клуб. Ни на кафе, ни на секс-шоу денег не было. Хотя однажды мы расхрабрились и пошли попить кофе с венскими булочками. Это было в Музее изобразительных искусств.
Однажды хозяйка пансиона фрау Анна позвала меня в лобби. Приехали сотрудники посольства Израиля в Австрии. Они привезли несколько экземпляров сборника «В отказе», посвященного евреям-отказникам. В сборнике был напечатан (в сокращении) мой роман «В отказе», давший название всему сборнику. Гости убеждали меня в том, что мое место ученого, врача и писателя – в Израиле. Это была правда. Я не находил слов для оправдания нашего решения эмигрировать в Америку.
Оставалось несколько дней до переезда из Вены в Рим. Все в Австрии было по-другому, чем в России. Доброжелательные улыбчивые прохожие. Переполненные колбасами и сырами супермаркеты. Почему-то запомнились колбасы и окорока, свисавшие с крюков. А помидоры, баклажаны, головки чеснока – все они просились в корзинки, уговаривали взять с собой. Неподалеку от пансиона фрау Анны был городской бассейн. Мы расхрабрились, купили билеты и сопровождаемые укоризненным взглядом Святого Иосифа, часовня которого стояла как раз напротив бассейна, купили билеты и вошли. Да, не уберег нас от соблазнов смиренный супруг Пречистой Девы. Вокруг бассейна и в воде плескались, кувыркались, слизывали мороженное и веселились дамы, девушки и девочки (от 70 до 12 лет) без верхней части купальника. Я взглянул на Максима. Он в восторге пожирал глазами прекрасных австриячек. Мила не прочь была бы последовать их примеру, если бы не присутствие сына. Я почувствовал глубокую симпатию к материализации права человека свободно распоряжаться своим телом.
В пансионе фрау Анны самым популярным словом был «коллект». Все звонили «в коллект» своим знакомым и друзьям в Америку, иногда в Канаду и совсем редко в Англию, Германию или Австралию. «Коллект» значило, что абонент на другом конце провода готов платить за телефонные услуги. У нас были друзья в Вашингтоне и Провиденсе (штат Род Айлэнд, поблизости от Бостона). В Вашингтоне я надеялся подыскать работу по микробиологии в Национальном Институте Здравоохранения (NIH). С другой стороны, в Провиденсе был Браунский университет (Brown University), относившийся к высшей лиге (Ivy League) американских вузов. У меня не было никакого сомнения, что мои исследования по стафилококковым инфекциям заинтересуют Браунский университет. Для Максима это была бы отличная школа. Он два с половиной года проучился в Московском университете по специальности почвоведение, но всегда мечтал перейти на искусствоведение или литературоведение. Окончательное решение предстояло принять в Италии, куда нас переправляли из Вены. Накануне нашего отъезда в Рим, из Парижа позвонил Александр Гинзбург, в прошлом узник ГУЛАГа, эмигрировавший во Францию и работавший в газете «Русская мысль». Мы обсуждали с ним мое интервью Французскому Радио (Radio France), в котором я провел грань между диссидентами и отказниками. Хотя и те и другие на каком-то этапе вместе противостояли коммунистической машине и способствовали ее крушению, конечные задачи у них были разные. Отказники хотели уехать из страны, диссиденты – либерализовать ее социальный и политический статус.
Мы отправлялись в Рим через десять дней после прибытия в Вену. На охраняемых автобусах большую группу беженцев из СССР привезли на железнодорожный вокзал. Платформа, на которой стоял поезд, была оцеплена австрийскими автоматчиками. Еще тогда боялись террористов. Картина была тревожной и вызывала в памяти ужасающие кинохроники отправки евреев в концлагеря (немецкая речь охранников, растерянные евреи, чемоданы, оставшиеся от прошлой жизни). Слава Богу, это были только страшные ассоциации.
Я проснулся на рассвете, вышел из купе в коридор. Поезд пересекал долину, окруженную горами. Солнце врывалось в окна, словно кричало: «Не спи! Скоро Италия!» И вдруг наступила зловещая тишина. Поезд ворвался в тоннель, проходивший сквозь Альпы. И снова океан солнца, внезапно поглощенный чернотой тоннеля, когда единственным напоминанием о реальности служит перестук колес по рельсам. Солнце – тоннель. Солнце – тоннель. И вот наступает миг, когда солнце отказывается подчиняться черноте тоннеля. Мы останавливаемся ненадолго на окраине Флоренции. Из соседнего товарняка итальянские грузчики перетаскивают в кузов грузовика ящики с овощами. Мы в Италии! Поезд трогается, разгоняется, трубит, как нетерпеливый слон, приближающийся к водопою. А вот и река Тибр! Мы в центре мира – древнем Риме!
Мы прибыли на вокзал Термини. Поселили нас в одной из старых запущенных гостиниц поблизости от вокзала. Стоит ли описывать гостиницу, которая скорее напоминала ночлежку для самого разнокалиберного люда, нежели приличный отель, подходящий для людей, которые еще десять дней назад жили в нормальных московских квартирах. Двор-колодец, в который выходило окно нашего номера, по ночам оглашался музыкой, криками ссорившихся, а то и дравшихся людей, воплями сладострастья, смехом, звоном разбитого стекла. Нам ничего не оставалось, как принимать действительность такой, как она предназначалась людям, лишенным страны, где они родились, паспортов, денег. Мне могут возразить: «Это был ваш выбор!» От признания этой правды не становилось легче. Утром и вечером нас кормили в столовой, организованной ХИАСом. Вообще, отныне и до приезда в США судьбы отказников, оказавшихся в Италии и ожидавших визы в США, была в абсолютной зависимости от ХИАСа.
Через неделю нам предстоял переезд в Ладисполи, курортный городок на побережье Тирренского моря. Предполагалось, что там мы будем жить около двух месяцев, пока оформляются наши въездные визы в Америку. А до тех пор начались наши бесконечные пешие походы по Риму. От вокзала Термини шли мы в сторону Собора святого Петра в Ватикане. Были дни, когда разрешалось посещать бесплатно Собор с его уникальными коллекциями Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли. В окрестностях Собора разыскали мы русский книжный магазин. Я купил томик стихов андеграундного поэта Геннадия Айги, изданный в Париже, и несколько книг А. И. Солженицына. Однажды оказались мы на площади св. Петра во время мессы, которую служил папа Римский Иоанн Павел Второй (1920–2005), урожденный Кароль Войтыла, польский священник и поэт. Папа выехал из ворот Ватикана, охраняемых пестрыми швейцарскими стрелками, в бронированном черном автомобиле с пуленепробиваемыми стеклами. Его было хорошо видно даже нам, стоявшим позади толпы молившихся. Речь транслировалась через громкоговорители. Папа говорил по-итальянски.
Римский Форум, Пантеон и Колизей мы выучили назубок, приезжая в Рим даже из Ладисполи. Увидели высоченную Испанскую лестницу, такую же уникальную, как одесская лестница, солировавшая в фильме С. М. Эйзенштейна (1898–1948) «Броненосец Потемкин» (1925). На эстраде внизу лестницы играли музыканты. В толпе бродили туристы. Случайно столкнулись мы с русскими, которые уже десять лет жили в Америке. Неужели будет время, когда мы проживем в США целых десять лет?!
Особенным местом для меня оказалась Вилла Боргезе. Это парк, уставленный мраморными статуями древнеримских красавиц. Парк-музей, напомнил мне Летний Сад. Внутри парка есть музей живописи и скульптуры. С Виллой Боргезе меня связывает случай. В одну из особенно душных и тяжелых римских ночей меня одолела бессонница. К счастью, Мила и Максим крепко спали. Я достал из чемодана бутылку «Столичной» водки, налил полстакана и выпил. Стало полегче на душе, но все равно не спалось. Я осторожно вышел из номера, спустился вниз, прошел мимо каморки, где, уткнувшись в газету «Унита» дремал ночной портье, и направился мимо вокзала Термини в сторону Виллы Боргезе. Чем дальше я уходил от центра Рима, тем прохладнее становился воздух и дышалось все легче и легче. Тяжелые мысли о нашем положении беженцев, отсутствие ясности, удастся ли найти работу в Америке, растворялись в прохладе садов, окружавших усадьбы в этом районе Вечного Города. Я начинал верить, что все образуется, что главное свершилось: семья со мной, все здоровы, Максим избежал Афганистана, у меня в руках три профессии: врача, микробиолога и писателя, а у Милы прекрасный английский язык, с которым мгновенно откроются любые двери. Голова слегка кружилась от выпитой водки или от пьянящего южного воздуха, в котором перемешались ароматы лимона, лавра, магнолии. Незаметно я пришел к Вилле Боргезе. Ворота не были закрыты на ночь. Я вошел внутрь. Все было по-другому, не так, как при солнечном свете. Светилась полная луна, и статуи римских красавиц, казались ожившими. Мне даже показалось – оживленными. Никого, кроме меня, на Вилле Боргезе не было. Я один бродил по аллеям парка. Значит, это я возбудил оживленные взгляды и движения рук мраморных красавиц. Я подумал, не перешел ли временно, хотя бы на одну ночь, холодный мрамор статуй в теплое женское тело? Долго я бродил по аллеям Виллы Боргезе, сопровождаемый взглядами, жестами и осторожными призывами моих ночных компаньонок. Наконец, я безумно устал, прилег на какой-то полянке, чтобы немного передохнуть и вернуться в гостиницу, но провалился в один из самых сладостных снов, которые я видел за всю мою жизнь. Горячие лучи солнца разбудили меня. Я открыл глаза. Отвернувшись от меня, стояла одна из мраморных красавиц. Чуть поодаль несколько бродячих собак ласкали друг друга, не обращая на меня никакого внимания и, наверно, приняв меня за опрокинутую ночную статую, которая еще не вернулась из состояния человеческого тела в божественное произведение искусства.
Мы прожили в Риме неделю. Предстоял переезд на побережье Тирренского моря в Ладисполи, симпатичный курортный городок с населением около 30 тысяч человек. В древности вдоль пляжей, покрытых уникальным по цвету черным песком, красовались виллы римских патрициев. В средние века здесь была резиденция римских пап. Севернее Ладисполи, в городке Чивитавеккья, еще и сейчас археологи продолжают раскапывать остатки древнего морского порта в устье реки Тибр. Порт был заложен в 106 году императором Трояном.
Мы сняли двухкомнатную квартиру на 6-м этаже кооперативного дома. Квартира принадлежала семья безработного молодого доктора. Он служил портье в маленькой гостинице, свою хорошую квартиру сдавал внаем, а с женой и пятилетней дочкой ютился где-то в полуподвале. Впервые, пожалуй, я увидел массовую безработицу. Никаких политических причин к этому не было, в отличие от советской тоталитарной машины, которая, с одной стороны, создавала бессмысленные рабочие места, а с другой – препятствовала получению достойной работы высококвалифицированными отказниками и другими инакомыслящими. В Италии действовали экономические законы свободного рынка. Труд был в Италии дешевым товаром, а жилье – дорогим. На оплату квартиры мы потратили все деньги, вырученные за продажу на черном рынке в Риме фотоаппарата, бинокля и других вещей, которые разрешила к вывозу советская таможня. Но этих денег не хватило. Пришлось добавлять больше половины денежного пособия, которое давал на семью ХИАС. Но мы были счастливы. Окна спальни и балкон выходили на море и на канал. Дом наш стоял на набережной канала. С утра я садился за машинку, а к полудню присоединялся к Миле и Максиму на пляже. Там было много знакомых по Москве семей отказников. Скоро Максим подружился с итальянскими девушками и молодыми людьми и начал водить с ними компанию. Во время сиесты мы уходили с пляжа, перекусывали, отдыхали, читали, а часов в пять возвращались к вечернему купанию. После ужина гуляли по бульвару, окруженному высоченными платанами, и непременно посещали Фонтан, который служил клубом для беженцев из России. Фонтан располагался на пересечении бульвара и главной улицы Ладисполи, по-моему, виа Витториа. Другим клубом для еврейских беженцев была синагога или точнее, хасидский Хабат Хауз. В садике при синагоге стоял дощатый стол, за которым русские старики и старухи перекусывали от щедрот американских хасидов и коротали жаркие часы сиесты. Домой им идти не хотелось, потому что в квартирах, которые снимали их дети или внуки, чаще всего не было даже вентиляторов. При синагоге была русская библиотека. Я приходил туда по нескольку раз в неделю, брал книги Бунина, Набокова, Солженицына, Аксенова, Максимова, Саши Соколова, Синявского, Довлатова и других писателей-эмигрантов, изданные в Америке, Франции или Германии. Еще одним клубом был баптистский центр, которым руководил американский пастор по имени Джон. Центр был новехоньким сооружением. Главное помещение легко превращалось в зрительный зал, где по два раза в неделю показывали американские кинофильмы. Евреи-беженцы с удовольствием угощались сладостями, орешками, жвачкой, которые выставлял щедрый пастор Джон. Это был настоящий соблазн, не слабее библейских соблазнов, которые Сатана подсовывал святым отшельникам. К счастью, никого по-настоящему так и не удалось соблазнить. За плечами был опыт жизни в советской державе, когда надо было в худшем случае прикидываться, что поддаешься соблазну.
Другим развлечением для меня была рыбалка. Вернее, попытка таковой. Из Москвы привезли мы с Максимом два спиннинга, с которыми ловили в Пярну с мола или в речках и озерах Эстонии. Почти неразрешимой задачей для рыбалки в Ладисполи было достать наживку. Наконец, на окраине Ладиспольского побережья, где стояли небогатые одноэтажные домики, разыскал я рыболовную лавку. С берега ловить не было никакого смысла из-за мелководья. Неподалеку от канала, протекавшего мимо нашего дома, я нашел гряду скал, уходивших в море. С этих скал я и начал понемногу ловить средиземноморских рыбешек, оказавшихся сардинами. Стоя на скале, продувавшейся благодатным бризом, под лучами закатного солнца хорошо было мечтать о том, как вскоре по приезде в Америку я вернусь к исследованиям по микробиологии золотистого стафилококка, которые были прерваны почти на девять лет. Наша семья склонялась к тому, что, вероятнее всего, мы поедем в город Провиденс штата Род Айлэнд, где находится знаменитый Браунский университет. В этом университете каждый из нас найдет подходящее место: Максим продолжит учебу; Мила сможет преподавать английский или русский языки; я займусь любимой микробиологией. Было немного тревожно от шальных мыслей: «А вдруг не получится?» Но тут же успокаивал себя: «Вспомни, как было в отказе! А ведь выжили, преодолели, эмигрировали. В такой свободной, богатой и справедливой стране, как Америка, все будет O.K.»
Однажды за такими «маниловскими» мечтами я не заметил, как ко мне на самый край белой ноздреватой скалы пришла подозрительная компания вполне возмужавших подростков. Не хочу употреблять слово банда, хотя американский термин «street gang» вполне уместен. Их было пятеро или шестеро парней лет пятнадцати или шестнадцати довольно необузданного вида. Им нужны были деньги. Денег у меня не было, разве что какая-то мелочь. Они стали подталкивать меня к краю скалы, которая нависала над морем. Подталкивать мое удилище, которое я пытался удерживать. Ситуация была критическая. И вдруг я вспомнил восклицание из какого-то давнишнего фильма: «Да здравствует Гарибальди!» Вспомнил и прокричал с идиотской восторженной улыбкой: «Ewiva Garibaldi!» И даже похлопал дружески одного из парней по плечу. А потом другого. Они посмотрели друг на друга в недоумении. Я повторил: «Ewiva Garibaldi!» Они заулыбались, начали подталкивать друг друга, показывая на меня, но уже вполне дружелюбно. И твердя что-то вроде: «Рыбак, ты наш друг! (Pescatore, amico, amico!)», покинули скалу.
Двадцать седьмого августа 1987 года американский «Боинг» вылетел из Рима и через восемь часов приземлился в Нью-Йорке, на аэродроме Кеннеди (JFK). Нас встретили друзья – Миша и Рима Фишбейн. Мы пересели в маленький самолет, напоминающий по размеру, очертаниям и бело-голубой окраске летающий автобус, только что с крыльями и винтом. Мы летели на север, вдоль побережья Атлантического океана в Новую Англию, в Провиденс – столицу самого маленького штата Америки – Род Айлэнд. Открылась совершенно новая страница жизни, которую я продолжаю заполнять и поныне.
ГЛАВА 22
Патологоанатом, пересекавший Провиденс на велосипеде
Все наши надежды были вокруг Браунского университета. Через неделю после приезда в Провиденс начинались занятия в университете. Максиму надо было успеть к началу. Местные еврейские организации радушно приняли нас и поселили в трехкомнатной квартире двухэтажного деревянного дома. Они были уверены, что Максим выберет медицину, а он хотел заниматься литературой.
На роскошном шведском автомобиле «вольво» нас повезли в Браунский университет, который представлял собой город внутри Провиденса. Улицы вокруг университета были забиты автомобилями. Студенты начали съезжаться к началу занятий. Огромное зеленое поле, предназначенное для праздников и шествий, обрамлялось учебными зданиями готической архитектуры, заложенными два века назад на деньги, вырученные от работорговли. Было жарко. В конце августа в этих местах жарко, как в Сочи. На зеленом поле студенты играли в мяч, в бадминтон, запускали тарелки или валялись на траве. Некоторые девочки загорали в очень смелых купально-спортивных костюмах. Максима все это будоражило, да и мы с Милой наблюдали с интересом. Это перекликалось с раскованностью молодых европейцев, которую мы наблюдали в Австрии и Италии, и противоречило мнению, что Америка – пуританская страна. Правда, Браунский университет считался весьма либеральным. В Приемной Комиссии с Максимом беседовали очень доброжелательно. Упоминание о Дэне Радэре и его документальном фильме «Семь дней в мае», в котором часть фрагментов снималась в нашей московской квартире, вызвало у Брауновских администраторов энтузиазм и любопытство охраняемых пестрыми швейцарскими стрелками: кто же эти люди, вырвавшиеся из лап КГБ? Когда же Максим начал читать свои переводы русских поэтов на английский язык, коллективное сердце Приемной Комиссии было окончательно покорено. Через пару дней сына приняли (условно до результатов зимней сессии) на третий курс Браунского университета. Его согласились учить бесплатно (ведь мы оба не работали) и дальше, если зимние экзамены будут сданы успешно. Максим купил себе велосипед и ежедневно ездил с Моррис авеню, где мы жили, на занятия в разные здания университета, размещавшиеся вокруг Тэер стрит, Вашингтон стрит, Митинг стрит и пр. И ежедневно – в Рокфеллеровскую библиотеку на Проспект стрит. Он наконец-то погрузился окончательно и бесповоротно в русскую и английскую литературу, начал нащупывать нерв-мостик, по которому можно перейти от эстетики одного языка в другой, не потеряв, а приобретя, не утрачивая прелести оригинала, вопреки господствовавшему мнению о потерях при переводе, особенно, художественном. К концу своего первого семестра, экзамены за который (в том числе, по биологии) были сданы успешно, Максим был зачислен официально в Браунский университет.
Вскоре Мила начала почасовую работу в Уотсоновском Институте Международных отношений при Браунском университете, где успешно проработала до 1989 года, после чего перешла на штатную работу в Рокфеллеровскую библиотеку.
Я пока еще оставался без работы, если не считать моих ежедневных (что бы ни случалось!) шаманств над пишущей машинкой, а потом – над компьютером. Надо было искать работу. В дело пошли интервью, взятые журналистами из местных телеканалов и газет. Очень большое участие в моем трудоустройстве принял декан биологического факультета профессор Фрэнк Ротман, по происхождению венгерский еврей, бежавший мальчиком от фашистов и эмигрировавший в США. Ротман был крупным биохимиком и иммунологом. Он представил меня профессору-микробиологу Сеймуру Ледербергу, родному брату Джошуа Ледерберга, который получил Нобелевскую премию за открытие феномена фаговой трансдукции (перенесение бактериофагами генов от одной бактерии к другой). Но никаких вакансий на кафедре микробиологии Браунского университета не было. Ситуация напоминала мне время, когда после аспирантуры я переехал в Москву и пытался найти место научного сотрудника-микробиолога. Только все получалось с обратным знаком. Там были места, но по пятому параграфу (национальность) меня не брали. Здесь взяли бы с охотой, но не было вакансий.
Из последних выпусков американских микробиологических журналов я узнал, что в Провиденсе, в Мириам госпитале работает некий профессор (назовем его Мендес), который занимается проблемой устойчивости стафилококков к пенициллинам, в том числе, к метициллину. Это была область, близкая к моим исследованиям в Институте имени Гамалея. Что может быть удачнее?! Я отправился в Мириам госпиталь на 87-тысячемильной «тойоте», купленной через неделю после приезда в Провиденс. Абсолютное большинство американцев, в каком бы финансовом положении они ни были, должны обладать автомобилем. Городской транспорт даже в таких средних по величине городах, как Провиденс, неудобен и редок. Доктор Мендес радушно встретил меня у дверей лаборатории, проводил в кабинет, угостил кофе и рассказал о своем главном проекте. Это был цикл исследований по генетической регуляции метициллино-резистентности у стафилококков, что очень близко примыкало к моим экспериментам и публикациям (увы, десятилетней давности!) по механизмам устойчивости бактерий к пенициллинам, в том числе, метициллину. Мне была показана лаборатория, оснащенная таким оборудованием, о котором микробиолог может только мечтать. Меня представили научным сотрудникам и лаборантам. Мне были подарены оттиски с научными статьями доктора Мендеса и его коллег. Меня угостили превосходным ланчем в госпитальном кафетерии. Доктор Мендес любезно проводил меня до стоянки. Но больше не позвонил. Правда, доктор Мендес рассказал обо мне (и передал мое резюме) в другую научную лабораторию, которая только начала формироваться в Мириам госпитале. Я получил предложение из этой лаборатории под самый Новый Год (1988-й). Но в это время я был уже связан с другим предложением, которое я принял, как оказалось, на двадцать лет.
Однако до этого в начале октября 1987 года позвонил некто, отрекомендовавшийся профессором патологии местного акушерско-гинекологического/педиатрического госпиталя (Women and Infants Hospital). Его звали доктор Дон Зингер. Он узнал из интервью, помещенном в городской газете, что я ищу работу. Мы договорились встретиться на следующий день на углу Вашингтон стрит и Тэер стрит у входа в Научную библиотеку. Здание Научной библиотеки было самым высоким в Браунском университете. Я разглядывал каждую машину, останавливавшуюся около библиотеки. Никто из подъезжавших к библиотеке мною не интересовался. Я прождал пятнадцать минут и хотел было пойти и позвонить, не забыл ли доктор Зингер, что его ждут, как ко мне подкатил на велосипеде крепыш в черном шлеме, мотоциклетных очках и с рюкзаком за спиной. Когда велосипедист стащил защитные очки и шлем, я увидел розовощекого, рыжеватого и веснушчатого господина с заметной лысиной и крепкой фигурой. Он был невысок и полон энергии. Мы присели на скамейку в сквере и разговорились. Доктор Зингер предложил мне (пока я не найду постоянную работу) заняться неким Проектом, который будет лежать на грани между хирургией, педиатрией, микробиологией и патологией. «Все будет сосредоточено вокруг селезенки!» – лукаво поблескивая очками, заявил доктор Зингер. Мы сидели на скамейке. Слева высился небоскреб Научной библиотеки. Деревья сквера потряхивали рыжеющими париками. Студенты проходили мимо нас, таща сумки с книгами, и на ходу дожевывая сэндвичи, данкиндонатсы (род американских пончиков) или сладкие булочки из соседнего кафе «Старбакс» и запивая все это кофе, кока-колой, пепси-колой, лимонадами и газировками множества фирм и названий. На углу улиц Тэер и Ватерман старый негр играл на саксофоне, собирая деньги в раскрытую раковину чехла.
Я вдруг вспомнил студенческие годы в ленинградском медицинском институте. Весну или раннюю осень. Мы толпились между лекциями около библиотеки, столовой, перед входами в аудитории, что-то допивали, что-то дожевывали, хохотали, курили, шутили. Была полоса либерализации после смерти Сталина и расстрела Берии. И вот в начале октября 1987 года, после долгих лет отлучения от науки жизнь снова оказалась интересной и счастливой. Я обсуждал с американским профессором свой первый в Америке научный проект. «Все будет сосредоточено вокруг селезенки. А точнее – вокруг осложнений, вызванных удалением этого органа – спленэктомии», – повторил доктор Зингер. «Селезенка, селезенка…», – пытался я вспомнить все, что знал о селезенке со студенческих лет, но безнадежно много (как показалось вначале) забыл. И все-таки вспомнился курс госпитальной терапии. Третья аудитория, сбегавшая амфитеатром вниз к сцене, где поставлен белый стол, белая кушетка, белые стулья и где в белых халатах врачи-терапевты, ассистенты кафедры демонстрируют больного, одетого в голубую застиранную пижаму, бледного, испуганного. К нему подходит старик в распахнутом халате, галстуке, синем в красные и белые полоски. Узел галстука ослаблен. Старик в белой шапочке и с деревянным стетоскопом, торчащим из верхнего кармана. Старик играл в этом клиническом «театре» ведущую роль. Это был профессор М. Д. Тушинский (1882–1962), один из крупнейших русских терапевтов, академик медицины. У больного, которого демонстрировал профессор Тушинский, была какая-то редкая форма анемии, связанная с наследственным заболеванием (кажется, серповидная анемия), которое наблюдается у жителей Средиземноморья. Больной приехал в Москву из Колхиды на Черном море. Профессор Тушинский хочет научить нас определять размеры селезенки при помощи простого приема. Осторожными прикасаниями острия булавки к коже в левом подвздошье старик-профессор показывает зону наибольшей чувствительности кожных рецепторов, что совпадает с границами увеличенной селезенки. Мы с моим приятелем по группе Толей Мужецким, сыном профессора гигиены И. Е. Рамма, в это время разыгрывали интересную шахматную задачу на карманной доске. Сидели мы высоко, но М. Д. Тушинский разглядел, попросил меня спуститься на сцену и заставил научиться технике определения границ селезенки. Помню до сих пор. Селезенка у больного была резко увеличена. Когда больной ушел, профессор Тушинский сказал, что судя по анализам крови (тяжелая анемия) и резкому увеличению селезенки, больному предстоит серьезная операция – удаление селезенки (спленэктомия), которая является единственным (возможным) спасением. И что врачи опасаются грозного осложнения – сепсиса, который чаще всего бывает вызван капсульной бактерией Haemophilus influenzae. «Но другого выхода нет. Пойдем на риск», – заключил профессор Тушинский.
Вернув меня к реальности, доктор Зингер повторил: «Все в моем новом проекте будет сосредоточено вокруг случаев сепсиса, возникающего после спленэктомии и вызванного микроорганизмом под названием Haemophilus influenzae». Как эхо, слившееся из двух голосов, отделенных тридцатилетним промежутком, я повторил: «Спленэктомия. Сепсис. Haemophilus influenzae».
Через несколько дней, прочитав все, что я смог найти о селезенке, болезнях крови, связанных с увеличением этого органа и сепсисе, вызванном спленэктомией, я отправился в акушерско-гинекологический/педиатрический госпиталь для обсуждения с доктором Зингером нашего совместного Проекта. Путь мой лежал по красивому мосту над одним из притоков Провиденской реки, с которого к северо-западу открывался вид на разнокалиберный и разностильный даунтаун (небоскребы, классика, барокко), а к юго-востоку на фабричные здания и гавань, берега которой были забиты строительными материалами, разгружавшимися с причаленных кораблей и барж. Я приехал к конгломерату больничных корпусов, построенных в стиле конструктивизма, что мне напомнило здание больницы имени Эрисмана, в главном здании которой располагалась кафедра госпитальной терапии. Клинические и научные корпуса преимущественно принадлежали главной больнице штата – Род-Айлэндскому госпиталю, на периферии которого стояло здание акушерско-гинекологической клиники. Это уже было на границе с Южным Провиденсом, где, судя по рассказам знакомых, на улицах было небезопасно. К моменту моего посещения доктора Зингера я освежил кое-какие сведения о селезенке по энциклопедиям, справочникам и публикациям в научной периодике. Селезенка это крупный лимфоидный орган, расположенный в левом верхнем отделе брюшной полости, позади желудка. Она соприкасается с диафрагмой, поджелудочной железой, левой почкой и толстым кишечником. Во внутриутробном периоде селезенка служит одним из органов кроветворения, но после рождения ребенка эту функцию берет на себя костный мозг. У взрослого человека селезенка выполняет несколько функций: фагоцитирует (разрушает и переваривает) старые эритроциты и тромбоциты, а потом превращает гемоглобин в билирубин и гемосидерин. В качестве «самого крупного лимфатического узла» селезенка является главным источником Т– и В-лимфоцитов, которые защищают нас от микроорганизмов при помощи клеточных факторов и антител. К удалению селезенки – спленэктомии прибегают как к единственному эффективному методу спасения больных, и в частности, больных детей при талассемиях (группа хронических анемий, связанных с генетическими факторами, чаще всего у выходцев из Средиземноморья), при тромбопенической пурпуре (резкое снижение числа тромбоцитов), полицетимии (повышенное количество эритроцитов) и др. Вот тут-то и возникает тяжелейшее осложнение спленэктомии – сепсис, причиной которого чаще всего бывает палочка инфлюэнзы – Haemophilus influenzae. Для предотвращения сепсиса прибегали к вакцинам, приготовленным из палочки инфлюэнзы или антигенов (белков), полученных из этой бактерии, то есть пытались активно иммунизировать больных перед операцией спленэктомии. Другие исследователи вводили больным в послеоперационном периоде сыворотки от доноров, иммунизированных различными антигенами, полученными из Haemophilus influenzae. Прибегали даже (чаще в эксперименте) к очищенным антителам, активным в отношении того или иного компонента палочки инфлюэнзы. И конечно же, особенно при нарастании явлений сепсиса, применяли антибиотики, чаще всего ампициллин. Каждый из этих методов (вакцины, антитела, антибиотики) в определенном (невысоком) числе случаев оказывался эффективным. Но отсутствовали четкие экспериментальные данные, полученные на большом числе лабораторных животных.