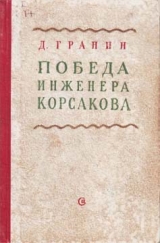
Текст книги "Победа инженера Корсакова"
Автор книги: Даниил Гранин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Согласен, но знаешь, чем питаются заблуждения Арсентьева? Его оторванностью от производства. До тех пор, пока его не столкнут с жизнью, он будет таить в себе вот это лакейское почтение к заграничным клеймам.
Марков усмехнулся.
– Вот видишь, следовательно существует лекарство от этой болезни.
– Пожалуй. Только дозу, согласись, надо прописывать не гомеопатическую. Отстранить его от руководства отделом как минимум.
Широкая спина Михаила Ивановича согнулась еще ниже. Николай понимал, как переживает Михаил Иванович свою близорукость по отношению к Арсентьеву, неудачу Корсакова, всю эту позорную и тяжелую историю с американским регулятором. Ни жалкая растерянность Агаркова, ни полное разоблачение Арсентьева уже не доставляли Николаю никакого удовлетворения. Что бы там ни последовало, а принимали пока все же регулятор Харкера. И виноват в этом прежде всего он, Николай Корсаков.
В это время ему подали записку, он развернул ее и прочел: «Наш компенсатор может быть установлен на „американце“. Не разбирая, прямо снаружи, гораздо проще, чем на нашей модели, потому что скорости здесь меньше ннннаших (далее следовал торопливый чертеж). Качество регулирований улучшится, вопреки пророчествам Арсентьева и К°. Хорошо, что они настолько загипнотизированы Харкером, что не догадываются. Песецкий».
Николай с налета ухватил гениально простой, с точки зрения конструктора, замысел Песецкого, вынул карандаш, рука его нерешительно повисла в воздухе.
«Нет, нет, придется все-таки тебя проучить с твоими секретами, – подумал он, – некоторые породы деревьев выигрывают от обрезания ветвей». Он зачеркнул в записке две последние фразы, надписал сверху: «Тов. Агарков!» Получилось: «Тов. Агарков! Наш компенсатор может быть установлен на „американце“»… и так далее, до слов: «качество регулирования улучшится, вопреки пророчествам Арсентьева», и сразу подпись: «Песецкий». Снова аккуратно сложил ее, для верности еще раз написал наискосок: «Тов. Агаркову» и попросил передать.
Выйдя на лестницу, он расхохотался, предвкушая ярость Песецкого. Потом снова надвинулось непоправимое, совершенно безысходное чувство вины перед всем институтом. Чтобы никому не попадаться на глаза, он остаток дня провел в технической библиотеке. Когда он вернулся к себе, в лаборатории уже никого не было. Регулятор стоял закутанный в чехол, пол был подметен, столы прибраны, только на черной доске остались столбики формул, аккуратно выписанные рукой Арсентьева, – видимо, уборщица не решилась смыть их.
Он не слыхал, как в комнату вошли. Это были Сорокин и Марченко.
– Вот он, столп науки, – сказал Марченко, – к ногам которого я складывал добытые фондированные материалы. Эх, Корсаков, Корсаков!..
– Погоди ты, – сказал Сорокин. – Как же это у вас получилось, Николай Савельевич?
После совещания у директора оба они с энтузиазмом взялись помогать Николаю. То ли проникновенные слова Михаила Ивановича, то ли возможность перещеголять «американца» задели их за живое. Сорокин изворачивался ужом, выкраивая для Николая новые и новые средства. Марченко названивал каждое утро, спрашивал, что еще нужно. Он загонял своих агентов и проявлял чудеса щедрости. Вместо одного комплекта ламп он присылал два – «про запас»; когда Николаю понадобился кусочек кобальтовой стали для магнитной системы, Марченко высмеял его: «Да это разве сталь! Я вам достану „магнико“. Вы знаете „магнико“? Нет, вы не знаете „магнико“, из него магнит в два раза сильнее, чем из кобальта. Михаилу Ивановичу ни гу-гу!» – шептал он, делая страшные глаза.
– Для меня это несущественно, – уверял Николай.
– Как так? Неправильно! – огорчался Марченко. – Чем меньше объем, тем изящней. Про изящество-то вы забыли?
Они оба часто забегали в лабораторию справиться, как идут дела. Ни тот, ни другой никогда до сих пор за сухими сводками выполнения плана, за суматохой снабженческих дел не чувствовали так вещественно своего участия в создании прибора, как на этот раз. Марченко любил заглядывать во внутренность регулятора и горделиво, прищелкивая языком, кричал:
– Вот они где, вольтметровые переключатели, – стоят, молчат и никому не расскажут, чего стоило мне вытеребить их на «Электропульте».
Да, эти люди имели право потребовать у него сегодня ответа.
– Эх ты, простофиля, Корсаков! – все более огорчался Марченко. – Разве плохо получилось бы, если бы ты ничего не сказал комиссии? Приделал бы свою штуку к рабочей модели – и порядок!
– Не слушай его, Николай, – сказал Сорокин, – это кошмарный тип вырождающегося снабженца. При коммунизме таких не будет.
Пытаясь несколько оправдаться за свою неудачу, Николай рассказал про записку Песецкого.
Марченко всплеснул руками.
– Ну и дурак, подарил им компенсатор, шиш бы они у меня увидели. – Он выругался.
Сорокину тоже не понравилось это благородство. Его костлявое, щучье лицо покрылось красными пятнами.
– Я не желаю быть жертвой науки, – шумел Марченко. – Я коммерсант, я вложил сюда свой труд, свой капитал и требую прибыли, я из дела не желаю выходить. Складывать оружие нельзя.
– Чего ты кипятишься, что ты сюда вложил? – высокомерно спросил Сорокин. – Все равно, участь твоя неизменна: доставай, выменивай. Вот у меня другое дело: если регулятор не выйдет в ближайший месяц, все расходы пойдут в прямой убыток.
– А ты дашь денег продолжать работу? – спросил Николай.
Щучье лицо Сорокина еще гуще покрылось пятнами.
– Не твое дело, – буркнул он.
– Если бы ты не был таким костлявым, Сорокин, я бы тебя обнял, – вскричал Марченко. – Нет, серьезно, Корсаков, не вздумай падать духом, этого мы тебе не простим.
– Первая машина пойдет с «американцем», – сказал Николай, и мгновенная, острая жалость стеснила его сердце при этих словах. – Ну, а на второй будет стоять наш с вами регулятор.
– Наш! – повторил Марченко. – Слышишь ты, Кащей бессмертный, наш!..
По предложению Александра Константиновича Попова, компенсатор для американца было поручено рассчитать Семену Родину. Остроумна комбинация Песецкого и ограниченные возможности харперовского образца позволили легко оправиться с расчетом. Передав его через два дня конструкторам, Семен решил рассчитать компенсатор и для регулятора Корсакова. Зная, что Николай отложил расчеты до изготовления компенсатора в мастерской, он хотел приготовить ему сюрприз. Задача оказалась трудной. Углубляясь в теорию регулирования, сталкивая ее с характеристиками корсаковской модели, Семен убеждался, что многое из его прежних взглядов нуждалось в пересмотре. Это были взгляды Арсентьева, укоренившиеся в институте, свившие себе гнездо и в практике заводских расчетов. Истоки их уходили в методику ведущих американских фирм. При больших скоростях они вступали в противоречие с опытом. Семен зарывался в расчеты, отложив свою текущую работу…
Регулятор отвезли на завод, за ним для заключительной наладки уехала бригада Агаркова.
У Семена в натуре, кроме громадного количества взрывчатых веществ и адского трудолюбия, была заложена изрядная доля сантиментальности. Улучив момент, когда Николай отлучился из лаборатории, он положил тетрадку со своими расчетами компенсатора к нему на стол. Наискосок обложки он написал: «Прими от меня не в знак дружбы, – она у нас не нуждается в подарках, – а как помощь в твоей работе». «По ровному месту человек весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, он и поймет тогда, что он сделать может». П. Бажов. Васина Гора.
Дверь его лаборатории приходилась против двери лаборатории Николая. Прислонясь к косяку, он ждал. Матовое стекло скрывало от него коридор, разделяющий их, однако он узнал знакомый звук шагов. Хлопнула дверь. Семен представил себе, как Николай подходит к столу, берет тетрадь, перелистывает ее, как счастливо ерошит свои жесткие курчавые волосы. Что-то защемило в носу. Семен снял очки и, растерянно улыбаясь, потер глаза рукой.
Им достались в вагоне места спиной к ходу поезда.
– Пойдем на площадку, – предложил Николай.
– Это еще зачем? – опросил Семен.
Николай покраснел, наклонился к уху и прошептал:
– Не хочу сегодня смотреть на уходящее, давай смотреть, что бежит нам навстречу, из будущего.
Они вышли в тамбур и, распахнув двери, примостились на подножках вагона. Их продувало со всех сторон ветром, забрасывало паровозной гарью, зато они смотрели вперед. Разорванные клочья дыма нежно окутывали верхушки деревьев, неразлучным спутником скользили волны телеграфных проводов. Молодые березки выбегали из темного леса и забирались по откосу к самой насыпи.
– Если определять срок жизни человека не по числу прожитых лет, а по делам его для народа, то советские люди решают проблему долголетия, – мечтательно заметил Николай.
– Что ты говорил? – спросил Семен, не расслышав.
– Я говорю, – крикнул Николай, – что нам с тобою удалось создать хороший регулятор, и, если бы не ты, моей интуиции грош цена.
– Почему?
– Потому, что мы знаем отныне общий закон для новых регуляторов.
– Ну, это не скоро.
– Как сказать.
– Давай посмотрим ее еще разок.
– Давай.
И они, в который раз, любуются длинной глянцовитой, еще влажной фотографией – это осциллограмма колебаний, заснятая сегодня утром на регуляторе Корсакова после установки компенсатора.
– Покажи ее завтра на партсобрании.
– Обязательно, и я покажу им еще портрет мистера Харкера.
Он осторожно вынимает из бумажника измятую, затрепанную бумажку.
Семен разыгрывает ужас.
– Ты знаешь, он… он перестал улыбаться!
– Еще бы, – смеется Николай, – я ему еще устрою приятное соседство. – И он злорадно укладывает вырезку в бумажник рядом с осциллограммой. – Теперь я могу быть спокоен: мистеру Харкеру есть о чем беспокоиться.
Они долго молчали.
– Семен, если там будет Тамара, я вас познакомлю.
– Судя по твоим рассказам, она мне не нравится, она верхоглядка. – Семен не может говорить спокойно, ему обязательно надо размахивать руками, он чуть не сваливается с подножки.
– Возможно, – отвечает Николай и мысленно договаривает наперекор себе и Семену: «А все-таки я ее люблю».
Они сошли на маленьком, безлюдном полустанке и с трудом отыскали дорогу на полигон. Узкое шоссе ныряло в солнечную зелень рощи. Николай взглянул на часы. Испытания машины Ильичева начались два часа тому назад.
Николай заискивающе попросил:
– Сенечка, милый, давай пробежимся.
– Ты в своем уме? Три километра!
– Всего три тысячи метров! Помнишь физкультуру: три тысячи – пятнадцать минут.
– У тебя плохая память, – обиделся Семен. – Я никогда не посещал физкультуры, у меня было освобождение.
– Ну, ладно, неси тогда мой пиджак.
Николай бежал, набирая ход; просвечивающая через листву солнечная рябь плескала ему в лицо, лизала грудь и руки. Он давно уже не был за городом, и свежий, буйный воздух полей захлестывал дыхание. Николай начал задыхаться, но пересилил себя и продолжал бежать, ожидая второго дыхания. Оно пришло, оно всегда приходит, если не остановишься, не перейдешь на шаг. И вслед за ним возникала радость быстроты, где в легком ритме соразмерны взмах руки и движения ног, где каждый мускул толкает вперед.
На бескрайнем травяном просторе полигона куча людей представлялась издали маленькой, и, лишь приблизясь, Николай различил, как много здесь собралось народу. Он узнал нескольких мастеров из сборочного цеха, инженеров…
Еще не видя ее, он почувствовал, что Тамара здесь. Она стояла вместе с Анной Тимофеевной в плотной толпе, окружившей машину. Он хотел протиснуться к ним, но его окликнули. Он обернулся – ему махал рукой, подзывал к себе Ильичев. Он был в парадном мундире, со множеством орденов. Рядом с ним прогуливались Михаил Иванович, Попов и Агарков. Николай поздоровался со всеми.
– Не уважаешь, опоздал на два часа двадцать минут, – пожурил Ильичев.
– Все в порядке? – спросил вполголоса Николай у Агаркова.
Тот хмуро кивнул головой.
Испытания кончились, комиссия проверила пломбы и снимала показания приборов. Уже стало известным, что регулятор давал возможность набирать скорость не выше, чем на пятнадцать процентов сверх заданной. В машине оставался еще большой, неиспользованный запас возможностей, и настроение у всех было подавленное.
Из-под машины вылез рослый, широкоплечий парень, не разгибаясь стал чистить колени, перепачканные глиной. По ярости, с какой он тер комбинезон, видно было, что его досада относилась к чему-то другому, гораздо более важному. Когда он выпрямился, чтобы поправить сползающий берет, Николай узнал Совкова.
Инстинктивно, не отдавая себе отчета, Николай попятился за Ильичева и Михаила Ивановича. Ему было стыдно и страшно встретиться с Совковым. Но еще постыдней было трусливо прятаться за чужие спины.
Он пересилил себя и подошел к Совкову. Десяток шагов по ровному полю, а тяжелей, чем забираться на крутую гору.
– Здравствуйте!
Совков с минуту стоял неподвижно, видно смиряя накопившуюся досаду, потом сдернул берет и низко поклонился.
– Спасибо вам, Николай Савельевич, от имени всех наших комсомольцев – спасибо. Удружили.
Николай широко улыбнулся. Страх его перед Совковым исчез. Что значили эти обидные слова по сравнению с тем чувством неоплатной вины перед заводом, которую нес на себе Николай со дня неудачной приемки регулятора. Кто мог лучше него самого понять весь позор совершенной ошибки? И то, что он понимал ее и знал, что она никогда не повторится, преисполняло его спокойным сочувствием к словам Совкова. Он был даже доволен, что Совков сердится, – они тем самым становились единомышленниками.
– Правильно, Совков. Цена моей ошибки велика, – сказал Николай, – и я сделаю все, чтобы отквитать ее. Я получил хороший урок, и теперь дело за вами, коллега.
Совков пожал плечами. Интересно, каким, боком его собираются припутать к этой истории?
Пробиваясь сквозь хмурую настороженность, сквозь обиду и недоверие Совкова, Николай пытался передать ему то чудесное простое открытие, которое вздымало его на гребень неведомых доселе мыслей, вздымало слитыми воедино дружескими усилиями Анны Тимофеевны и Ильичева, Маркова и Родина, Михаила Ивановича и Тамары.
– Наука – это знание плюс творчество. Я считаю вас ученым, Совков, с того дня, как вы стали творить. Мы с вами коллеги и не имеем права работать врозь. Наука не кончается в лаборатории – она там начинается. Если бы мы с вами с самого начала работали вместе, мы бы сразу отвергли путь Харкера. Отныне мы должны быть вместе. Мы – это не только Совков и Корсаков.
Совков долго молчал, тщательно вытирая паклей каждый палец.
– Согласен, Николай Савельевич, иначе нельзя, – сказал он и снова нахмурился. – А что же все-таки будет с регулятором?
«Молодец, – подумал Николай, – согласиться он готов, а чтобы поверить – дело ему подавай».
– Пойдемте, – сказал он.
Они вернулись к группе, окружавшей Ильичева.
Стараясь не нарушать торжественности ожидания результатов, Николай тихонько тронул за рукав Александра Константиновича, отвел его в сторону.
– Вот, – хрипло оказал он, подавая осциллограмму.
Александр Константинович томительно долго вглядывался в легкую, сглаженную зыбь кривой. Его лохматые, седые брови поднимались все выше, выжимая новые складки на высоком лбу.
– Ильичев, – зычно крикнул он, – взгляните лучше на будущее, это интереснее.
Он протянул Ильичеву фотографию.
И если бы пришлось пережить еще столько же горьких разочарований, неудач, обид и трудностей, чтобы увидеть такое подлинное высокое счастье на лице Ильичева, – Николай, не раздумывая, согласился бы.
– Сто семьдесят процентов от ТТЗ! Смотря от какого ТТЗ, – загадочно возразил сам себе Ильичев. – Сто семьдесят процентов! – повторил он восхищенно. – Никак нас с тобою, Совков, опять начали обставлять.
– Тише, тише! – закричали кругом.
Оглашались результаты испытаний; потом на лестничку, прислоненную к машине, поднялся Андреев и сдержанно поздравил от имени правительственной комиссии коллектив института. Читая по бумажке, он называл имена Михаила Ивановича, Песецкого, Родина, Анны Тимофеевны, и каждое имя сопровождалось дружными хлопками. Николай жалел, что Семен опоздал и не слышал предназначенных ему аплодисментов.
Михаил Иванович шлепал себя платком по вспотевшему лицу, словно прикладывал пресс-папье к бумаге, и вздыхал:
– Заводские хлопают потому, что тактичные люди, а на самом деле злы на нас, как черти: шутка сказать – десять процентов недотянули.
Николай, слыша его слова, подумал, что, пожалуй, Михаил Иванович прав.
Он не заметил, как к нему подошла Тамара. В ее черных глазах блестели дрожащие капли света.
– Почему они не упомянули тебя? – спросила она. – Это несправедливо, мне Анна Тимофеевна все рассказала, ведь ты…
– Как тебе не стыдно! – сказал он и взял ее за руку.
– Ты не честолюбив, это очень плохо, – печально отозвалась она.
Он, улыбаясь, повел головой.
– Нет, я честолюбив и поэтому не хочу быть выучеником какого-то Харкера.
Она что-то хотела возразить, но на них зашикали.
На лесенку поднялся Ильичев.
– Товарищи просят меня сказать несколько слов, – устало начал он. – Я вместе с вами радуюсь благополучному завершению нашего труда, только давайте на будущее будем больше думать о нем, о будущем. Меня, конструктора, признаться откровенно, вот эта машина, – он стукнул каблуком по корпусу, – интересует как история. Разве это машина? На нашем заводе треть рабочих выполнила план будущего года. Раз они работают в будущем, они должны делать машины будущего. Среди вас есть человек, который бросил мне сегодня вызов, – он сделал регулятор завтрашней машины. Я принимаю его вызов. Директор института Михаил Иванович любит утверждать, что нельзя быть настоящим патриотом родины, если не любишь своего города, своего института, своей работы. Это очень правильно, только я хочу добавить – надо быть патриотом и своего века. На Западе люди вздыхают: «В какое ужасное время мы живем!» А мы с вами любим наш век, он очень трудный, решающий и от этого прекрасный. Именно потому, что наше будущее за нас, мы делаем его настоящим.
Он нагнулся и взял из рук своего заместителя белую папку, поднял высоко над головой:
– Я хотел сегодня торжественно вручить новое ТТЗ Николаю Корсакову, а он сорвал всю церемонию тем, что уже – выполнил его. Ну что ж, я не в обиде за такой подвох. Я желаю всем присутствующим, всему вашему институту шагать своей дорогою, не путаться по чужим следам да тропинкам! Там другие скорости, а нам надо создавать приборы для своих скоростей, чтобы никому не угнаться за нами; да и дороги-то у нас для этих скоростей подходящие. Вы знаете, какие дороги я имею в виду, – дороги к коммунизму!
Николай все ниже опускал голову, избегая обращенных к нему взглядов.
Ильичев легко спрыгнул с лестнички и сразу же подошел к Попову.
– Не слишком ли я захвалил вашего питомца, Александр Константинович?
– Закалка основана на резких изменениях температуры, – пробасил профессор.
На повороте шофер затормозил, нетерпеливо подавая гудки. Впереди, занимая все узкое полотно шоссе, распевая песню, шли двое мужчин и посредине девушка. Они обернулись.
– Тамара, неужели мы их пропустим вперед? – спросил Николай.
Тамара широко расставила руки.
– Как бы не так.
– Нехай едут, – милостиво сказал Семен, – иначе им не угнаться за нами.
– Подвезем их, Михаил Иванович? – спросил Ильичев.
– Этих разбойников с большой дороги? Ни за что! – с угрюмой нежностью ответил Михаил Иванович. – Пусть пешком идут, у них ноги крепкие.
Вариант второй
Рассказ
Профессор Сазонов был тяжело болен. Александр никак не ожидал, что старик согласится дать отзыв о диссертации, больше того – даже сам позвонит ему об этом по телефону. Тут было чему порадоваться. Сазонов считался одним из лучших специалистов в стране по выпрямителям тока.
Профессор жил в трехэтажном доме в глубине старого институтского парка. Дом выходил окнами в поле, где до войны был спортивный стадион института. Здесь все еще напоминало о войне: окоп на теннисной площадке, блиндажи – полуобвалившиеся, густо поросшие сорными травами.
Поднимаясь по лестнице, Александр часто останавливался, читал на дверных медных дощечках знакомые по институту имена – имена людей, которыми гордилась советская наука.
Дом ремонтировали. В лестничный пролет, как в колодец, спускалось на веревке ведро, во все стороны летели брызги жидкого алебастра. Сверху кто-то закричал: «Берегись!», и тотчас внушительный голос ответил:
– Для чего орешь? Ну для чего? Я тебе объяснял, кто здесь живет?
– Объясняли, – уныло согласился мальчишеский голос.
– Может быть, ты какого-нибудь ученого человека с мысли сбил своим криком?
Голос был басистый, зычный, он гудел по всем этажам сверху донизу, и Александр рассмеялся от души. Настроение у него было отличное.
Он застал профессора в кабинете, в глубоком кресле, обложенного подушками. Последний раз они виделись еще зимой, и Александр испугался той перемены, которая произошла с Дмитрием Сергеевичем. Перед ним сидел дряхлый, высохший старик. Он не поднялся навстречу, только попросил извинения, что не может встать. Рука, которую он подал Александру, дрожала. Улыбаясь, некоторое время он наблюдал за смущенным лицом гостя:
– Ну, не будем терять времени, – вдруг сухо сказал он. – Для меня оно теперь весьма подорожало. Что у вас?
Александр попробовал отделаться общими торопливыми фразами. Мысленно он упрекал себя за этот визит, за то, что отягощает больного своими делами, думал только о том, как бы замять разговор, уйти так, чтобы не обидеть старика, не дать ему почувствовать вот этой острой, непроходящей жалости. Между тем Дмитрий Сергеевич заставил его повторить выводы, потребовал подробностей, вопросы его все учащались, и вскоре Александр незаметно для самого себя заговорил так, как может говорить только человек, влюбленный в свою работу.
Он откровенно рассказал профессору о недостатках созданного им прибора. Прибор получился маломощный, кривая выпрямленного тока имела частые пики и провалы. Он рассказал все то, о чем считается совершенно непринятым говорить своему будущему оппоненту и о чем нельзя не рассказать без утайки своему бывшему учителю.
Дмитрий Сергеевич кивнул на диссертацию, и Александр осторожно положил ему на колени еще сырую, пахнущую клеем, в картон переплетенную рукопись. Медленно листал Дмитрий Сергеевич страницы, – каждое движение давалось ему с трудом. И он возражал. Он выговаривал Александру сердито, с тяжелой одышкой; он утверждал, что жалобы его – вздор, что достигнутые им результаты имеют уже безусловную ценность для промышленности.
Потом он рассмеялся:
– Вы не находите, что мы поменялись ролями?
Александр смолчал. Его бросило в краску при мысли, что он может быть заподозрен в желании порисоваться.
Разглядывая в рукописи один из рисунков, Дмитрий Сергеевич вдруг перелистал несколько страниц, заглянул в рукопись дальше и опять вернулся назад. Он точно ловил какую-то ускользавшую от него мысль. Александр знал эту его манеру щурить глаза и потирать пальцами веки.
– Мне помнится, – полузакрыв глаза, неуверенно сказал Дмитрий Сергеевич, – что перед войной некий аспирант Николаев работал над схожей темой. Мне говорил… Да, совершенно верно: покойный Борис Алексеевич рассказывал мне, – он был его руководителем… Судьбы этой работы не знаю. Наверное – неуспех, иначе нам с вами было бы что-нибудь известно… Да, Николаев… Вам эта фамилия ничего не говорит?
– Нет. – Александр впервые слышал о Николаеве. – Где он работал?
Дмитрий Сергеевич назвал специальный научно-исследовательский институт.
– Интересно, – сказал Александр. – Попробую разузнать, в чем дело.
– Конечно, надо разузнать. Чем чорт не шутит, еще найдете что-нибудь полезное, – сказал Дмитрий Сергеевич. – А время у вас есть, пока оппоненты читают, вам – что? Ждать да мучиться!
Он проводил его со смешком, с шуточкой по обыкновению, весь так и заколыхался в своих подушках. Долгий разговор вовсе его не обессилил, напротив: впалые, сухой кожей обтянутые щеки сейчас порозовели. И, уходя, Александр с восторгом и с нежностью думал об этом больном старике, который умирал, сам знал про себя, что умирает, и спешил использовать каждую дарованную ему минуту жизни для своего прекрасного и умного труда.
Эта неумолимая расчетливость во всем, что касалось времени, была для Александра, наверное, ближе и понятней, чем для кого-нибудь другого.
Полтора года тому назад на одном памятном партийном собрании профессор Сазонов первым поддержал выступление аспиранта Александра Савицкого.
В институте некоторые сотрудники любили поговорить о том, что научная работа – это творчество, требующее вдохновенных порывов. Существовало слегка пренебрежительное отношение к «старателям». Считалось, что трудолюбие – удел бесталанных. Александр на собрании привел интересные цифры, – он подсчитал, что примерно две трети своего рабочего времени аспиранты расходовали впустую: на поиски приборов и проталкивание заказов в мастерской, на очереди в столовой, на бесконечные совещания при кафедрах.
– Мы с вами работаем, как старые музейные паровые машины времен Ползунова с коэфициентом полезного действия две десятых. Когда-то Николай Островский сказал чудесные слова о том, что человек должен жить так, чтобы ему не было стыдно за свою жизнь. Мало этого. Мы должны жить так, чтобы не было стыдно ни за один бесполезно растраченный или загубленный день.
После четырех лет, проведенных на войне, время приобрело для Александра особую ценность. Он дал себе слово нагнать эти годы.
Он занимался в трамвае по дороге в институт, занимался за обедом, иной раз даже на совещаниях – украдкой. Кандидатские экзамены были сданы отлично, на четыре месяца раньше срока. Диссертацию Александр закончил, обогнав своих товарищей на полгода.
Последнее время ему иногда приходилось сталкиваться с людьми, которые, в погоне за учеными званиями, наспех, с ножницами в руках, «стряпали» свои диссертации. Спешат «остепениться», – шутил про них профессор, руководитель Александра. А среди аспирантов ходило язвительное двустишие:
Ученым можешь ты не быть,
Но кандидатом быть обязан.
К таким научным работникам Александр испытывал глубокое отвращение. Еще более придирчиво проверял он каждый этап своей работы. Товарищи восхищались тщательностью его экспериментов, – он брал на учет все мелочи, исключал возможность малейшей ошибки. Вот почему упоминание Дмитрия Сергеевича о работах некоего Николаева так заинтересовало Александра. Если этот неизвестный ему аспирант работал в том же направлении, что и он, у него появлялась новая возможность еще и еще раз проверить свои выводы. Так он думал, а вместе с тем в душе его поднималось непонятное беспокойство. Он решил завтра же поехать в институт, где занимался Николаев, и узнать судьбу его работы.
В отделе кадров института Александру сообщили, что аспирант Николаев осенью сорок первого года ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб в боях под Ленинградом. Александр прошел в лабораторию, где работал Николаев. Сотрудники лаборатории помнили одно: покойный их товарищ добился интересных результатов, разрабатывая новый тип выпрямителя, но окончанию его работ помешала война. Никаких письменных отчетов в институте не сохранилось. С началом войны лаборатория перешла на новую тематику, и где уж тут запомнить характер и подробности работ Николаева! Александра эти сведения не могли удовлетворить. Тогда его послали к Галине Сергеевне.
– Она единственная, кто, может быть, в состоянии вам помочь, – сказали ему, и он с удивлением заметил: те, кто ему говорил это, смущались, как будто вынужденные открыть какую-то семейную тайну.
Галина Сергеевна оказалась молодой женщиной с гладко зачесанными черными волосами. Она выглянула из-за дверей лаборатории, куда был «вход посторонним воспрещен», строго осмотрела Александра, попросила подождать.
Бывает так, что отношения двух людей, без всякой видимой причины, определяются с первого взгляда. Александр посмотрел на захлопнутую дверь и пожал плечами, где-то внутри себя удивляясь своей внезапной и несправедливой неприязни.
Галина Сергеевна вышла, спуская на ходу засученные рукава белого халатика. Александр рассказал, что его привело к ней. При имени Николаева лицо ее вспыхнуло и тотчас потухло.
– К сожалению, я плохо разбиралась в теме Анатолия, я по специальности химик, – сказала она резко. – Но все его записки находятся у него дома, у матери. Я могу вам дать ее адрес, – неохотно добавила она.
– Благодарю. Вы точно знаете, что материалы сохранились? – Александр решил не обращать внимания на ее тон.
Галина Сергеевна усмехнулась, некрасиво растягивая губы.
– Да, точно. А что, ваша диссертация закончена? – вдруг спросила она, глядя в сторону.
Он понял ее мысль и смутился.
– Закончена и сдана. Работа Николаева представляет для меня, пожалуй, архивный интерес. Во всяком случае, если я найду там что-нибудь интересное, я не воспользуюсь этим без ссылки на имя ее автора, – добавил он вызывающе.
Теперь смутилась она. Александр взял нужный ему адрес и поспешил распрощаться.
Раздосадованный этой встречей, он хотел было прекратить поиски работы Николаева. Но привычка доводить до конца всякое начатое дело взяла верх. Он ехал по адресу, который дала ему эта неприятная, неприветливая женщина, и сам себе доказывал, что вся эта его затея ни к чему.
До той минуты, пока Александр не увидел Марию Тимофеевну Николаеву, он ни разу не подумал об Анатолии Николаеве как о человеке, который когда-то жил здесь, в этом городе, входил в эту тесно заставленную мебелью комнату, может быть спал вот на этой потертой плюшевой кушетке. Для него Николаев был с самого начала мертв. Ему не приходило в голову, что для Марии Тимофеевны ее сын еще продолжал жить в неиссякаемом материнском горе. Горе, отстоявшееся годами, виднелось в ее выцветших глазах, в мелкой ряби морщин, в навсегда усталых движениях.
Когда Александр, избегая лишний раз упомянуть имя сына, осторожно объяснил ей, зачем он здесь, Мария Тимофеевна, видно, плохо поняв его, спросила:
– Вы знали Толю?
И Александр, снова повторяя историю своего прихода, вдруг подумал о том, что он, действительно, мог быть знаком с Анатолием.
– Я с удовольствием покажу вам его записки, – сказала Мария Тимофеевна. – Тут их целый чемодан. Я, когда меня эвакуировали, возила их за собой всю войну.
Она вытащила из-под кровати старенький, видавший виды, фанерный чемодан и вышла за тряпкой, чтобы обтереть пыль. Александр осмотрелся. В углу у окна стоял небольшой письменный стол, застланный чистой бумагой, прибранный, какой-то безжизненно-аккуратный. Над столом висела фотография. Александр подошел ближе. Худощавое, слегка угрюмое мальчишеское лицо, очень похожее на Марию Тимофеевну, с откинутыми набок светлыми волосами смотрело со стены. На столе, подле чернильного прибора с давно высохшими чернилами, стоял в рамке под стеклом портрет Галины Сергеевны. Александр сразу узнал ее, хотя тут она выглядела совсем молоденькой девушкой и все было другое: прическа, даже черты лица, – мягче, нежнее. Она так приветливо улыбалась Александру, что от его еще свежей обиды не осталось и следа. Александр подошел к этажерке. Почти те же книги, что и у него в шкафу. Курс электромашин, ионные выпрямители, техника высоких напряжений… Нехватало только нескольких новых изданий, выпущенных после войны.



