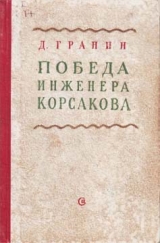
Текст книги "Победа инженера Корсакова"
Автор книги: Даниил Гранин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
На полках, теряясь в полутьме, рядами выстроилась армия приборов. Верные друзья, они приветствовали его возвращение, празднично поблескивая радужными переливами призм, воинственным сверканием латунных клемм, винтов, благородными бликами полированных футляров.
Как в настоящей армии, здесь были передовые отряды разведчиков – безответные работяги в потрепанных, расцарапанных коробках: простые амперметры, омметры, логометры, магазины сопротивлений, мосты, – они первыми вступали в бой, прощупывали, уточняли обстановку. Потом им на помощь спешили точные миллиамперметры, осциллографы, электрометры. И уже в разгаре сражения поднимались с атласных подушек важные, высшего класса точности гальванометры, фотометры, эталоны, потенциометры.
Если бы ты знала, Тамара, про увлекательную романтику каждодневных битв, разыгрывающихся в тиши лабораторий! А сколько поэзии таилось в метком и красочном техническом языке! Стоило только вслушаться в причудливые сочетания слов – шлейф осциллографа, каскад усиления или следящая система, коронный разряд, ливни электронов… – Из таких слов слагаются: поэмы!.
И если бы перевести сейчас на этот высокий язык его мысли, они, примерно, звучали бы так:
«…Одну строку в этой поэме должен написать я. И вовсе не для того, чтобы оправдаться перед тобою или завоевать твою любовь. Может быть, нам не суждено встретиться больше. Мне просто хочется, чтобы мы с тобою с каждым днем становились счастливее…»
На белом листе бумаги методично, один за другим выстраивались шалашики. Ровный строй лагерных палаток, скучный и однообразный. Карандаш чертил их, не допуская никаких отступлений. С каждой фразой Николая на бумаге прибавлялся новый шалашик.
Знакомая и, в сущности, безобидная привычка Арсентьева сейчас мешала сосредоточиться.
«Хоть бы придумал что-нибудь другое», – раздраженно подумалось Николаю.
Когда он кончил говорить, Арсентьев аккуратно подвел тоненькую черту под шеренгой шалашиков.
– Во-первых, я не могу принять на себя решение, – начал он ровным голосом, – столь серьезного вопроса, имеющего скорее административный, чем технический, характер и выходящего поэтому за пределы моей компетенции. – Карандаш поставил римскую цифру I, обвел ее скобкой и передвинулся на строчку ниже.
– Во-вторых, мнение мое, предварительное, повторяю – предварительное, складывается так: «А» – ТТЗ выполнено. Подождите, – карандаш предупредительно приподнялся, – возможно, это для вас является моментом формальным, но ведь и его надо учитывать; «Б» – ваше предложение представляет самостоятельную тему, со всеми последствиями относительно средств и времени, и «В» – я до сих пор имел основание надеяться, что вы стремитесь вернуться к вашей прежней теме. Поэтому я предполагал оставшиеся мелочи поручить Анне Тимофеевне и Песецкому, а вам буквально с завтрашнего дня дать возможность продолжать работу с Родиным.
Он приподнял веки и, отечески улыбаясь, напомнил.
– Я-то ведь попрежнему беспокоюсь за вашу диссертацию. Вам давно, давно пора, – смотрите, Агарков обгоняет вас.
Николай недоумевал: «Что это он – в самом деле заботится или угрожает?»
Поблагодарив Арсентьева, он напомнил, что если институт не решится отказаться от американского образца, то подведет весь коллектив Ильичева.
– Ильичев также сторонник нового варианта.
– Каждый должен, прежде всего, заботиться о чести своего коллектива. Взявшись сгоряча за вашу модель, мы можем опозорить институт.
– Леонид Сергеевич, почему вы не верите, что мы оправимся с ней? Ведь вы смотрели мои наброски и не нашли никаких принципиальных возражений.
Тень снисходительной улыбки пробежала по лицу Арсентьева.
– Вы желаете знать, почему я не верю? Пожалуйста! Фирма Сперфи существует пятьдесят лет, это превосходная фирма, вы пользовались ее приборами и могли убедиться. Она не могла создать до сих пор совершенный регулятор высоких скоростей. Фирмы с мировым именем «Д. Е.», «Е. С.» безуспешно бьются над этим вопросом последние годы. Будьте уверены, они не так-то просто уступают рынок своим конкурентам. Что, вы думаете, там в лабораториях сидят идиоты? Вы недооцениваете наших противников, Я знаю сам, что в теории мы во многом идем впереди. Но техника приборостроения… – Арсентьев огорченно пожал плечами. – Я ученый и считаю себя обязанным смотреть на вещи объективно.
– Леонид Сергеевич, если бы даже и существовали на свете объективные ученые, то я не хотел бы быть в их числе. Я пристрастен к нашей науке. Я объясняю ваше неверие…
– Преклонением, – тонко усмехнулся Арсентьев. – Чрезвычайно ходкий термин.
– Нет, это причина, а следствие хуже – беспринципность. Вас беспокоит только то, что, признавая негодность изготовленного регулятора, вы ставите под сомнение свой авторитет начальника отдела.
Ничего не изменилось на замороженном лице Арсентьева, только карандаш дернулся, разрывая бумагу.
– Признателен вам за столь любезный психологический анализ, и коль скоро для вас мой авторитет померк, то продолжение нашего спора можете перенести к главному инженеру. Кстати, если вы вдумаетесь в ситуацию, то поймете, что при этом прежде всего пострадает авторитет непосредственного руководителя бригады.
Николай настоял перед Поляковым, чтобы вопрос решался в присутствии Анны Тимофеевны и Песецкого; он не считал себя вправе обойти их, они были заинтересованы в судьбе прибора не меньше его.
Арсентьев пригласил также Агаркова, аспиранта, занимавшегося вопросами регулирования…
На протяжении всего рассказа о своем посещении завода Николай очень волновался. Хотелось передать ощущение напряженного груда, описать цех, залитый огнями сварки и прожекторов, стоящую посредине цеха «дедусю», и этот выкрашенный красным суриком «приливчик», ожидающий их регулятор, огорченное лицо Ильичева, – добиться того, чтобы слушатели ощутили весь великолепный взлет мыслей сотен советских инженеров, затаенный в каждой детали машины. И он не находил слов. Язык казался беспомощным, выражения бедными, тусклыми; чудесная картина оставалась невидимой для слушавших его людей.
«Отвезти бы их туда, что ли», – с тоской подумал он. Он приколол к стенке чертеж скелетной схемы своего прибора, положил перед Поляковым расчеты, календарный план, спецификацию. Не избегая сомнительных мест, он честно предупредил о предстоящих трудностях. Взглянув на старательно записывающего что-то в блокнот Арсентьева, он подумал, что, может быть, не следовало раскрывать целиком своих карт, и решил заранее отпарировать возражения Арсентьева.
– Ни одна заграничная фирма не была поставлена перед необходимостью создания регуляторов больших скоростей, потому что там не существует машины Ильичева или ей подобной, – сказал он, глядя в упор на Арсентьева. – Там могут, конечно, сделать такой регулятор, но вы правы, Леонид Сергеевич, им нужны для этого годы, а мы можем сделать его за месяцы. И знаете почему? Потому что у нас это дело не трех, четырех, пятнадцати фирм, хотя бы и конкурирующих между собой. У нас это дело прежде всего нашей ответственности перед страной, перед партией, перед будущим всего нашего народа и каждого из нас.
– Это уж из области агитации, – шепнул Арсентьев Агаркову так явственно, что все услышали.
– Ну, что скажете, товарищи? – удрученно спросил Поляков. Видно было, что необходимость вмешаться в это запутанное дело крайне тяготила его.
Песецкий шумно вздыхал, яростно грыз ногти и что-то быстро-быстро шептал на ухо Анне Тимофеевне. Агарков, придвинув к себе листки расчетов, недоверчиво перелистывал их.
– Разрешите мне, – сказал Арсентьев. Умело вкрапливая в свою речь осторожные оговорки, – «как я могу судить», «насколько мне кажется», «если позволите утверждать», – он похвалил намерение Корсакова. Сделал он это так, что от слов его всем стало неудобно, точно он вынужден был оправдать какую-то глупую выходку своего проказливого ученика.
Впечатление это усилилось при упоминании о сомнительных местах. Собственно, это были сомнения самого Николая. Тем не менее, старательно собрав их вместе, Арсентьев сумел создать впечатление удручающее. В его изложении они звучали настолько серьезно, что заслонили собой всякую надежду на успех. Арсентьев притворно пытался было замазать некоторые из них, но делал это нарочито неумело и сам сконфуженно разводил руками.
Он оперировал словами самого Николая, искусно перекраивая их по-своему, окрашивая другой интонацией.
Это был явный противник, и злиться на него было неразумно. Наоборот, следовало учиться у него выдержке и спокойствию, хотя приемы он употреблял некрасивые.
– Какой прохвост! – сквозь зубы твердил Николай. – Какой прохвост!
Совершенно неожиданный удар нанес Николаю Песецкий. Он утверждал, что регулятор Харкера можно приспособить для больших скоростей, – если не на двадцать пять процентов, то, во всяком случае, на десять-пятнадцать процентов выше заданной. Он горячо и обиженно упрекал Николая во вредном оригинальничаньи и прямо заявил, что последнее время Корсаков забросил руководство работами.
Его слушали сочувственно. Даже Николай понимал, что значило для Песецкого зачеркнуть всю свою выдумку, все свое изобретательство, вложенное им в регулятор.
Красивое лицо Песецкого побледнело, он перегнулся через стол, к Николаю.
– Вы, вы сами виноваты! Сегодня предлагаете одно, завтра другое. Почему вы за все время не поделились с нами вашими опасениями? Сами заварили кашу, а мы расхлебывай. Как вам не стыдно!
Поляков успокаивающе постучал по мраморному стаканчику письменного прибора. Закинув ногу на ногу, Агарков добродушно заметил:
– Может быть, и впрямь займемся старым регулятором?
– А что, если на заводе добьются увеличения скорости не на пятнадцать, а на тридцать процентов? – тихо опросила Анна Тимофеевна.
Поляков потер переносицу.
– Дорогая Анна Тимофеевна, как говорят – «если бы, да кабы»… Давайте смотреть на вещи практически. Мне звонил Ильичев; толком он сам еще не знает, какой процент увеличения получится. Просит подождать недельку. Если мы пойдем на поводу у заказчика, то с каждым объектом у нас будет получаться такая ерунда. Для нас ТТЗ – государственное задание. Мы его выполнили? Выполнили. И досрочно. Зачем же мы будем лишать институт права отрапортовать министру? – Он замялся. – Тут еще одно щекотливое обстоятельство, – как известно, полагается премия за досрочное окончание темы. Бригада премию заслужила. Как прикажете с премией?
Вопрос был настолько неуместен, что всем стало неловко.
– Об этом не стоит беспокоиться, Пал Палыч, я лично отказываюсь! – угрюмо сказал Песецкий.
– Хорошо, хорошо, – согласился Поляков. – Допустим, мы уладим все эти щепетильные дела. Остается самое серьезное, то, о чем говорил Леонид Сергеевич, – и он стал долго и нудно доказывать нереальность затеи Корсакова. – Поймите меня, ради бога, правильно, Николай Савельевич! Я не могу насильно заставить работать с вами людей, не верящих в ваш успех. Речь идет о репутации каждого. Пока что, все это, – он кивнул на чертежи, – отсебятина, пусть полезная, умная, но отсебятина. Поэтому я бессилен помочь вам.
– Я лично наотрез отказываюсь участвовать в этой авантюре, – сказал Песецкий.
Поляков укоризненно замотал головой:
– Ну зачем так? – Он не переносил грубостей.
Николай с надеждой обернулся к Анне Тимофеевне.
– А вы?
Она, опустив голову, молчала, кончики ее ушей жарко горели.
Что мог обещать ей Николай? Новую лихорадку поисков, изнуряющие расчеты до поздней ночи, немыслимые сроки? А дома, наверное, все запущено, дети без присмотра… Как понимал он ее слабость в эту минуту! И, несмотря на всю свою жалость, он не мог простить ей измены, как не прощал он ни Песецкому его обиды, ни Полякову его нерешительности, ни Агаркову его равнодушия. Он видел перед собой одно: сборочный цех, и посередине, на бетонном постаменте, в серебристой паутине лесов – машину.
– Хорошо, – сказал он, – я берусь изготовить регулятор сам, мне не нужен никто, оставьте мне только моего лаборанта.
Агарков удивленно поднял брови. Арсентьев захлопнул блокнот и со спокойным удовлетворением сказал:
– Теперь это действительно похоже на авантюру. Я снимаю с себя какую-либо ответственность.
Поляков долго почесывал карандашом за ухом, что-то прикидывая и взвешивая.
– Понимаете, Леонид Сергеевич, – сказал он, – Ильичев меня очень просил помочь Корсакову, ну, и я ему обещал. Так и быть, – он вздохнул, – все последствия беру на себя. Надо уметь рисковать, чорт возьми!
В коридоре Агарков взял Николая под руку.
– Вы поступили опрометчиво, Николай Савельевич. Видали, как ухватился Поляков? Ему только этого и надо было. Теперь при любом исходе он окажется прав. Не выйдет у вас – скажет: самонадеянный мальчишка, я дал ему все возможности, а он… или, еще того лучше, скажет: я знал, что так и будет, поэтому не дал ему людей.
Николай устало отмахнулся.
– А, бог с ним!
Агарков доверительно рассмеялся.
– Вы знаете, в институте уже ходит загадка: чем американский дипломат отличается от Полякова? – тем, что первый вмешивается в дела чужих государств, а второй не вмешивается даже в дела института.
Николай не утерпел.
– Что вы балагурите теперь, а на совещании молчали?
– Да очень просто, бесхитростная душа, – действие равно противодействию. У Арсентьева воспаленное самолюбие, и он член ученого совета, у меня через два месяца защита диссертации, а ваше предложение по-настоящему талантливо, – вот и молчал.
Николай остановился, выдернул руку и, склонив голову набок, обмерил Агаркова сверху донизу оценивающим взглядом.
– Я вас могу представить себе кандидатом, даже доктором, но ученым – да еще советским – никак!
Узнав о совещании у Полякова, Марков решительно вмешался, круто повернув результаты в пользу Корсакова.
Работа включалась в план опытных исследований, получала все официальные права к шла независимо от заказа, работу над которым теперь возглавлял Агарков.
Николай почувствовал себя твердо на ногах и после недолгого совета с Юрой принял решение – закончить регулятор к первому августа. Они предъявят его государственной комиссии, и тогда будет видно, чья модель лучше!
Семен Родин застал Николая спящим. Он разбудил приятеля.
– Ну, выкладывай, – строго сказал Семен.
Николай послушно рассказал о последних событиях. У Семена вспотели очки, он снял их, чтобы протереть стекла, и, близоруко моргая, спросил:
– Что же ты теперь будешь делать, горячая ты голова?
– Что сказал, то и – буду.
Семен надел очки и с интересом посмотрел на товарища.
– Безумство храбрых. Ты серьезно намерен взяться в одиночку за прибор?
– Да.
– И уложиться в срок?
– Попробую.
– Эгоист. Ты жаждешь прославиться.
– Я меньше всего помышлял об этом.
Они помолчали.
– Послушай, Николай, а диссертация, значит, по боку?
Николай вспомнил Агаркова, кулаки его сжались.
– А ты предлагаешь мне вступить в сделку с совестью ради славы кандидата?..
– Ну, ну, успокойся. Я, конечно, не иду ни в какое сравнение с Ильичевым, но все же ты подводишь меня. И крепко. Я так построил нашу работу, чтобы оставить тебе ряд вопросов. Арсентьев предупредил меня, что ты с завтрашнего дня вернешься. Как раз из твоей области – помнишь, у нас не сходились данные… – Загоревшись, он стал вводить Николая в курс своих дел. Обняв колени и вглядываясь в стеганый узор одеяла, Николай вызывал в памяти полузабытые формулы и даже кое о чем порасспросил Семена, но, встретив его настороженно-лукавый взгляд, словно обжегся.
«Эге, да ты хитер, брат, – подумал он с неприязнью, – думаешь, расставил мне западню?»
– Есть такая старая сказочка, про колобок, – расхохотался Николай, – я от бабушки ушел и от дедушки ушел, а от тебя, серого волка, подавно уйду.
Семен даже не улыбнулся.
– Из истории известно, что самонадеянный колобок все же попался лисе в пасть. Поэтому я тебе советую – займись пока диссертацией. Время докажет твою правоту. Успех Ильичева возродит прибор. Как говорят: мало родиться великим, надо родиться во-время.
– Ловко. Сперва я подожду машину, потом машина меня. Удобно, нечего сказать.
– Любой поступок следует рассматривать с точки зрения максимума своей отдачи. Ты гораздо больше сможешь сделать, заканчивая нашу тему, чем ковыряясь в одиночку над этим прибором.
Николай зевнул.
– Меня не переубедишь. И оставь, пожалуйста, свой назидательный тон, а то получается второе, дополненное очками, издание Арсентьева.
Семен надулся, отошел к этажерке, стал перебирать книги; разговор долго не клеился.
– Что у тебя за перемена знака в отношении к Леониду Сергеевичу? – спросил Семен, не утерпев. – Ведь он, по сути, желает тебе только добра, даже если он насильно тянет тебя туда, где, ему кажется, лежит твое призвание.
Николай посуровел; медленно, с натугой выговаривая каждое слово, сказал:
– Арсентьев добрый, как же! От его доброты я чуть не задохнулся. Вот к американцам он добрый, это точно.
– В этом ты как будто прав – надо подумать. Но мне кажется, что в тебе играет нездоровое авторское самолюбие. Как так, мою модель не признают! Вот ты и лезешь на стенку.
– Чего же тут нездорового? Так и надо. Грош цена тому изобретателю, который только придумывает.
– Все-таки я не понимаю, при чем тут Арсентьев? Предположим, речь шла бы не о регуляторе Харкера, а о регуляторе какого-нибудь Петрова из Свердловского политехнического института. Тогда как?
– Тогда Арсентьев не рекомендовал бы мне его, а наоборот, заставил бы сто раз проверить, пересмотреть, отыскал бы в нем уйму недостатков. «Если Петров из Свердловска может, то чем мы хуже его?» – рассуждал бы наш почтенный воспитатель. Вот почему меня и бесит Арсентьев. Он прекрасный специалист и, может быть, действительно по-своему заботится обо мне, но он превратил меня в умиленного слепого щенка. Жаться к ногам хозяина и хлебать теплую бурду из заморских подачек? – Николай шумно передохнул, успокаивая себя. – Поэтому все его положительные качества обращаются против него. Какой бы большой плюс ни умножить на минус, будет минус. Мы выбрали себе плохого учителя, Семен.
В спорах своих они часто отвлекались, забывали главный повод, и всякий раз Николаи спохватывался первый.
– Да, я виноват перед Песецким, Анной Тимофеевной, Ильичевым, но больше всех перед заводом в том, что польстился на заморскую дешевку, обрадовался легкому пути. Машина должна выйти с наивысшей скоростью. Ради одного лишнего процента скорости я готов пожертвовать чем угодно. Все оправдается. Ты представляешь себе, какие возможности открывает каждый лишний процент?!
Он силой усадил Семена к столу и, загибая пальцы, перечислял ему эти возможности, потом вытащил из кармана пиджака потрепанную на сгибах бумажку.
– Вот, смотри. – Он развернул и расправил вырезанную из журнала фотографию, – Мистер Харкер, заведующий лабораторией фирмы «Сперфи». Наши советские ученые уже заставили харкеров изучать русский язык и рыться в наших журналах, и я вовсе не желаю быть печальным исключением; пусть они ищут там и мои статьи, пусть они копируют мой регулятор и бродят по моим следам. Помнишь у Маяковского:
Почему под иностранными дождями
вымокать мне, гнить мне и ржаветь?
…………………………………………………..
В зеленом свете луны причудливо изгибались завитки папиросного дыма. Маленькая комната расширилась, стены запрятались в темноте, корешки книг на полках заиграли новыми, необычайными цветами. Серебряное стало голубым, коричневое – багряным, желтое – розовым, все приобрело глубину, мерцали стеклянные грани чернильницы, стопки бумаг на столе отсвечивали, как куски зеленоватого льда.
Как странно все меняется в жизни! Наступает какой-то момент, неуловимый поворот – и старые друзья расходятся по разным дорогам. А какая из них правильная? Николай распахнул окно, сел на подоконник. Свежий ночной ветер трепал волосы. В мглистой дали пустынной улицы мелькали синие вспышки дуги последнего трамвая. Где-то неподалеку заплакал ребенок – и снова тишина.
В сущности, Семен замечательный парень. Он отдает все свои силы работе и стремится к тому же, что и Николай. Значит, дело в путях. Можно итти вперед разными путями? Разве самый верный путь – это самый короткий? Пожалуй, да, если только в понятие «короткий» вложить и расстояние, и время, и затраты, и будущее. Вот, например, строя линию передачи, выбирают прямую трассу, хотя бывает, что быстрее и легче и дешевле обойти какое-нибудь болото стороной, но зато в будущем потери электроэнергии съедят всю мнимую выгоду такого обхода. А иногда надо обойти болото, чтобы опора стояла надежно, на твердом грунте. Какой путь верен?
Для того чтобы при всей любви к родине отдать ей максимум того, что имеешь, для того чтобы каждое твое дело, решение было нужным и правильным, – для этого партия учит на опыте своей борьбы, на жизни своих вождей мудрой науке наук – большевизму!
Вот компас!
Владея им, незачем ждать, что кто-то за тебя разберется, подскажет тебе путь, – ты можешь делать свое дело сам, не прячась за чужую спину, не боясь риска, не давая отвлечь себя мелкими, старенькими, чужими интересами – карьеры, денег, славы… К иным чувствам, к иному миру, к иному счастью ведет этот компас.
Если привык вставать в восемь часов, то очень трудно заставить себя подниматься в шесть утра. Тем более, что на работу нужно к девяти. Единственный способ: проснулся – броском прыгай с кровати. Стоит потянуться, почувствовать уютную лень нагретых простыней – и сон опять навалится, утащит за собою в мягкое тепло подушки. Нет, нет, проснулся – и сразу прочь одеяло. Босой еще, подпрыгивая на холодном линолеуме, можешь радоваться, что выиграл у времени еще два часа.
А счет шел не на часы, а на минуты. У Николая и раньше были периоды напряженной работы, но они не шли ни в какое сравнение с нынешним. Даже при условии исключительных удач выпустить одному за полтора месяца новый прибор было делом неслыханным.
Николай пересмотрел свой обычный рабочий день, отыскивая в нем запасы времени. Прежде всего он сократил сон до пяти часов. На дорогу в институт и обратно тратилось час двадцать минут. Стоя на остановке, в ожиданий трамвая, он мысленно проверял намеченный им сегодня план работ, а входя в трамвай, вынимал свои записи. На обратном пути он просматривал графики, полученные за день. Он возвращался домой в десять вечера и до часу ночи обрабатывал – материалы опытов. Первое время он засиживался до трех, до четырех часов, иной раз засыпая за столом, и назавтра у него болела голова и вяло путались мысли. Тогда он установил жесткий режим – ложиться в час, вставать в шесть, утро посвящать самым сложным расчетам, работать даже за едой. Только над сном своим он не был властен.
Втягиваясь в размеренный ритм труда, он испытывал все меньше утомления.
Начав с расчетов, он вскоре убедился, что избрал неверный путь. Для того чтобы полностью определить нужные данные, приходилось прибегать к ряду допущений, многие из которых были сомнительны и заставляли его мысль разветвляться на варианты, те в свою очередь расщеплялись на новые, и к концу недели в этом густом сплетении ветвей и веточек затерялась главная линия – ствол. Все это время Юра слонялся без дела, – помогать в расчетах он не мог, а материалов для лабораторной работы еще не было. Тогда Николай избрал другой метод. Подобрав основные данные, он ставил опыт, уже на стенде прощупывая и уточняя свои расчеты, доводя их до предельной точности. Такая система требовала исключительной тщательности и навыка. Во время одного из испытаний у Николая сгорела виброустановка, сложный и дорогой прибор, единственный в институте.
Арсентьев вызвал его и потребовал представить схему опыта. Николай показал свои расчеты, и Арсентьев наглядно доказал! (как это было теперь легко!), что величину погрешности можно было предусмотреть и не допустить перегрузки.
– Просто не знаю, как отныне доверять вам прецизионные приборы, – сказал Арсентьев, задумчиво рассматривая остро отточенный карандаш.
Николай пересилил свой стыд и досаду.
– Леонид Сергеевич, я заверяю вас, что подобная оплошность со мной случилась в первый и последний раз.
Арсентьев двумя пальцами снял пушинку с рукава, дунул на нее и с любопытством проследил за ее полетом.
– Не знаю, не знаю, Николай Савельевич, наука не любит торопливости. Напишите объяснительную записку главному инженеру; посмотрим, что он решит. Удивительное совпадение, – многозначительно добавил он. – Виброустановка нужна была для окончательных испытаний Песецкому.
Николай поспешно вышел, красный от унижения и незаслуженных подозрений.
В стенгазете появилась гневная заметка Агаркова, нового руководителя группы, полная ядовитых намеков, и карикатура: витающий в облаках дыма от горящих моторов виброустановки Корсаков с мечтательным выражением на лице.
История с виброустановкой сыграла роль и в отношениях с Песецким. Он стал сухо раскланиваться с Николаем, стараясь не выказывать своего растущего интереса к новой работе. Анна Тимофеевна, чувствуя, что Николай не простил ее слабости на совещании у Полякова, тоже избегала прежнего своего руководителя. Агарков вел себя с подчеркнутым недружелюбием. Заказы Корсакова в мастерские подписывались Арсентьевым в последнюю очередь, заявки в отдел снабжения залеживались у него по нескольку дней.
Юра, возмущенный несправедливостью начальника отдела, скоро перессорился со всеми сотрудниками. На каждом шагу он видел тайные козни. Конечно, при своем добродушном характере, он мог бы помириться со всеми ка следующий день, но не делал этого, воображая, что поддерживает Николая.
Десятки больших и малых препятствий возникали ежедневно перед Николаем, и как он ни старался, все же наступал момент, когда он вынужден бывал обратиться к начальнику отдела.
Арсентьев выслушивал его с приторной вежливостью.
– Чертежи? – переспрашивал Арсентьев, вздыхая. – Боюсь, что вам придется подождать, пока освободится Нина. Она ведь занята у Агаркова.
Николай облизывал пересохшие губы.
– Леонид Сергеевич, Нина свободна. Ей сейчас нечего делать.
– Не знаю, возможно. Во всяком случае, она может понадобиться Агаркову в любую минуту. Вы не обессудьте, Николай Савельевич, для меня на первом месте дело, заказ, а потом уже личные стремления сотрудников, опытные работы и прочее.
Николай оставался на вечер и чертил сам. Все эти помехи только пуще подстегивали его волю. Успеть, во что бы то ни стало успеть. Всесокрушающая сила его настойчивости вскоре захватила даже самых равнодушных. Нина упросила его доверить ей эскизовку и принималась за нее после работы, засиживаясь до поздней ночи. Куда девалась ее капризная придирчивость! Она беспрекословно принимала торопливые карандашные наброски Николая, за которые бы раньше был поднят скандал. Что уж тут говорить о Песецком! Его любопытство сменилось раскаянием. Он клял себя за свое прошлое поведение. Только какое-то глупое мальчишеское самолюбие удерживало его от того, чтобы первому сделать шаг примирения. Он ловил Юру в коридорах и словно невзначай выведывал, у него, как идут дела. Он понимал, что надежда успеть у Корсакова была ничтожной, переживал это и старался украдкой помочь чем только мог. Николай ничего этого не замечал. Он видел только одно: груды, груды несделанной работы. Он подсчитывал: оставшееся время, и перед ним все явственнее возникала грозная опасность – не успеть, не кончить в срок…
Через день после приезда из Москвы Михаил Иванович затребовал у Корсакова проект регулятора. Незадолго до этого у Николая состоялся разговор с Марковым. Николаи приятно удивился, что история с виброустановкой гораздо меньше интересовала Маркова, чем состояние работ над регулятором. Марков был по специальности инженер-вакуумщик, и многие вопросы автоматики давались ему с трудом. Он досадовал и по нескольку раз переспрашивал Николая, стараясь вникнуть в самую суть трудностей. Николай отвечал скупо, не желая, чтобы Марков подумал, что он жалуется; но даже простое перечисление пройденных этапов, преодоленных препятствий, – ошибок, ложных ходов, удачных комбинаций, маленьких и больших открытий было ему приятным. За последние две недели Николаю не приходилось ни с кем, кроме Юры, делиться впечатлениями об их работе. Ему хотелось сейчас самых сухих слов: одобрения или даже, наоборот, упреков либо спора с кем-нибудь до хрипоты.
Глаза Маркова мечтательно прищурились, он слушал Николая со все возрастающей непроизвольной восторженностью. Почувствовав в нем искреннее волнение инженера, Николай уже более не сдерживался и поделился своими тайными опасениями:
– Слишком новый принцип, ежедневно всплывает столько вопросов, что захлебываюсь. Приходится ряд выводов принимать на веру, – некогда проверить, рассчитать. Эх! – махнул он рукой. – А сколько я был вынужден отбросить интересных вариантов, оставить необъясненными кучу явлений… А тут еще всякие козни Арсентьева… – при воспоминании о начальнике отдела кулаки Николая сжались.
Марков поморщился и, никак не выразив своего мнения, без всякой видимой связи с разговором, предложил Николаю сделать на предстоящем партсобрании доклад «Об отношении к заграничной технике в институте».
– Я сознательно ограничиваю тему, хотя она дает возможности очень широкой ее трактовки, – сказал он. – Например, об истоках, так сказать о движущих силах технического творчества там, на Западе, и у нас. – Он пристально смотрел прямо в лицо Николаю.
– Мне сейчас очень трудно со временем, – сказал Николай.
– Прикиньте, – возможно, вам в результате собрания станет легче и со временем и с другими вещами, – заметил Марков.
– Возможно, – согласился Николай. – Но ведь это не решение вопроса!
Марков прищурился одним глазом, словно прицелился:
– Какого вопроса?
Николай больно закусил губу. Ну что ж, в конце концов он был слишком многим обязан Маркову, чтобы скрывать от него что-либо. Марков был именно тем человеком, с которым можно было объясниться начистоту, не щадя своего самолюбия. Просто, без всяких обиняков, он рассказал о своих опасениях не уложиться во-время, к первому августа. Может, он переоценил свои силы, может быть… Словом, положение еще можно поправить, если ему немедленно помочь.
Нелегко далось ему это слово. В запальчивости он наговорил много лишнего, припомнив поведение Анны Тимофеевны и Песецкого…
Марков сидел спокойный, и Николай видел – все то, что он говорит, уже известно Маркову во всех подробностях.
– Помощь мы вам, конечно, окажем, – после долгого молчания сказал Марков, – теперь ясно, что ваш регулятор имеет право быть не опытом, а заказом. Насчет Арсентьева положение тоже становится ясным, а вот остальные ваши обвинения – чепуха! Вы должны прежде всего винить самого себя, а не ваших товарищей!



