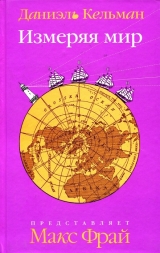
Текст книги "Измеряя мир"
Автор книги: Даниэль Кельман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Он тоже хочет путешествовать, признался Гумбольдт.
Форстер кивнул. Многие хотят. И все потом раскаиваются.
Почему?
Потому что никто потом не может вернуться назад.
Форстер дал ему рекомендательное письмо в горную академию во Фрейберге. Там учил Абрахам Вернер, утверждавший, что внутренности Земли холодны и тверды. Горы-де образовались вследствие химических выпадений на месте схлынувшего первобытного океана. Пламя вулканов исходит вовсе не из самых глубоких недр, оно питается горящими залежами угля, а само ядро Земли представляет собой твердую породу. Это учение звалось нептунизмом; его осуждали обе церкви и Иоганн Вольфганг Гёте.
Во фрейбергской часовне Вернер заказывал мессы во спасение души своих врагов, пока еще отрицающих истину. Однажды он сломал нос какому-то сомневающемуся студенту, а другому, с тех пор прошло уже много лет, откусил ухо. Вернер был одним из последних алхимиков – членом тайных лож, знатоком символов, коим повинуются демоны. Он мог восстановить разрушенное: из пепла и дыма то, что сгорело; из растертого в порошок то, что имело твердую форму. Доводилось ему и беседовать с чертом, и делать золото. При всем том Вернер не производил впечатления человека интеллигентного. Принимая Гумбольдта, он откинулся в кресле и спросил, сомкнув веки, нептунист ли он и верит ли в то, что недра земли пребывают в хладе.
Гумбольдт заверил, что это так.
Ну, тогда ему следует еще и жениться.
Гумбольдт покраснел.
Вернер, надув щечки, подмигнул заговорщицки и поинтересовался, есть ли у него милашка.
Все это только помехи, заметил Гумбольдт. Жениться можно лишь в том случае, если не собираешься достичь в жизни чего-то существенного.
Вернер вперился в него взглядом.
Так принято считать, быстренько вставил Гумбольдт. Разумеется, это несправедливо!
Неженатый мужчина, заявил Вернер, никогда еще не былхорошим нептунистом.
Гумбольдт проскочил его академический курс за четверть года. С утра он шесть часов проводил под землей, после обеда слушал лекции, по вечерам и до полуночи готовился к занятиям следующего дня. Друзей он не завел, а когда старший брат пригласил его на свадьбу – он-де нашел женщину, посланную только ему, каких больше нет в мире, – Александр вежливо уклонился, написав, что у него нет времени. Он ползал по самым глубоким шахтам и делал это до тех пор, пока не приручил свою клаустрофобию – не отступившую совсем, но ставшую привычной, вполне терпимой болью. Он всюду измерял температуру Земли: чем глубже спускаешься, тем она выше – вопреки теориям Абрахама Вернера. Гумбольдт заметил, что и в самой непроглядной тьме подземелья наличествует еще какая-то вегетация. Жизнь, казалось, не кончается нигде, всюду можно обнаружить еще какой-то мох или вздутия чахлых растений. Ему от них делалось не по себе, а потому он тщательно их срезал, исследовал, распределял по классам, о чем написал работу. Спустя много лет, обнаружив подобные растения в пещерах захоронений, он знал, с чем имеет дело.
Александр завершил свое образование и получил мундир. Его он должен был носить, где бы ни появлялся. Должность его называлась асессор горного департамента. Ему и самому совестно, писал он брату, что все это доставляет ему такую радость.
Несколько месяцев спустя Александр фон Гумбольдт считался уже самым надежным инспектором горного дела в Германии. Его проводили по шахтам, торфяным разработкам, ему показывали печи королевских фарфоровых мануфактур; и всюду он пугал рабочих той стремительностью, с какой делал какие – то записи. Он всегда был в пути, почти не спал и не ел, и сам не мог понять, что с ним происходит. Сидит в нем что-то такое, писал он своему брату, что заставляет его опасаться за свой рассудок.
Случайно ему в руки попалась книга Гальвани об электричестве и лягушках. Гальвани присоединил к отрезанным лягушачьим ляжкам пластинки разных металлов, и лягушатина задергалась как живая. Оставалась ли в ляжках лягушки какая-то жизнь или то были внешние движения под воздействием разности металлов, вызывавших сокращение мышц лягушачьей плоти? Гумбольдт решил выяснить, в чем тут дело.
Он снял сорочку, лег на кровать и велел слуге наклеить ему на спину два пластыря для кровопускания. Слуга повиновался, на коже Гумбольдта вздулись два больших волдыря. А теперь пусть он взрежет эти волдыри! Слуга замешкался, Гумбольдт прикрикнул на него, и бедняге пришлось взять в руки скальпель. Он был так остр, что боли от пореза Гумбольдт не почувствовал. Кровь капала на пол. Гумбольдт приказал приложить цинк к одной из ран.
Слуга спросил, нельзя ли обождать какое-то время, мол, ему совсем худо.
Гумбольдт приказал не валять дурака. Едва серебряная пластина коснулась второй его раны, как по спине до самой шеи пробежали разряды боли. Дрожащей рукой он пометил: musculus cucularis,затылочная кость, продолжающиеся покалывания в области позвоночника. Действие электричества, несомненно! Еще раз серебро! Он насчитал четыре разряда, в равные промежутки времени; после чего предметы вокруг него стали терять свой цвет.
Очнувшись, он увидел, что слуга сидит на полу: лицо бледное, руки в крови.
Продолжим,сказал Гумбольдт, ужаснувшись собственному открытию: что-то внутри него испытывало странное наслаждение. Давай лягушек!
Ну, нет!сказал слуга.
Гумбольдт спросил, не желает ли он поискать себе новое место.
Слуга возложил четырех тщательно препарированных лягушек на кровоточащую спину господина.
Но это всё, заявил он, в конце концов, мы – христиане!
Гумбольдт, не слушая, приказал снова подать серебро! Разряды возобновились. При каждом из них, он это видел в зеркале, лягушки подпрыгивали как живые. Он впился зубами в подушку, наволочка намокла от его слез. Слуга истерически похохатывал. Гумбольдт хотел сделать запись, но руки его не слушались. Он с трудом поднялся. Из двух ран текла жидкость, растравляя кожу. Гумбольдт хотел собрать немного жидкости в колбочку, но распухшее плечо не дало ему повернуться. Он взглянул на слугу.
Тот помотал головой.
Ладно, смирился Гумбольдт, тогда пусть слуга ради Всевышнего позовет поскорее врача! Он вытер лицо и подождал, пока снова сможет владеть руками, чтобы что-нибудь записать. Разряды тока возникли, он это почувствовал, и источником электричества было не его собственное тело и не тело лягушки, а химическая враждебность металлов.
Нелегко было втолковать врачу, что же здесь произошло. Слуга на той же неделе отказался от места, рубцы на теле остались, а работа Гумбольдта о проводимости живых тканей принесла ему славу в научных кругах.
Похоже на помешательство, писал ему старший брат из Йены. Однако следует помнить, что есть моральные обязательства и перед собственным телом, каковое не есть просто вещь среди других вещей; прошу тебя, приезжай! Шиллер хотел бы с тобой познакомиться.
Ты не понимаешь меня, отвечал ему Гумбольдт. Я открыл, что люди готовы постигать превратности и невзгоды, однако не добиваются многого, потому что боятся боли. Кто же решится испытать боль, тому откроются вещи, которые… Он отложил перо, потер плечо и скомкал бумагу. Вот мы с тобой братья, начал он новый лист, отчего я вижу в этом великую загадку? В том, что мы каждый по себе и все же нас двое, что ты таков, каким я не должен быть, а я такой, каким ты не можешь быть; что мы обречены на то, чтобы вместе избывать существование, оставаясь друг другу ближе всех прочих людей, хотим мы того или нет. И отчего я предчувствую, что от нашего величия не останется и следа, что исчезнет всё, чего бы мы ни достигли, будто ничего и не было, и что наши имена, соединившись опять воедино, померкнут?На этом он остановился и разорвал лист на мелкие клочки.
Чтобы обследовать растения во фрейбергских шахтах, Гумбольдт изобрел шахтерскую лампу: огонек от газовой горелки, которая давала свет и там, где не было воздуха. И это его едва не погубило. Он спустился в еще не исследованную пещеру, поставил там свою лампу – и вскоре потерял сознание. Уже умирая, он увидел перед собой сплетения тропических растений, превращавшихся у него на глазах в извивающиеся женские тела; вскрикнув, он пришел в себя. Испанец по имени Андрее дель Рио, бывший соученик по фрейбергской академии, нашел его и вытащил на поверхность. От стыда Гумбольдт едва нашел в себе силы пролепетать слова благодарности.
За месяц упорной работы он придумал респиратор: из пузыря с воздухом две трубочки вели к дыхательной маске. Закрепив на теле сей прибор, он спустился вниз. С окаменевшим лицом перенес начавшиеся галлюцинации. И лишь тогда, когда стали подкашиваться колени, а свечной огарок начал казаться пламенем пожара, Гумбольдт открыл вентиль и, злорадствуя, наблюдал, как женщины снова превращались в лианы, а лианы – в ничто. Несколько часов он пробыл в холодной тьме. А когда снова выбрался на свет божий, ему вручили письмо от Кунта, призывавшее Александра к смертному одру матери.
Как и полагается в таких случаях, он вскочил на первую же лошадь, какую смог достать. Дождь хлестал его по лицу, плащ развевался на ветру, дважды он свалился с седла наземь. Прибыл небритым, чумазым, нарочито задыхаясь – ибо догадывался, как следует выглядеть при такой оказии. Кунт кивнул ему с одобрением; они вместе сидели потом у постели матери, наблюдая, как страдание превращает ее лицо в нечто чужое. Чахотка сожгла ее изнутри, щеки впали, подбородок удлинился, нос неожиданно заострился, кровопускания ее измождили. Пока Гумбольдт держал мать за руку, день, посерев, перешел в вечер, и посыльный принес письмо от брата – с извинениями: мол, крайне неотложные дела в Веймаре. Когда наступила ночь, мать вдруг выпрямилась и стала что-то хрипло выкрикивать. Снотворное не помогало, второе кровопускание также не принесло успокоения; и Гумбольдт все никак не мог понять, что же понуждает мать вести себя противу всяких приличий. Ближе к полночи ор ее стал совсем уж несдержан, он исторгался откуда-то из самых глубин ее тела, и причем казалось, будто старуха испытывала от этого высочайшее наслаждение. Александр ждал с закрытыми глазами. Лишь через два часа она стихла. На рассвете мать пробормотала что-то неразборчивое, а когда солнце поднялось повыше, взглянула на своего сына и заметила, что ему надо держаться прямее, нельзя быть таким нескладехой. Потом голова ее отвернулась, глаза остекленели; впервые в жизни Александр увидел мертвое тело.
Кунт положил ему руку на плечо. Никому не дано измерить, насколько дорога ему была эта семья.
Почему же, возразил Гумбольдт таким тоном, словно ему кто-то суфлировал, он знает это и никогда не забудет.
Кунт издал растроганный вздох. Теперь он знал, что будет и впредь получать свое жалованье.
После обеда слуги видели Гумбольдта расхаживающим взад-вперед перед замком, по всхолмиям вокруг пруда; язык высунут, голова запрокинута в небо. Таким они его еще никогда не видели. Должно быть, говорили они друг другу, это потрясло нашего господина. И впрямь: Александр никогда еще не был так счастлив.
Спустя неделю он оставил свою должность. Министр не мог этого понять. Такой высокий пост в юные годы, а уж перспективы! В чем же дело?
Дело в том, что всего этого ему слишком мало, отвечал Гумбольдт. Невелик росточком, но прям, стоял он, опустив плечи, перед столом своего начальника. И еще в том, что ему пора отправляться в путь. Глаза его светились.
Для начала он поехал в Веймар, где старший брат представил его Виланду, Гердеру и Гёте. Последний приветствовал Александра как своего соратника. Всякий ученик великого Вернера ему друг.
Он собирается путешествовать по Новому Свету, сказал Гумбольдт. Об этом он еще никому не говорил. Никто не сможет его удержать, однако он не рассчитывает на то, что вернется живым.
Гёте взял его под руку и через анфиладу выкрашенных в разные цвета комнат подвел к высокому окну. Великое начинание, сказал он. Особенно важно обследовать вулканы, дабы подтвердить теорию нептунизма. Под землей не горит огонь. Природные недра вовсе не представляют собой кипящую лаву. Лишь поврежденные умы могут порождать такие нелепые мысли.
Гумбольдт обещал взглянуть на вулканы.
Гёте скрестил руки за спиной. И он никогда не должен забывать, от кого он туда прибыл.
Гумбольдт не понял.
Он должен помнить, кто послал его. Гёте повел рукой в сторону пестрых комнат, полных гипсовых слепков римских статуй, за которыми слышалась теперь приглушенная мужская беседа. Старший брат Гумбольдта разглагольствовал о преимуществах белого стиха, Виланд внимал, поддакивая, а Шиллер, расположившись на кушетке, украдкой позевывал. От нас вы туда прибудете, сказал Гёте, отсюда. И за морем вы останетесь нашим посланником.
Гумбольдт проследовал далее в Зальцбург, где запасся самым дорогим набором наиточнейших приборов, какими кто-либо когда обладал. Два барометра для измерения атмосферного давления, гипсотермометр для определения точки кипения воды на различных высотах, теодолит для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов, зеркальный секстант для определения высоты звезд во время морского плавания, складной карманный секстант, инклинатор с магнитной стрелкой для определения силы земного магнетизма, волосяной гигрометр для измерения влажности воздуха, эвдиометр для определения количества кислорода в воздухе, лейденская банка для улавливания электрических зарядов, цианометр для измерения цвета ясного дневного неба. А вдобавок к сему еще две пары неслыханно дорогих часов, что недавно стали изготовлять в Париже. Они обходились без маятника, секунды отмеряли неслышно, благодаря упрятанным в корпус пружинам. Если обращаться с ними осторожно, они не отклонятся от точного парижского времени; кроме того, установив угол солнцестояния над горизонтом, можно с их помощью и по таблицам определить градус долготы.
В Зальцбурге Гумбольдт задержался на год, непрестанно упражняясь. Изучил тут все окрестные холмы, каждый божий день измерял атмосферное давление, картографировал магнитные поля, исследовал воздух, воду, землю и небесную синеву. Он научился так раскладывать и собирать инструменты, что мог делать это вслепую, стоя на одной ноге, под дождем или посреди коровьего стада, над которым кружила туча мух. Местные жители считали Гумбольдта придурком. Но и к этому, как он знал, тоже нужно было привыкнуть. Как-то раз он целую неделю ходил с рукой, привязанной к спине, – чтобы привыкнуть к неудобству и боли. Поскольку мундир стеснял его в движениях, он заказал себе другой, в котором даже спал и по ночам. Вся штука в том, чтобы ко всему быть готовым, толковал он своей квартирной хозяйке и просил подать ему еще одну кружку зеленоватой сыворотки, от которой его воротило.
Лишь после всего этого Александр отправился в Париж, где его брат вел свободную жизнь, воспитывая по собственной строгой системе своих гениальных детей. Невестка своего нового родственника терпеть не могла. Она заявляла, что Александр внушает ей ужас, говорила, что его деловитость кажется ей формой безумия, да и весь он представляется ей неким карикатурным слепком с ее супруга.
Что ж, с этим нельзя, пожалуй, не согласиться, отвечал ей муж, поясняя, что, мол, ему и самому всегда нелегко давалось опекать младшего брата: приходилось удерживать его от разного толка благоглупостей и быть для него чем-то вроде пастыря.
В академии Гумбольдт читал лекции о проводимости нервной системы человека. Он был среди тех, кто собрался под моросящим дождем на истоптанном газоне близ Парижа, дабы измерить последний отрезок долготы, соединявшей столицу с Северным полюсом. По завершении сего действа все сняли шляпы и пожали друг другу руки: одна десятимиллионная часть расстояния, выполненная в металле, станет отныне эталоном всех будущих измерений длины. Ее решено было назвать метром. Гумбольдта и всегда-то переполняли чувства, когда что-либо измерялось, а на сей раз он словно опьянел от энтузиазма. Несколько ночей не мог спать от волнения.
Он навел справки относительно предстоящих экспедиций. Некто лорд Бристоль собирался в Египет, но потом попал в тюрьму: его уличили в шпионаже. Гумбольдт узнал, что Директория намеревается послать в южную часть Тихого океана отряд исследователей под руководством великого Бугенвиля; однако Бугенвиль давно порос мохом, полностью оглох, недвижно сидел в кресле и бормотал что-то себе под нос, пытаясь распоряжаться, но никто не мог понять, чего именно и от кого он хочет добиться. Когда Гумбольдт отвесил Бугенвилю поклон, он благословил его жестом епископа и взмахом руки велел удалиться. Директория заменила его офицером Боденом. Тот принял Гумбольдта с учтивостью и дал массу обещаний. Вскоре, однако, скрылся вместе с той суммой, которую предоставило ему государство.
Однажды вечером Гумбольдт, возвратившись домой, по нечаянности наступил на руку какому-то молодому человеку, который пил шнапс из серебряной фляги, расположившись на ступеньках его дома. Молодой человек осыпал его громкой бранью, Гумбольдт извинился; между ними завязалась беседа. Молодого человека звали Эме Бонплан, и он тоже собирался в путешествие с Боденом. Лет ему было двадцать пять, он был высок ростом, довольно неопрятен, на лице несколько оспин, а спереди не хватало одного зуба. Они вгляделись друг в друга, и потом, спустя годы, никто из них двоих не мог сказать, промелькнуло ли в их душе предчувствие, что именно этот человек когда-нибудь станет для тебя куда более важным, чем любой другой, или так им только будет казаться в воспоминаниях.
Он родом из Ла-Рошели, рассказывал Бонплан, и низенькое небо тамошней провинции всегда воспринимал как тюремную крышу. Все мечтал вырваться оттуда, стал даже военным врачом, однако университет отказал ему в дипломе. Наверстывая упущенное, он занялся ботаникой, полюбил тропические растения, а теперь вот не знает, что ему делать. Только не назад в Ла-Рошель, лучше уж смерть, чем это!
Гумбольдт спросил, можно ли его обнять.
Нет, испуганно вскочил Бонплан.
У них одинаковое прошлое за спиной, заявил Гумбольдт, и одинаковые интересы, и если они объединятся, то кто сможет их остановить? Он протянул ему руку.
Бонплан не мог ничего понять.
Они могут отправиться в путешествие вместе, пояснил ему Гумбольдт, ему нужен спутник, а деньги у него есть.
Бонплан внимательно поглядел на него и закрутил крышку фляги.
Они оба молоды, сказал Гумбольдт, полны решимости, и вместе достигнут всего. Или Бонплан в том сомневается?
Бонплан сомневался, но воодушевление Гумбольдта действовало заразительно. Потому-то, а еще потому, что невежливо было оставлять человека с протянутой рукой, он встал и протянул ему навстречу свою ладонь – и едва не закричал от боли: рукопожатие Гумбольдта оказалось куда более крепким, чем можно было ожидать от этого маленького человека.
А что теперь?
Теперь в Испанию, отвечал Гумбольдт, куда же еще!
Братья простились церемонно, как двое монархов. Александр смутился, когда локоны невестки коснулись его щеки в миг прощального поцелуя. Увидятся ли они еще когда-нибудь, спросил он.
Наверняка, ответил старший брат. В этом или том мире. Во плоти или во свете Господнем.
Гумбольдт и Бонплан оседлали коней и отправились в путь. Бонплан с изумлением отметил, что его спутник ни разу не оглянулся на невестку и брата, хотя те смотрели им вслед, пока они не скрылись из вида.
На пути в Испанию Гумбольдт измерял каждый холм. Взбирался на каждую гору. Отколупывал куски породы от каждой скалы. Напялив кислородную маску, спускался на дно каждой пещеры. Случалось, местные жители, заметив, как он разглядывает солнце сквозь окуляр секстанта, принимали путешественников за язычников-звездопоклонников и забрасывали камнями, так что им приходилось, вскочив в седла, спасаться бегством. Два первых раза обошлось, на третий Бонплан заработал жестокую рану от удара камнем.
Он начал роптать. Зачем все это нужно, спрашивал он, ведь они здесь только проездом, им же надо в Мадрид, и они очутились бы там куда раньше, дьявол их побери, если бы просто скакали туда.
Он сожалеет, но это не так, отвечал Гумбольдт, подумав. Холм, о котором неизвестно, как он высок, оскорбляет разум и лишает его спокойствия. Не определяя постоянно свое местоположение, человек не может продвигаться вперед. Нельзя оставлять на обочине ни одну загадку, как бы мала она ни была.
Теперь они стали продвигаться ночью, чтобы Гумбольдт мог беспрепятственно делать свои измерения. Следует уточнить координаты на карте, ибо карты Испании не точны. Надо ведь знать, куда скачешь.
Да они и так это знают, вскричал Бонплан. Вот дорога, она ведет в Мадрид. Что еще нужно!
Речь не о дороге, отвечал Гумбольдт. Речь о принципе.
Ближе к столице Испании дневной свет принял серебристый оттенок. Вскоре почти не стало деревьев. Срединная часть Испании вовсе не впадина, сказал Гумбольдт. Географы опять ошибаются. Она представляет собой, скорее, возвышенное плато, а в доисторические времена была островом, выступающим из древнего моря.
Что ж, сказал Бонплан, делая глоток из своей фляги. Островом так островом.
В Мадриде правил первый министр Уркихо. Все знали, что он спит с королевой. Король был рохля, собственные дети его презирали, вся страна над ним потешалась. Мимо Уркихо не проскочишь, ибо доступ в колонии закрыт для иностранцев, исключений еще не бывало. Гумбольдт наносил визиты прусскому, бельгийскому, нидерландскому и французскому посланникам. По ночам он учил испанский.
Бонплан спросил, спит ли он вообще когда-нибудь.
Когда можно без этого обойтись, то нет, отвечал Гумбольдт.
Через месяц ему удалось добиться аудиенции у Уркихо в Королевском дворце Аранхуэс. Упитанный министр был сама нервозность и погруженность в дела. То ли что-то напутав, то ли потому, что слышал когда-то о Парацельсе, он принял Гумбольдта за немецкого врача и первым делом спросил о средстве, повышающем потенцию.
Что такое?
Министр отвел Гумбольдта в темный угол каменного зала, положил ему руку на плечо и шепотом повторил свой вопрос. Не в удовольствии дело. Его власть над страной зависит от его власти над королевой. А ведь она не юная девушка, да и сам он не молодой человек.
Гумбольдт, часто моргая, глядел в окно. В ослепительно белом свете солнца с небывалой симметрией простирались куртины парка. Из мавританского фонтанчика лениво била посверкивающая струя.
Предстоит еще много сделать, продолжал Уркихо. Инквизиция пока достаточно сильна, до уничтожения рабства путь весьма долгий. Интриганов полно. Если говорить откровенно, неизвестно, сколько он еще продержится. Ясно ли он выразился?
Сжав кулаки, Гумбольдт медленно прошествовал к письменному столу Уркихо, окунул гусиное перо в чернила и написал рецепт. Хининовая кора из долины Амазонки, экстракт мака из Центральной Африки, сибирский мох и легендарный цветок из путевого альбома Марко Поло. Смесь крепко взварить, принимать после третьего процеживания, пить медленными глотками через день. На сбор всех трав уйдут годы. Не без колебаний протянул он листок Уркихо.
Никогда еще иностранцев не снабжали такими документами. Барону фон Гумбольдту и его ассистенту следовало оказывать всяческое содействие. Всюду предоставлять кров, обращаться с почтением, допускать в любое место, какое их заинтересует, и перевозить на всех судах испанской короны.
Теперь бы только прорваться сквозь английскую блокаду, сказал Гумбольдт.
А чего это тут вставлено слово ассистент? спросил Бонплан.
Кто их знает, рассеянно сказал Гумбольдт. Должно быть, по недоразумению.
А нельзя ли изменить?
Вряд ли это здравая мысль, заметил Гумбольдт. Такие паспорта – всё равно что дар небес. Их не обсуждают, с ними отправляются в путь.
Они сели на первый же фрегат, отходивший из Ла-Коруньи в тропические земли. Дул сильный западный ветер, корабль набрал скорость. Гумбольдт сидел на палубе на складном стульчике. Свободу он ощущал небывалую. К счастью, записал он в своем дневнике, ему неведома морская болезнь. И тут его сразу и вырвало. Но это всего лишь вопрос воли! С предельной сосредоточенностью, только изредка отвлекаясь, чтобы перегнуться через поручни, он исписал три страницы – о переполнявших его чувствах при отплытии, о ночи, спустившейся на море, и о тающих вдали огоньках побережья. До самого утра он простоял рядом с капитаном, наблюдая за его навигационными изысканиями. А потом извлек свой собственный секстант. К обеду он стал покачивать головой. А в четыре часа пополудни спросил капитана, почему тот работает столь неточно.
Так он работает уже тридцать лет, отвечал капитан.
При всем уважении, заметил Гумбольдт, это не может его не удивлять.
Он ведь делает это не ради математики, возразил капитан, ему надо переплыть океан. А для этого достаточно держаться примерно определенной широты и рано или поздно попадешь куда надо.
Но как можно жить, спросил Гумбольдт, впавший в некоторое раздражение из-за борьбы с тошнотой, если точность ничего не значит?
Еще как можно, сказал капитан. А кому не нравится, тот может и за борт. У них свобода на корабле, тут никто никого не держит.
Неподалеку от Тенерифе в визир им попало морское чудовище. Далеко-далеко, почти сливаясь с горизонтом, оно вздымало свое змеевидное тело ввысь, обозначая в воздухе два кольца и взирая на них своими похожими на драгоценные камни глазами, четко различимыми в окуляры. С морды его свисали бородой тонкие, как волос, волокна. Уже буквально через несколько секунд после того, как видение исчезло под водой, оно всем стало казаться миражом. Должно быть, газы, заключил Гумбольдт, или дурная пища. Он решил ничего об этом не записывать.
На два дня корабль встал на якорь, чтобы пополнить припасы. Прямо в порту их окружила группа продажных женщин; они тянули к путешественникам руки, хихикая, ощупывали все подряд. Бонплан чуть было не удалился с одной из них, но Гумбольдт резко окрикнул его, призвав к порядку. Одна из женщин, стоя сзади, голыми руками оплела и его шею, расплескав свои волосы по его плечам. Александр хотел высвободиться, но одна из ее серег зацепилась за застежку его мундира. Все женщины стали смеяться, Гумбольдт не знал, куда девать руки. Наконец она все-таки отпрыгнула от него, ухмыляясь, Бонплан тоже растянул было рот в улыбке, но, взглянув на мину товарища, вмиг посерьезнел.
Вон там вулкан, сказал Гумбольдт, с трудом сдерживая раздражение, времени в обрез, некогда канителиться!
Они наняли двух проводников и отправились в гору. За каштановой рощей потянулись заросли папоротника, а потом пошла песчаная полоса, поросшая дроком. Гумбольдт измерил высоту по методу Паскаля – определив атмосферное давление воздуха. Переночевали они в пещере, еще наполненной снегом. Коченея от холода, они устроились поближе к входу. Маленькая продрогшая луна застыла на небе, по временам над ними сновали летучие мыши, острая тень горной вершины падала на гряду облаков внизу.
Весь Тенерифе, объяснял Гумбольдт проводникам, представляет собой всего одну только гору, выступающую из моря. Разве вам это не интересно?
Говоря по правде, заметил один из них, не очень.
На другое утро выяснилось, что и проводники дороги не знают. Гумбольдт спросил, доводилось ли им бывать здесь наверху.
Нет,ответил один из них. А зачем?
Осыпь щебня на подступах к вершине преодолеть было трудно; всякий раз, как они соскальзывали, камни с грохотом неслись вниз, в долину. Один из проводников не удержал равновесия и разбил бутылки с водой. Мучаясь жаждой, с кровавыми ссадинами на руках, они взобрались наконец на вершину. Кратер вулкана остыл столетия назад, дно его было покрыто застывшей лавой. Обзор тут был великолепный – было видно Пальму, Гомеру и объятые дымкой горы Лансароте. Пока Гумбольдт с помощью барометра и секстанта производил свои измерения, проводники отдыхали, присев на корточки и недружелюбно посматривая на него, а Бонплан, поеживаясь от холода, обозревал дали.
Под вечер, изнемогая от жажды, они добрались до садов Оратавы. Гумбольдт не мог оторвать глаз от растений тропического мира. Вид косматого паука, гревшегося на солнышке на стволе пальмы, наполнил его душу ужасом счастья. А потом он увидел драконово дерево.
Он обернулся, но Бонплан куда-то исчез. Дерево было гигантским, оно насчитывало, должно быть, несколько тысяч лет. Оно росло здесь еще до испанцев и до аборигенов. Стояло здесь еще до Христа и Будды, Платона и Тамерлана. Гумбольдт поднес к уху часы. Как они, тикая, хранили в себе время, так это дерево отражало его натиск: временной поток разбивался о него, как о скалу. Гумбольдт потрогал потрескавшуюся кору. Где-то далеко вверху разбегались в разные стороны ветви, голоса сотен птиц наполнили воздух. С нежностью провел он рукой по древесным морщинам. Всё стало тленом – люди, звери, все-все. Все, кроме него одного. Он прижался щекой к дереву, потом отпрянул, озираясь: не видел ли его кто-нибудь. Быстро вытер слезы и отправился на поиски Бонплана.
Француз? Рыбак у причала показал рукой в сторону деревянной хибары.
Гумбольдт открыл дверь и увидел голую спину Бонплана, склонившуюся над голой коричневой женщиной. Он захлопнул дверь и припустил на корабль. И не подумал остановиться, заслышав, как сзади его бегом догоняет Бонплан; не сбавил он шага и когда тот, поравнявшись с ним, с переброшенной через плечо рубашкой, со штанами в руках, стал просить у товарища прощения.
Гумбольдт заявил, что если еще раз случится что-нибудь подобное, он будет считать их сотрудничество прекращенным.
Да ладно уж, тяжело дыша, оправдывался Бонплан, напяливая на ходу рубашку. Ну, приспичит иной раз человеку, разве это так трудно понять? Ведь и Гумбольдт мужчина!
В ответ Гумбольдт призвал его помнить о той, с которой помолвлен.
Да нет у него никого, сказал Бонплан, влезая в штаны. Ни с кем он не помолвлен!
Человек – не животное, заметил Гумбольдт.
Ну, не всегда, возразил Бонплан.
Гумбольдт спросил, доводилось ли ему читать Канта.
Французы иностранцев не читают.
Он не намерен дискутировать на эту тему, сказал Гумбольдт. Еще раз что-нибудь подобное, и пути их разойдутся. Бонплан способен это понять?
Боже правый, простонал Бонплан.
Способен ли он это понять?
Застегивая штаны, Бонплан пробормотал что-то невразумительное.
Несколькими днями позже корабль пересек тропик. Гумбольдт отложил в сторону рыбу, плавательный пузырь которой он как раз рассекал при тусклом свете коптилки, и перевел взгляд на четко очерченные звезды Южного Креста. Созвездия нового полушария, лишь отчасти вошедшие в атласы. Другая сторона Земли и неба.
Неожиданно они попали в стаю моллюсков. Встречное движение их красных масс заставило корабль пятиться. Бонплан выудил парочку этих созданий. И почувствовал себя как-то странно, по собственному признанию. Что-то тут не так, сказал он.








