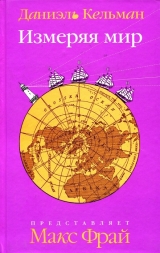
Текст книги "Измеряя мир"
Автор книги: Даниэль Кельман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ПЕЩЕРА
За полгода в Новой Андалусии Гумбольдт обследовал все, что не имело ног или не испытывало страха, чтобы убежать от него. Он описал цвет неба, температуру молний и толщину ночного инея, он изучил птичий помет, обследовал сотрясения Земли и спускался в пещеру мертвых.
Он жил вместе с Бонпланом в белом деревянном домике на краю города, недавно разрушенного землетрясением. Да и теперь еще толчки по ночам не давали людям толком поспать, вот и сейчас, когда он лежал, затаив дыхание, можно было услышать какое-то дрожание глубоко внизу. Гумбольдт копал ямы, опускал термометры на длинных веревках в колодцы и выкладывал горошины на кожу барабанов. Землетрясение скоро повторится, сообщал он с воодушевлением. От города останутся одни руины.
По вечерам они ужинали у губернатора, потом купались. Стулья выставлялись прямо в реку, сидя на них в легкой одежде, они оказывались посреди быстрого течения. Мимо то и дело проплывали небольшие крокодильчики. Какая-то рыба откусила однажды три пальца на ноге племяннику вице-короля. Мужчина, его звали дон Ориендо Казаулес и у него были огромные усы, вздрогнул и несколько секунд ошалело смотрел прямо перед собой, прежде чем – скорее удивленно, чем испуганно – извлек из окрасившейся кровью реки свою ногу, ставшую неполноценной. Озираясь, будто искал что-то, он свесился вдруг набок, но Гумбольдт успел его подхватить. На ближайшем корабле бедняга отбыл назад в Испанию.
Нередко к ним заглядывали женщины: Гумбольдт считал вшей в их заплетенных волосах. Они приходили группками, хихикали, посмеиваясь над этим маленьким мужчиной в мундире и с лупой в левом глазу. Бонплан страдал от их красоты. Он спрашивал, на что может сгодиться статистика вшей.
Всё нужно знать, потому что люди хотят всё знать, отвечал Гумбольдт. Никто еще не исследовал наличие этих неистребимых насекомых на головах жителей тропиков.
Неподалеку от их дома с молотка продавали людей. Мускулистые мужчины и женщины с цепями на ногах, пустыми глазами смотрели на землевладельцев, которые ковырялись у них во рту, заглядывали им в уши и, опустившись на колени, щупали их задний проход. Покупатели трогали подошвы их ног, дергали за нос, проверяли, в порядке ли волосы, ощупывали пальцами их гениталии. По большей части они уходили потом, так никого и не купив, эта отрасль коммерции находилась в упадке. Гумбольдт купил троих мужчин и велел их расковать. Они не поняли зачем. Теперь они свободны, передал им Гумбольдт через толмача, и могут идти на все четыре стороны. Они тупо уставились на него. Свободны! Один из них спросил, куда же им идти? Куда хотите, отвечал Гумбольдт. Он дал им денег. Все трое с недоумением попробовали монеты на зуб. Один из них сел на землю, закрыл глаза и не шевелился – так, будто ничто в мире его не интересовало. Гумбольдт и Бонплан удалились под насмешливые взгляды окружающих. Несколько раз они оборачивались, но никто из обретших свободу не смотрел им вслед. Вечером начался дождь, а ночью город потрясло новое землетрясение. На следующие утро трое мужчин исчезли. Никто не знал, куда, и никто не встречал их больше. Во время следующего аукциона Гумбольдт с Бонпланом оставались дома, работали за закрытыми ставнями, а наружу вышли только, когда все закончилось.
Дорога к миссионерам вела через джунгли. На каждом шагу попадались незнакомые растения. Казалось, земли не хватает для всей этой поросли: деревья жались друг к другу, одно растение налезало на другое, лианы били по головам и плечам. Монахи из миссии встретили их дружелюбно, хотя и не могли понять, что вновь прибывшим от них нужно. Настоятель качал головой: что-то тут не так! Никто не отправляется на другой конец света, чтобы измерить то, что ему не принадлежит.
Жизнь крещеных индейцев в миссии строилась на основе самоуправления. У них был и свой комендант из индейцев, свой шериф и даже ополчение, и поскольку индейцы не бунтовали, то им давали жить так, будто они свободны. Они ходили голыми, только у некоторых имелись какие-то вещи, неизвестно как к ним попавшие: у кого шляпа, у кого чулок, пояс или закрепленный на плече эполет. Гумбольдту понадобилось некоторое время, чтобы сделать вид, что он ко всему этому привык. Ему неприятно было смотреть на волосяной покров у женщин в самых разных местах; это казалось ему несовместимым с их естественным достоинством. Однако когда он поделился этим своим наблюдением с Бонпланом, тот так хитро посмотрел на него, что Гумбольдт покраснел и голос его осекся.
Недалеко от миссии, в пещере ночных птиц, обитали мертвые. Поскольку с пещерой этой были связаны старые-престарые легенды, местные жители отказались их туда сопровождать. Только после длительных уговоров с ними согласились пойти два монаха и один индеец. То была одна из самых больших пещер на всем континенте, дыра размером шестьдесят футов на девяносто, через которую проникало так много света, что они, даже пройдя сто пятьдесят футов, все еще двигались по траве и под деревьями. Только после этого им пришлось зажечь факелы. И тут же начали раздаваться крики птиц.
Птицы жили во тьме. Тысячи гнезд мешочками свешивались с потолка пещеры, птичий крик оглушал. Как они ориентировались в темноте, никто не знал. Бонплан сделал три выстрела, почти неслышных из-за птичьего крика, и тут же к ногам его свалились две птицы, еще живые. Гумбольдт откалывал от скалы образцы породы, измерял температуру, давление воздуха и влажность и соскребал мох со стен.
Один из монахов громко вскрикнул, раздавив ногой громадного слизня. Им пришлось пересечь ручей, птицы с криком носились над их головами, Гумбольдт зажимал уши руками, монахи крестились.
Здесь, сказал проводник, начинается царство мертвых. Дальше он не пойдет.
Гумбольдт предложил вдвое увеличить вознаграждение.
Проводник отказался.
Это нехорошее место! И вообще, нечего тут делать, человеку нужен свет.
Красиво сказано,прорычал Бонплан.
Свет,вскричал Гумбольдт, это не способность видеть, а знание!
Он двинулся дальше, Бонплан и монахи за ним. Туннель стал раздваиваться, без проводника они не знали, куда идти. Гумбольдт предложил разделиться на две группы. Бонплан и монахи покачали головами.
Ну, тогда идем влево,решил Гумбольдт.
Почем же влево?спросил Бонплан.
Значит, вправо,сказал Гумбольдт.
Ну, а почему вправо?
Черт подери,рассердился Гумбольдт, что за идиотизм!
И он зашагал впереди всех влево. Птичий гам раздавался здесь еще сильнее. Через какое-то время в нем можно было различить какой-то тоненький быстрый-быстрый клекот. Гумбольдт склонился к увядшим растениям на земле. Вздувшиеся растеньица, бесцветные, почти бесформенные.
Как интересно,прокричал он в ухо Бонплану, как раз о таких вещах я написал работу во Фрейберге!
Когда они оба разогнулись, то увидели, что монахи исчезли.
Кретины суеверные!вскричал Гумбольдт. Вперед!
Дорога резко пошла вниз. Птицы хлопали крыльями совсем близко от них, но ни разу их не коснулись. Они на ощупь подобрались к какому-то выступу. Факелы были слишком слабы, чтобы достать до самого свода. На стены ложились их огромные тени. Гумбольдт взглянул на термометр: становится все теплее, сомнительно, чтобы это порадовало профессора Вернера! Потом вдруг он увидел рядом силуэт покойной матери. Он поморгал глазами, но ее тень не исчезла, словно то был не фантом. Платок повязан на шее, голова наклонена, на устах отрешенная улыбка, нос и подбородок истончились как в последний день ее жизни, в руках гнутый зонтик. Он закрыл глаза и медленно сосчитал до десяти.
Что, что?спросил Бонплан.
Ничего,ответил Гумбольдт и, сосредоточившись, отколол от скалы осколок.
Дорога ведет дальше вниз,сказал Бонплан.
Пожалуй, хватит,решил Гумбольдт.
Бонплан высказал предположение, что там внизу, может быть, есть еще неизвестные растения.
Лучше вернемся,сказал Гумбольдт. Раз хватит, значит хватит.
Они пошли вдоль ручья на свет. Постепенно птиц становилось все меньше, а крики их все глуше, вскоре они смогли потушить факелы.
Перед пещерой их проводник крутил на вертеле над костром обеих убитых птиц, выпуская жир. Перья, клювы и когти уже сгорели, кровь капала в пламя, жир шипел, над поляной стоял горький запах. Этот птичий жир – большая ценность, пояснил проводник. Не имеет запаха и держится больше года!
Придется добыть парочку новых,сердито сказал Бонплан.
Гумбольдт попросил у Бонплана его флягу со шнапсом, сделал большой глоток и отправился с одним из монахов в сторону миссии, в то время как Бонплан вернулся в пещеру, чтобы подстрелить еще пару птиц. Сделав сотню шагов, Гумбольдт остановился и, задрав голову, посмотрел на верхушки деревьев, упиравшиеся в небо.
Эхо!
Эхо,повторил монах.
Ага, они кричат, и крик их отражается от стен. Очевидно, так ориентируются эти твари. Если не по запаху, то по звуку.
На ходу Гумбольдт делал пометки. Система, которой мог бы воспользоваться и человек – в безлунные ночи или под водой. А что до жира: из-за отсутствия запаха он наилучшим образом годится для производства свеч. Окрыленный, Гумбольдт подскочил к двери своей монашеской кельи, а там его поджидала голая женщина. Поначалу он подумал, что она пришла, дабы ей посчитали вшей, или принесла какое-нибудь известие. Но потом понял, что на сей раз это не так, и женщина пришла за тем, чего хотела, а хотела она именно того, о чем он догадался, и теперь ему деваться было некуда.
Скорее всего, ее прислал губернатор, надо полагать, это соответствовало его представлениям о том, какие сюрпризы в ходу у крепких мужчин. Всю ночь и весь день она в полном одиночестве прождала его в комнате, от скуки разобрала на части секстант, перепутала все собранные растения, хлебнула спирта, заготовленного для препаратов, и, оглушив себя им, хорошенько проспалась. Проснувшись, гостья не без ловкости разрисовала красками портрет презабавного карлы с тонкими губами, в котором, конечно, не узнала Фридриха Великого. А теперь, когда Гумбольдт наконец появился, она желала поскорее покончить с тем, ради чего сюда пришла.
Он еще спрашивал женщину, откуда она взялась и что ей угодно, и не может ли он что-нибудь для нее сделать, а она уже ловко расстегнула его брюки. Она была маленького роста, не худышка, и на вид ей было не больше пятнадцати. Гумбольдт отстранился, она последовала за ним, он уперся в стену и, когда захотел прогнать ее, вдруг осознал, что не помнит ни слова по-испански.
Ее зовут Инес, сказала гостья, он может ей довериться.
Когда она стянула через голову его рубашку, оторвалась пуговица и покатилась по полу. Гумбольдт проследил за ней глазами до того места, где она, ударившись о стену, шмякнулась на бочок и затихла на полу. Инес обхватила его шею руками и потащила за собой на середину комнаты, а он все бормотал, что она должна отпустить его, что он как-никак подданный прусской короны.
Ого,сказала она, как у тебя бьется сердце.
Она потянула его за собой на ковер. И почему-то он допустил, чтобы она перевернула его на спину, а ее руки тем временем скользнули вниз, после чего женщина с удивлением и смехом констатировала, что толку-то от ее усилий немного. Он смотрел на ее согнутую спину. На потолок, на листья пальмы, дрожащие на ветру за окном.
Сейчас, сейчас, сказала она. Он должен ей довериться!
Листья были остры и коротки, это дерево он еще не описал. Гумбольдт хотел было подняться, но она положила ладонь на его лицо и пригнула его опять, а он тем временем спрашивал себя, как она не может понять, что он побывал в аду. Позднее он не мог сказать, как долго все это длилось, пока Инес наконец не остановилась, рывком откинув назад волосы и печально глядя на него. Он закрыл глаза. Она встала.
Это ничего, тихо сказала она, это она во всем виновата.
Голова у него раскалывалась, его мучила жажда. И лишь услышав, что за ней захлопнулась дверь, он открыл глаза.
Бонплан застал друга за письменным столом, занятого хронометром, гигрометром, термометром и вновь собранным секстантом. Воткнув лупу в глаз, Гумбольдт исследовал листья пальмы. Интересное строение, очень! Но пора бы и двигаться дальше.
Чего это вдруг?
Согласно старинным преданиям, между реками Ориноко и Амазонкой есть природный канал. Европейские географы считают это легендой. Господствующая школа утверждает, что водоразделом здесь служат горы и не может быть никакой разветвленной речной системы внутри страны.
Как ни странно, он об этом никогда не думал, заметил Бонплан.
Это заблуждение, сказал Гумбольдт. Он найдет канал и разгадает эту загадку.
Вот оно что, сказал Бонплан. Канал, значит.
Ему не нравится такое отношение, сказал Гумбольдт. Одно нытье, одни упреки. А как насчет энтузиазма? Капелька его не помешала бы!
Бонплан спросил, а что, собственно, случилось.
Скоро будет солнечное затмение! Это позволит вычислить точные координаты города на побережье. И тогда можно будет составить целую сетку измерений вплоть до самого канала.
Но ведь он, видимо, где-то в глубине джунглей!
Все это только слова, сказал Гумбольдт. Его ими не испугаешь. Джунгли – это тоже всего-навсего лес. Природа везде природа.
Он написал письмо брату. Путешествие проходит великолепно, открытия потрясающие. Что ни день находятся новые растения, больше, чем их можно сосчитать; наблюдения за землетрясением наводят на мысль о новой теории земной коры. Невероятно расширились также сведения о природе вшей. Всегда твой, помести это в газете!
Убедившись, что рука не дрожит, он написал еще и Канту. Передо мной забрезжила новая концепция физической географии. На различных высотах, но при одинаковой температуре на всей планете произрастают схожие растения, так что климатические зоны простираются не только в ширину, но и в высоту: в одной и той же точке земной поверхности возможны все стадии изменений, от тропиков до Арктики. Если соединить эти зоны линиями, то можно получить карту больших климатических поясов. С благодарностью за все ценные указания, а также в надежде, что профессор пребывает в благополучии, остаюсь и прочее…Он закрыл глаза, вдохнул побольше воздуха и подписал письмо, изобразив самый размашистый росчерк, на какой только был способен.
За день до затмения вышла неприятность. Когда они проводили свои измерения на прибрежном песке, из-за кустов вдруг выскочил с дубиной какой-то самбо – полунегр, полуиндеец. Зарычав, он пригнулся к земле и уставился на незнакомцев. А потом бросился на них. Злосчастное происшествие – так назвал это Гумбольдт, когда тремя днями позже на борту судна, направлявшегося в Каракас при попутном ветре, писал об этом в три часа ночи при свете свечей. Сам он увернулся от удара, отпрянув влево, а вот Бонплану, который был справа от него, повезло меньше. Однако, увидев, что противник недвижно распростерся на земле, самбо перестал орудовать дубиной и побежал догонять сорвавшуюся с головы Бонплана шляпу. Нахлобучив ее, он поспешил удалиться.
С инструментами, по крайней мере, ничего не случилось, да и Бонплан через сутки пришел в себя, хотя лицо его раздулось, один зуб был выбит, нос потерял свою форму, а на губах и подбородке запеклась кровь. Гумбольдт, дневавший и ночевавший у его постели, тут же протянул другу кувшин с водой. Бонплан умылся, отхаркался и решился взглянуть на себя в зеркало.
Приближается затмение, сказал Гумбольдт. Как он, справится?
Бонплан кивнул.
Наверное?
Бонплан, сплюнув, прошепелявил, что в этом нет никаких сомнений.
То будут великие дни, сказал Гумбольдт. От Ориноко до Амазонки. В глубь страны. Пусть он поклянется!
С трудом, словно нехотя, Бонплан поднял руку.
В предначертанный послеобеденный час солнце погасло. Свет померк, стая птиц с криком взмыла в воздух и унеслась вместе с ветром; предметы вокруг будто вобрали в себя освещение, набежали тени, солнечный шар превратился в темный диск. Бонплан с перевязанной головой держал большое зеркало секстанта. Гумбольдт, устремив на него подзорную трубу, другим глазом косился на хронометр. Время остановилось.
А потом вновь пошло. Свет возвратился: солнечный шар выпростался и засиял, тень сползла с холмов, равнины и горизонта. Птицы кричали, где-то прогремел выстрел. Бонплан опустил зеркало.
Гумбольдт спросил, каково это было.
Бонплан с недоумением посмотрел на него.
Он ведь сам ничего не видел, пояснил Гумбольдт. Только отражение на зеркальном экране. Он, не отрываясь, измерял высоту небесных светил, да еще должен был следить за часами. Так что не было времени осмотреться.
Да ведь это не повторится, хрипло сказал Бонплан. Неужели он и правда даже ни разу не взглянул?
Эта местность теперь навсегда будет нанесена на все карты мира. Всего несколько мгновений выпадают на то, чтобы откорректировать ход часов с помощью неба. И есть люди, которые относятся к этой работе серьезнее, чем другие!
Все так, но все же… Бонплан вздохнул.
Что такое? Гумбольдт полистал звездный каталог, достал карандаш и занялся вычислениями. Так что же?
Неужели всегда нужно быть настолько немцем?
ЧИСЛА
В день, который все изменил, у Гаусса так разболелся коренной зуб, что он думал, что потеряет рассудок. Ночью он лежал на спине, прислушиваясь к храпу квартирной хозяйки за стеной. Где-то в половине седьмого, когда он, устало щурясь, вглядывался в рассвет, он сделал открытие, дававшее решение одной из самых старых загадок мира.
Он двинулся к столу, шатаясь, как пьяный. Это нужно было немедленно записать, чтобы ничто не забылось. Ящики стола не хотели открываться, внезапно и бумага попряталась от него, а перо сломалось и ставило кляксы, да еще под ноги попал полный ночной горшок. Однако же через полчаса царапания по бумаге всё означилось на отдельных смятых листах, на полях учебника греческого языка и на крышке стола. Тяжело дыша, он отложил перо. С удивлением он обнаружил, что не одет, что на полу испражнения и стоит вонь. Его знобило. Зубная боль была невыносимой.
Он перечитал всё. Продумывая строчку за строчкой, следя за системой доказательств, ища ошибки и не находя их. Он провел рукой по последнему листку и взглянул на свой кривой, замызганный семнадцатиугольник. Две тысячи лет люди с помощью линейки и циркуля конструировали равнобедренные треугольники и пятиугольники. Соорудить квадрат или удвоить углы какого-нибудь многоугольника было детской задачей. А комбинируя треугольник и пятиугольник, можно было получить пятнадцатиугольник. Но то был предел.
И вот: семнадцать. И он уже прозревал метод, с помощью которого можно пойти дальше. Но этот метод он еще должен найти.
Он отправился к цирюльнику. Тот завязал ему руки и, заверив, что все будет в порядке, быстрым движением сунул щипцы ему в рот. От одного только их прикосновения, вызвавшего резкую вспышку боли, Гаусс едва не потерял сознание. Он еще хотел было собраться с мыслями, как щипцы щелкнули, отозвавшись эхом в его голове, и лишь вкус крови во рту и звон в ушах вернули его в комнату к человеку в фартуке, который спрашивал, ну что, не так уж это и больно, не правда ли?
По дороге домой он то и дело должен был держаться за стены; ноги, подкашиваясь, не слушались его, голова кружилась. Всего-то через несколько лет появятся специальные врачи, ведающие полостью рта, и будут лечить эту боль, и не надо будет вырывать всякий воспалившийся зуб. Скоро мир не будет полон беззубых людей. И от оспинок скоро избавят род людской, и от выпадения волос. Его удивляло, что кроме него никто не думает о подобных вещах. Люди воспринимали все, что есть, как нечто само собой разумеющееся. С остекленевшими глазами отправился он на квартиру к Циммерманну.
Он вошел без стука и положил на стол перед Циммерманном свои листки.
О, выказал профессор сочувствие, зубы, очень болят? Ему-то самому еще повезло, у него не хватает только пяти, а вот у профессора Лихтенберга осталось всего лишь два, а Кестнер так и вовсе давно уже ходит без зубов. Осторожными – из-за пятен крови – пальцами он взял в руки первый листок. Наморщил лоб, подняв брови. Губы его шевелились. Все это длилось так долго, что показалось Гауссу невероятным. Нельзя же думать так долго!
Это великий момент, произнес наконец Циммерманн.
Гаусс попросил стакан воды.
Ему хочется молиться. Это следует опубликовать, лучше бы всего за подписью профессора. Студенту вроде как публиковаться еще рано.
Гаусс хотел что-то ответить, но когда Циммерманн принес ему стакан воды, он не смог ни говорить, ни пить. Он извинился жестами, поковылял домой и лег на кровать, думая о своей матери в Брауншвейге. То было ошибкой – отправиться в Гёттинген. Университет-то был здесь получше, но ему так не хватало матери, особенно когда нездоровилось. К полудню, когда щека раздулась пуще прежнего и любое движение отзывалось болью во всем теле, он понял, что цирюльник удалил не тот зуб.
По счастью рано утром улицы были еще пусты. Так что никто не видел, как он шел, останавливаясь у каждой стены, прислоняясь к ней головой и рыдая.
Он, кажется, душу бы отдал за то, чтобы жить через сто лет, когда появятся средства от зубной боли и врачи, заслуживающие этого звания. Причем дело – то вовсе не хитрое: нужно было только анестезировать в нужном месте нерв, лучше всего – малыми дозами яда. Следует внимательнее изучить свойства кураре! Бутылочка с ним имеется в химическом институте, надо будет как-нибудь взглянуть на нее. Однако мысли не слушались, ускользали, и внятным оставался только его собственный стон.
Это бывает, радостно сказал цирюльник. Боль отдается во все стороны, но природа умна, она дала человеку много зубов. В тот миг, когда цирюльник вынул свои щипцы, в глазах у Гаусса потемнело.
Боль словно стерла из его памяти время, так что несколько часов – или дней? откуда ему было знать, – спустя он очнулся в своей смятой постели, обнаружив на тумбочке наполовину опустошенную бутылку шнапса, а в ногах Научное приложениек Общей литературной газете,где гофрат Циммерманн излагал новейший метод построения равнобедренного семнадцатиугольника. Подле кровати сидел Бартельс, пришедший поздравить товарища.
Гаусс ощупал свою щеку. Ах, Бартельс. Ему ли это не знать: он и сам из бедной среды и считался вундеркиндом, коему уготовано великое будущее. А потом Бартельс встретил его, Гаусса. И как давно уже признался, две ночи после этой встречи провел без сна, раздумывая о том, а не вернуться ли ему в свою деревню, доить коров да чистить от навоза конюшню. В третью ночь он понял, что есть только один путь спасти свою душу – полюбить Гаусса.
И помогать ему, в чем только можно. С той поры он все свои силы отдавал совместной работе, вел беседы с Циммерманном, писал письма герцогу и выдержал бой с отцом Гаусса, убедив его (прибегнув к угрозам, о которых обе стороны не хотели вспоминать) отдать сына в гимназию. Прошлым летом он сопровождал Гаусса в поездке к его родителям в Брауншвейг. Помнится, мать отвела его в сторонку и с озабоченной робостью на маленьком личике спросила: ну, как там ее сын в университете, среди великих ученых, есть у него хоть какое-нибудь будущее? Бартельс сперва даже не понял вопроса. Ну, выйдет ли, хотела бы она знать, из исследований Карла какой-нибудь толк? Пусть скажет начистоту, она никому не скажет. У матери ведь сердце всегда не на месте. Помолчав минуту, Бартельс в свою очередь спросил – с надменностью, за которую потом ему было стыдно: что же, разве она не знает, что ее сын – величайший ученый в мире? Она расплакалась, было ужасно неловко. Гаусс так и не смог до конца простить Бартельса.
Теперь я решился,сказал Гаусс.
На что?рассеянно поднял на него глаза Бартельс.
Гаусс нетерпеливо вздохнул. Заняться математикой. До сих пор он все хотел переключиться на классическую филологию, да и теперь ему еще кажется привлекательной мысль написать комментарий к Вергилию, особенно что касается спуска Энея в подземный мир. По его мнению, никто не понял эту главу в полной мере. Но для этого еще будет время, ведь ему только девятнадцать. А пока он понял одно – в математике он может добиться большего. Раз уж ты оказался в сем мире, о чем тебя, правда, не спрашивали, то нужно попытаться что-нибудь в нем совершить. Например, решить вопрос о том, что такое число. Ведь это основа арифметики.
И дело всей жизни,сказал Бартельс.
Гаусс кивнул. Если на его стороне будет счастье, лет за пять он с этим справится.
Однако вскоре ему стало ясно, что он справится раньше. Стоило ему только начать, как идеи стали напирать с небывалой мощью. Он мало спал, перестал ходить в университет, ел самую малость и редко наведывался к матушке. А когда бродил по улицам, бормоча себе что-то под нос, мысль его работала особенно четко. Не глядя перед собой, он умудрялся не налететь на прохожих, никогда ни обо что не спотыкался, а когда однажды, повинуясь инстинкту, отпрянул беспричинно в сторону, и в ту же секунду на то место, где он только что стоял, свалился с крыши кирпич, он даже не удивился. Числа не уводили человека от мира, но приближали его к нему, делали этот мир яснее и понятнее.
Числа сопровождали его теперь повсюду. Гаусс не забывал о них, даже когда посещал продажных женщин. В Гёттингене их было немного, они все знали его, называли по имени и делали иной раз скидку, так как он был молод, хорош собой, имел манеры. Та, что нравилась ему больше других, происходила из далекого сибирского города, ее звали Нина. Жила она в старом доме для акушерок, у нее были темные волосы, глубокие ямочки на щеках и широкие, пахнущие землей плечи; в те мгновения, когда он ее обнимал и, сосредоточившись, чувствовал на себе ее раскачивание, он обещал жениться на ней и выучить ее язык. Она же только смеялась, а когда он принимался уверять, что все это очень серьезно, она отвечала, что он еще слишком молод.
Экзамен на докторскую степень он сдавал под присмотром профессора Пфаффа. Согласно нацарапанному Гауссом на бумаге заявлению, его освободили от устного испытания, да и было бы смешно, случись иначе. Придя за свидетельством, он долго маялся в коридоре. Съел там кусок черствого пирога и прочитал в Гёттишенских ученых ведомостяхсообщение одного прусского дипломата, рассказывавшего о пребывании его брата в Новой Андалусии. Белый домик на краю города, по вечерам они там освежаются в реке, и к ним часто приходят женщины, чтобы у них искали и считали вшей. С непонятным для него волнением Гаусс перевернул страницу. Голые индейцы в католической миссии, в пещерах живут птицы, которые различают ориентиры в пространстве своими голосами, как другие существа делают это глазами. Продолжительное солнечное затмение, затем поход к Ориноко. Письмо этого человека полтора года находилось в пути, один Бог знает, жив ли он еще. Гаусс опустил газету. Циммерманн и Пфафф стояли перед ним. Они не решились ему помешать.
Каков человек, сказал он, впечатляет! С другой стороны, все это довольно бессмысленно – разве истина где-то там, а не здесь? Или: разве можно убежать от себя самого?
Пфафф протянул ему свидетельство: экзамен сдан, summa cum laude. [3]3
Букв, с наивысшей похвалой (лат.), т. е. окончание университета с отличием.
[Закрыть]Разумеется. Стало известно, сказал Циммерманн, что затеяна большая работа. Он рад, что Гаусс наконец-то нашел нечто, что так заинтересовало его и что может развеять его меланхолию.
И в самом деле, сказал Гаусс, а когда с этим будет покончено, он откланяется.
Оба профессора переглянулись. Покинет курфюршество Ганновер? Не хотелось бы в это верить.
Нет, сказал Гаусс, не стоит беспокоиться. Он уедет хоть и далеко отсюда, но не за пределы курфюршества.
Работа двигалась споро. Квадратичный закон взаимности был выведен, загадка множества простых чисел близка к своему разрешению. Первые три главы он закончил и был уже занят основным разделом. Но то и дело откладывал перо в сторону, обхватывал голову руками и спрашивал себя, допустимо ли в принципе то, что он делает. Не слишком ли глубоко он копает? На основах физики зиждутся правила, на основах правил – законы, а на них опирается теория чисел; если вглядеться в них пристальнее, можно распознать формы их сродства, а также отталкивание и притяжение. В их структуре, похоже, чего-то недостает, странным образом кажется наспех смоделированным, и не раз уже он подумывал о том, что неплохо было бы подправить все эти неряшливости, на которые он натыкался, – Господь Бог явно позволил себе небрежность, надеясь, что никто этого не заметит.
А потом пришел день, когда у него не стало денег. Поскольку он закончил обучение, стипендию ему платить перестали. К тому же герцогу никогда не нравилось, что он уехал в Гёттинген, так что о продлении денежного содержания и думать было нечего.
Тут делу можно помочь,сказал Циммерманн. Как раз подвернулась случайная работенка. Требуется старательный молодой человек поработать немного землемером.
Гаусс отрицательно покачал головой.
Да это ненадолго,сказал опять Циммерманн. А свежий воздух еще никому не вредил.
Так неожиданно он принялся месить грязь на залитой дождями местности. Небо висело над головой, застилало белый свет, а глинистая земля превратилась в кашу. Он перемахнул через живую изгородь и, тяжело дыша, пропотевший и засыпанный хвойными иголками, оказался перед двумя девушками. На вопрос, что он тут делает, он нервно ответил, что триангулирует рельеф местности, и начал объяснять технику дела. Если известны одна сторона и два угла треугольника, то можно вычислить две другие и неизвестный угол. Одним словом, накладываешь где – нибудь здесь на просторах земли Божьей в любом месте треугольник, измеряешь одну его сторону, до которой легче добраться, и определяешь с помощью этого инструмента углы и третий опорный пункт. Гаусс поднял теодолит и покрутил его перед девушками: вот так и так, видите, а теперь так, проделав все это настолько неловко, словно в первый раз, пальцы были как деревянные. А потом прикладываешь одну сторону треугольника к стороне другого и получаешь на плоскости сеть треугольников, связанных между собой общими сторонами. Один прусский исследователь как раз проделывает в данный момент то же самое в Новом Свете среди тамошних мифических созданий.
Но ландшафт,возразила одна из девушек, та, что была повыше ростом, разве это плоскость?
Он уставился на нее. Не сделал, значит, когда надо, паузу. Не дал ей времени подумать.
Вообще-то, конечно, нет,сказал он, улыбаясь.
Углы треугольника,сказала она, только на ровной поверхности составляют в сумме сто восемьдесят градусов, а на выпуклой – нет. А весь мир ведь так и устроен: то вверх, то вниз.
Он с удивлением посмотрел на нее, словно только что увидел. Девушка вздернула брови, выдерживая его взгляд.
Да,сказал Гаусс, что правда, то правда. Чтобы уравновесить это, необходимо треугольники некоторым образом сжать после измерения до бесконечно малых величин. В принципе произвести простую операцию по дифференциальному вычислению. Именно в этой форме…Он опустился на землю и вытащил свой блокнот. В такой форме,пробормотал он, уже начав писать, этого еще никто не делал.








