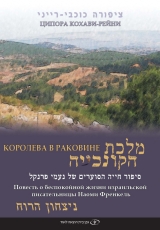
Текст книги "Королева в раковине"
Автор книги: Ципора Кохави-Рейни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Простуды атакуют Артура, угрожая его жизни. В последнее время он страдает от сильного кашля и потерял в весе. Доктор Герман Цундак рекомендует ему отдохнуть в санатории для легочных больных в Давосе. Перед отъездом туда на две недели Артур продиктовал Филиппу завещание, назначив его опекуном Бертель и Бумбы. При любой возникшей опасности Филипп должен вывезти детей в безопасное место, в Швейцарию или Англию. Артур попросил Филиппа в случае своей смерти и воцарении хаоса в Германии увезти детей из страны.
В отсутствие хозяина атмосфера в дома изменилась. Из радиоприемников в детских комнатах беспрерывно доносится музыка, даже когда там нет ни души. В столовой посуда не убрана со стола. Дети крутятся по дому в неряшливой одежде. Лоц не снимает с себя хоккейную форму. Кудрявые сестры-близнецы разгуливают по столовой, гостиной и коридорам в розовых пижамах, носятся по теннисному корту в ночных рубахах с ракетками в руках, и собака Лотта собирает мячики.
«Кот из дома – мыши в пляс», – Фрида смотрит на новые порядки, которые установили кудрявые сестры в роскошном обеденном зале, сохранившимся во всем своем великолепии со времени бывших хозяев – прусских юнкеров. Дубовое покрытие стен сменили цветные обои. «Дремлющий старик» Рембрандта уступил место трем синим коням кисти Пикассо. Подарок отца покойной матери – большой портрет женщины, кисти знаменитого художника Альбрехта Дюрера, снять не осмелились. Остался и портрет матери, и ее карие глаза продолжают глядеть на семью.
Тяжелую мебель заменили современными легкими стульями на тонких ножках и цветными креслами, покрытыми шелком. В камине установили красные лампочки, бросающие языки багряного света на окружающую обстановку. «Принца» нет, говорят дети и продолжают развлекаться далеко за полночь. Бумба не ходит в школу и до того разленился, что не занимается уроками. Гейнц успокаивает Фриду.
– Ничего страшного, – говорит он бесцветным голосом, – для руководства фабрикой я вовсе не нуждаюсь в высшем образовании. Оно вышло из моды, и даже представители высшего общества не считают большой ценностью систематическое образование.
Артур в Давосе, и Бертель чувствует, что без него дом теряет свой прежний блеск и роскошь. И даже дед, приезжающий время от времени в Берлин, не уменьшает все более увеличивающиеся хаос и пустоту в доме. Веселье и беззаботный смех царят за обеденным столом. Даже домашние псы, Цуки и Лотта, встают на задние лапы и с ворчанием показывают языки, с неутомимой собачьей льстивостью помахивая хвостами.
– Кто сейчас твоя подружка, дед? – с томной наивностью допытываются сестры.
– Ах, я видел на Александерплац молодуху, – дед смотрит на внучек с умильной наивностью. – У нее такая большая грудь, – дед округляет руки и ладони, демонстрируя примерную величину женской груди. – И были там еще шикарные девицы.
Таковы трапезы с дедом, без отца, без его речей, назиданий и нравоучений. За детским столом ведутся вольные разговоры, и Бумба поглощает котлеты, сколько душе угодно. И все же, даже без отца здесь сохраняется некая традиционная церемонность. Дед сидит во главе стола. Эльза, Лоц и маленькая Бертель располагаются по правую сторону от него. Лотшин, Гейнц, Руфь, Фрида и Бумба – по левую. Молчание воцаряется, когда дед берет в руки острый серебряный нож с длинным лезвием и виртуозно разрезает мясо жаркого на сверкающем серебряном подносе. Священная тишина не нарушается вокруг стола, пока ломти мяса не оказываются в тарелке каждого участника застолья.
Артур в Давосе, и за столом царит неудержимое веселье. Внуки подозревают деда в неверности одной единственной партии. Из любви к отечеству и своему бизнесу он щедро жертвует всем партиям, за исключением, естественно, нацистской. Внуки развлекаются, критикуя поведение деда. Бертель оглядывается вокруг, тоже желая присоединиться к смеющимся домочадцам, но смущение парализует ее. Дед словно читает ее мысли, откидывается на спинку стула и упирает в нее насмешливый взгляд.
– Бертель – спрашивает он, – как ваш учитель природоведения копирует собаку? А птицу? А льва?
Дед не терпит хмурости, и особенно, во время обеда. Он начинает подражать животным – мычанию коровы, ржанию коня, кудахтанью кур. Дед и Бумба мычат, блеют, кудахчут, пищат, как цыплята, щебечут, как птицы. Бертель отводит глаза в сторону, взгляды ее и мысли блуждают далеко от этого стола.
– Я не понимаю, что происходит с этой девочкой! – повышает голос дед. Бертель опускает взгляд в тарелку. Дед не понимает того, что она хочет говорить, но язык ее прилип к гортани, и из ее сухих растрескавшихся губ выходит лишь воздух. Если ей все же удается выжать из себя несколько слов, все за столом разражаются хохотом, ведь она говорит совсем не то, что хотела. Потому она чаще все молчит, затаив обиду. Дед обращается к отцу, когда тот, после возвращения, обедает со всеми.
– Артур, Бертель очень похожа на твою покойную мать.
– Вовсе нет!
– Артур, только бы она не была сухим ученым, как твой брат Альфред.
Бертель любит деда, но оба, дед и отец, вгоняют ее депрессию.
«Теодор Герцль?!» – всплывает в разговоре имя провидца еврейского государства, и все начинают высмеивать эту «фантазию» Герцля, «Государство евреев». Отец искренне не понимает, что заставляет евреев эмигрировать из Европы в Палестину. И с иронией размышляет вслух:
– По призыву этого мелкого фантазера, весьма посредственного журналиста и драматурга, эмигранты пакуют свои пожитки и уплывают в пустыню – болеть и строить свои жилища на песке.
Бертель несчастна, потому что дед вторит отцу:
– Евреи просто спятили. Погромы сбили их с толку, вот они и ринулись в бессмысленные и бесцельные авантюры на землях, забытых Богом.
Дом Френкелей просто не замечает дикой антисемитской атмосферы на улицах, обвиняя во всем этих странных сионистов, чудаков, лишенных чувства реальности, рассказывающих всем сказки. Бертель страдает от этих унизительных слов о Герцле и насмешек над сионистами. Но особенно зла на свою кудрявую сестрицу Эльзу, поглощающую одну за другой дольки апельсина из посылки, присланной дядей Вольфом Брином из Палестины. Высасывая сок из дольки, Эльза разглагольствует о том, что навестит Палестину, ибо это заманчивая авантюра, и при этом пошучивает:
– Бертель, я посещу тебя в Палестине.
Бертель взрывается:
– Эльза, ты поднимаешь на смех страну Израиль! Земля эта священна!
– Трулия, нет такого понятия «священная земля». Никакая страна не является священной, – Гейнц разворачивает и сворачивает салфетку.
Когда дед в доме, за обеденным столом хохочут. Он закидывает ногу на ногу, грациозно усаживаясь на кончике стула и подмигивая. Его ресницы трепещут, он подражает жеманнице.
Фрида недовольно смотрит на двух служанок, подающих блюда на подносах дрожащими руками. Что разрешено хозяину, запрещено официанткам. Экономка оценивает мимолетным взглядом их одежды, от чепчиков на волосах до черных платьев и белых накрахмаленных фартуков.
– Фрида, мой одноклассник придет ко мне в гости. Приготовь вкусный шоколадный торт, – провозглашает дед, и шепоток разносится вокруг стола.
Одноклассник деда служил в страховом обществе, ныне он на пенсии. Он невысокого роста и совсем не похож на высокого, стройного деда, не растерявшего юношеского пыла. Родственник должен привезти старика из Силезии прямо к дверям роскошного берлинского дома. Сопровождающий торопится уехать и с извинениями отказывается от приглашений деда войти в дом.
– Антисемиты, – говорит Гейнц, но дед решительно это отрицает.
Отец, тоже недовольным тоном Гейнца, указывает ему на ошибку:
– Просто для них непривычно входить в незнакомый дом.
Гейнц же остается при своем мнении. Короче говоря, «одноклассник» деда прибыл, и ритуал повторяется. Дед уединится в отдаленной комнате со своим старым другом, и начнется громкий разговор: воспоминания сыпятся как из рога изобилия. Кто из соучеников сделал карьеру, кто жив, кто умер. Одряхлевший одноклассник путает будущее с прошлым. Он жует соленые сушки, а дед кричит ему в раструб слухового аппарата, рассказывая том, что случилось с тем или иным из их знакомых.
Артур поправляет свое здоровье в Давосе, и Бертель очень обеспокоена его состоянием, особенно после того, что случилось с горбуном Шульце, сапожником, в подвале которого Бертель иногда коротала время. Горбун умер, и весь квартал возбужденно шумел. По мнению полиции Шульце сошел с ума, но Бертель точно знает, что это неверно. Она видела фото умершего Шульце, опубликованное в газете, и понимает, что старика убили. Шульце любил девочку и баловал ее. «Дядька Шульце», – дразнили его ребятишки, заглядывая к нему в окна подвала и прося разрешения прикоснуться к его горбу. Маленький сморщенный сапожник торговался, по какой цене можно прикоснуться его потрогать. По десять пфеннигов с носа. И только ей позволял даже гладить его горб, похожий на горб верблюда, сколько она захочет, без всякой оплаты.
«Дядька Шульце», – дразнили уродца ребятишки и тут же бросались врассыпную. Сапожник ненавидел детишек, но ее любил. Она была единственной, кто бывал внутри его крохотной комнатки, расположенной позади небольшой мастерской. В комнатке стояла кровать, громоздилась кухонная посуда и хранились странные куклы, их мастерили золотые руки сапожника. Бертель, которая даже не смотрела на куклы в родном доме, не сводила глаз со странных кукол горбуна Шульце. В его маленькой комнате он играла с куклой, у которой были львиные лапы. Но любимой была кукла с птичьей головой. Шульце, вопреки ее просьбам, так и не подарил ей ни одной куклы. Сказал, что каждой из них дал имя, и ни с одой никогда не расстанется.
Бертель спускалась в подвал, и ее покидала меланхолия.
– Бертельшин, ты слишком умная девочка. Ты своеобразное и ни на кого не похожее существо. Когда вырастешь, станешь великой ученой, – говорил Шульце, раскраивая кожу на полоски, клея подошвы, с необычной теплотой беседуя с ней и предупреждая, чтобы она остерегалась зависти сверстников.
Однажды, вернувшись из школы, она выронила из рук стакан с водой, и он покатился по ступенькам к входу в подвал. Шульце приказал: «Не прикасайся к этому стакану, он принесет тебе большую беду». На следующий день он дал ей новый стакан, а упавший поставил на полку и сказал:
– Этот стакан связан с волшебством, которым я владею.
Шульце говорил ей, что она должна укреплять мускулы, поднимать и разводить руки в стороны, потом поднимать поочередно правую и левую ногу, крутить головой и шеей. Она выполняла все эти упражнения. Был у нее общий с Шульце секрет. Он бесплатно чинил ее старые ботинки, хоть и знал, что она из зажиточной семьи, и там изношенную обувь выбрасывают.
Бертель было приятно находиться у Шульце, пока Фрида случайно не увидела ее спускающейся в подвал сапожника со школьным ранцем за спиной. «Девочка из приличной семьи в подвале уродливого горбуна?! Только ненормальная девчонка может ходить к этому горбатому уроду».
Фрида была потрясена, как и весь дом, но Бертель не предала друга. Тайком прокрадывалась к нему, чтобы слушать его рассказы. Особенно любила историю, сочиненную Шульце о великане Рюбенцале. Горбун сажал Бертель себе на колени и описывал необычного красавца, великана, который страдал единственным недостатком: преследовал детей и убивал их. Бертель вовсе не пугали ужасы, которые горбун рассказывал о великане, ибо Шульце поднимал вверх руки, растопыривал пальцы над ее головой и клялся: «Великан Рюбенцаль никогда не будет тебя преследовать». Затем шептал: «Сиди тихо. Сейчас я колдую. Никто не может принести мне вреда. В горбу есть такое средство, которое охраняет меня». Но горб не спас Шульце. Однажды он был найден мертвым в своем подвале, и никто так и не узнал, что случилось.
Скоро отец должен вернуться из Давоса. Гостиная, залы и комнаты обновились, согласно моде времени и вкусу сестер. Бертель с нетерпением ожидает приезда отца.
Ноябрь 1930. Бертель согласилась на уговоры брата и поехала с ним к скаутам. Она неуверенно шла по большому залу. Услышала приветствие – «Крепись и будь мужественной!» – «Хазак вэ амац!»
Принятый ею за «убийцу» в шумной толпе в центре города тощий и долговязый парень встретил ее приветствием, которым пользовались все в организации еврейских скаутов, и оба рассмеялись. Зеппель помнил ее испуг тогда, на площади, когда он следовал за ней, пока она не исчезла. Теперь ей стало ясно, почему он так назойливо ее преследовал. Инструкторы молодежного движения разыскивают по городу темноволосых девушек и юношей, явных евреев, чтобы увести их с опасных улиц, где рыщут всякие маньяки, пьяницы, воры и убийцы, и, также, бездомные евреи, пробравшиеся сюда из нищей Польши после войны, и оказавшиеся здесь на грани голодной смерти.
Бертель не очень вдохновлена деятельностью скаутов, но от празднования Хануки разволновалась до слез. На сцену вышла смелая еврейка по имени Хана. Семеро ее детей жертвуют жизнью во имя еврейского Бога. Бертель не издает ни звука. У Ханы – семеро детей, как и у ее покойной матери. Хана стоит на сцене и плачет. Умирающая мать наградила ее за неделю до своей смерти всего лишь ласковым прикосновением ладони к щеке. Хана ушла за кулисы. По сцене шествовал Йегуда Маккавей во главе своих войск. Евреи с обнаженными мечами вступили в бой с греками на землях колен Йегуды и Биньямина. Бертель сидела ошеломленная, загипнотизированная происходящим на сцене. Никто ей раньше не рассказывал о войнах Хасмонеев против греков. В доме нет восьмисвечника – ханукии, и не зажигают свечи в течение восьми дней в честь победы Маккавеев. Все в клубе пели ханукальные песни. Бертель, зная, что она не обладает слухом, пела про себя. К тому же, к празднику разучивали песню «Утес моего спасения», и она ощутила себя обманутой. В песне речь шла о благословении дома молитвы и, главное, об обновлении жертвенника.
Она громко заявила, что не будет петь о жертвоприношении, восхвалять убийство. Святость и принесение жертвы нельзя связывать. Евреи не убивают и не освящают убийство! Народ Израиля не может очистить и освятить жертвенник убийством врагов. Это путь других народов. Любая резня порождает новую резню, и всякая чистка влечет за собой новую чистку. «Очень странная девочка», – подумали про Бертель. Бертель уверенно заявила, что ненавидит праздник Хануку, но любит историю о Хане и семи ее сыновьях.
Несколько месяцев она не принимала участие в жизни скаутов. Но вот в клубе появился молодой израильтянин, красивый юноша Мордехай Шенхави, посланец движения «Ашомер Ацаир» (Молодой Страж, еще точнее – молодогвардеец), активист организации социалистов-сионистов. Он открыто и ясно разъяснил, что приехал из Палестины в Германию с единственной целью – создать здесь филиал организации «Ашомер Ацаир», чтобы в дальнейшем подготовить еврейскую молодежь к репатриации. Халуц, член кибуца «Мишмар Аэмек» (Защитники долины), он, по приглашению главы движения скаутов Гильде Павловича, присоединился к деятельности скаутов.
– Как тебя зовут? – обратился он к стоящей особняком Бертель.
– Бертель.
– Бертель? – улыбнулся, обнажив свои белоснежные зубы. – Почему тебе дали такое имя – Бертель?
– В честь моей тети, – она не отводила глаз от его сверкающих зубов. – Я ненавижу свое имя.
– Я буду тебя звать красивым ивритским именем – Наоми. Ты и вправду очень приятная и обходительная девочка, – он разъяснил ей смысл этого имени и рассказал о библейской Наоми.
На-о-ми – звуки и вправду мягкие и приятные, волшебные звуки Божественного языка. Приятное чувство растекается по всему телу, словно что-то тяжкое спадает с нее. Никакой Берты, теперь она только Наоми!!!. В доме смеются. Никто не относится всерьез к требованию отныне называть ее Наоми.
Пока инструктор из Израиля был в клубе, Бертель не пропускала ни одного занятия. До сих пор движение было аполитичным, но теперь к нему присоединились инструкторы с социалистическим мировоззрением. Они мечтали стать пионерами Израиля. Даже Люба, которая провозглашала себя коммунисткой, присоединилась к ним. Люба – невысокая, худая, спортивная девушка, смуглая, темноволосая, с короткой, «под мальчика», стрижкой, нежными чертами загорелого лица и пронзительным взглядом. Люба – девушка харизматичная, берет все призы на конкурсах песни и на спортивных соревнованиях. В молодежном движении не забывают ее мужественного поступка. Однажды во время похода в лес к скаутам приблизились два лесника. Вели они себя грубо, напугав скаутов.
– Жиды! Жиды! Убирайтесь отсюда, не оскверняйте немецкие леса! – орали они.
– Лес принадлежит всем! Право каждого быть здесь! – ответила инструктор Люба наглым и грубым лесникам.
Скауты взбодрились, услышав ее решительный голос, и перешли в наступление, скандируя хором:
– Убирайтесь отсюда сами! Леса принадлежат всем!
Лесники не ожидали от евреев такого дерзкого отпора, попятились и исчезли в глубине леса. Скауты громко запели победную песню.
Инструкторы-социалисты выделяют Бертель. Относятся к двенадцатилетней девочке как к взрослой, перегнавшей в развтии более старших. Прислушиваются к ее мнению. Не только из нравоучений отца и лекций Фердинанда она узнает об идеологических течениях прошлого и настоящего. Садовник Зиммель также участвует в ее политическом воспитании. Он знакомит девочку с основами коммунизма, умеренного социализма, национал-социализма и социал-демократии. Он дал ей прочитать «Коммунистический манифест», воспламенивший мир, и сказал, что очень ценит мудрость Карла Маркса. Однако, по его мнению, Маркс во многом ошибался. Как социал-демократ, Зиммель отрицает классовую борьбу, хотя резко выступает против эксплуатации рабочего класса.
Садовник Зиммель – воспитанник рабочей школы имени Августа Бебеля, получил уроки социал-демократии из уст самого Бебеля, одного из главных идеологов социал-демократического движения. Садовник рад краху монархии Гогенцоллернов, но его беспокоят экономические трудности Веймарской республики и общественный кризис.
Он объясняет Бертель, что потеря государством своих моральных ценностей и обязательство платить врагам огромную контрибуцию за урон, нанесенный им войной, настоящая катастрофа для страны. Более того, после подписания Версальского договора американский президент Вильсон не выполнил своих обещаний. Конгресс в Вашингтоне не утвердил обещанную экономическую помощь Веймарской республике. Эта задержка весьма опасна для Германии: инфляция не перестает расти вверх, и с ней невероятно растут налоги. Граждане страдают, народ бунтует, и его партия рушится на глазах. Ведь германская армия – «рейхсвер» – сохраняет нейтралитет и не занимает твердую позицию против бунтовщиков, борющихся с Веймарской республикой.
Бертель рассказывает инструкторам все, что слышит от Зиммеля и черпает из бесед между ним и отцом во время прогулок по саду. Взрослые говорят о нежелании армии подавить попытки переворота. Бертель понимает, что народ, привыкший к монархии, не принял власть социал-демократии. Безумное высокомерие крупных капиталистов может привести к государственному перевороту и принести в жертву миллионы граждан. Германия скатится в ад. Все ощущения Бертель говорят ей о справедливости тревог отца и Зиммеля. Канцлер Брюнинг возражает против требования президента Гинденбурга ввести в коалиционное правительство представителей правых сил. Правящая партия, членом которой является и садовник Зиммель, весьма слаба и терпит поражение за поражением в попытке объединить народ, укрепить экономику, побороть террор и насилие и заставить население соблюдать законы. Слабости эти усиливаются в течение последних десяти лет, и налицо разочарование существующей властью, которая не в силах управлять страной. Отец и садовник, а вслед за ними и Бертель всерьез обеспокоены невозможностью правящей социал-демократической партии использовать свой политический капитал. Если бы война была остановлена, размышляет Бертель, отец был бы здоров, а народ бы так не страдал, никто бы не ринулся за нацистской партией, которая возникла в год рождения Бертель – в 1918-м.
Инструкторы относятся к ней, как взрослой, но в походах и различных соревнованиях скаутов она устает и стушевывается. Она все же хрупкая и странная, поэтому ее всегда сопровождает кто-то из инструкторов. Она хочет быть такой же самостоятельной, как все. Чтобы закалиться и укрепить мышцы, она проходит пешком много километров по огромному лесу, граничащему с Берлином. И не просто ходит, а еще перепрыгивает через пни, чтобы доказать себе, что она достойна быть халуцем, подобно врачу и цитрусоводу Зееву Брину и приехавшему из страны Обетованной инструктору Мордехаю Шенхави, который обучает их сионизму и социализму. Силы воли и упорства ей не хватило, и, прыгнув через яму, она сломала ногу. Отец увидел ее ногу в гипсе и сделал серьезный выговор инструкторам, сопровождавшим девочку – Любе и Бадольфу. Они и привели ее домой. Отец обвинил в случившемся молодежное движение, и с тех пор с Бертель не спускают глаз. Коммунистка Люба навещала ее все время, пока с ноги девочки не сняли гипс.
Отец говорит о Любе, интеллигентной девушке, приехавшей из России в Германию, что она весьма оригинальна, но особым интеллектом не отличается. Наткнувшись на нее в коридоре, он пригласил ее на обед и ужин. Бертель обрадовалась: еще бы, коммунистка отлично чувствует себя в буржуазном доме, и домочадцы также дружески относятся к Любе, не принимая всерьез некоторые ее политические высказывания. Она увлечена революционными идеями, провозглашая, что каждый отдельный индивид обязан жертвовать собой во имя коллектива. Домочадцы с удивительной терпеливостью и интересом прислушиваются к ее речам, хотя никто из них с ней не согласен. Кстати, Фердинанд и старшие братья и сестры весьма удивлены произошедшей в России коммунистической революцией, рассматривая ее издалека.
– Коммунистическая идеология не подходит такой прогрессивной стране, как Германия, но, конечно же, она подходит такой примитивной стране, как Россия, – считают Фердинанд и Лотшин.
– В мире есть место для всех наций и государств. Мир не делится по классовому принципу, – говорит Гейнц.
Бертель прислушивается к взрослым, и каждый раз становится в тупик: но кто я? Вопрос национальной идентичности и собственной индивидуальности все более и более не дает ей покоя. Отец твердит, что их еврейство существует лишь в стенах дома, но такое еврейство ей чуждо, и она не может преодолеть эту отчужденность. Она ничего не знает о еврейских праздниках. Они отмечают только Судный день, священный для евреев. В этот день ворота фабрики запираются с утра до двенадцати часов. Вместе с отцом и дедом она посещает большую реформистскую синагогу Берлина. Это течение, основанное реформистом и философом Моисеем Мендельсоном.
Когда дед вспоминает церемонию открытия этой роскошной синагоги, он подкручивает усы и заливается хохотом.
– Они хотели, чтобы кто-нибудь из уважаемых членов общины поднес ключи от синагоги кайзеру Вильгельму. Сам Кайзер должен был открыть двери синагоги. Понятно, что я, как один из верноподданных кайзера, был избран, чтобы торжественно встретить Его величество и поднести ему ключ.
Дед выпрямляется во весь рост, гордо поднимает голову, словно в эту минуту кайзер стоит перед ним, и продолжает патетически, словно находится на театральных подмостках, рассказывать:
– По еврейскому обычаю плечи мои облекал талес, и кайзер обратился ко мне: «Господин раввин».
В реформистской синагоге дед встречается с друзьями и общиной. Дед подкручивает вверх кончики усов, поправляет черный цилиндр на голове, проводит ладонями по атласу белой одежды, и глаза его устремляются вдаль, разыскивая извозчика и карету. Дед не терпит звуков автомобильных клаксонов, он отвергает прогресс только, если речь идет об автомобилях.
Артур сдерживает гнев. Всякое равенство и свобода – понятия, оставленные нам в наследство поколением деда – это, по сути, равенство в жестокой эксплуатации равенства и свободы.
– В наших пригородах ты не найдешь ни коня, ни кучера, – обращается Артур к отцу.
– Артур, автомобили воняют! Нога моя не ступит в них.
Дед ударяет тростью и ускоряет шаг в сторону центра города. Рядом с зоопарком он находит роскошную карету с кучером.
Потом, улыбаясь, выпрямив спину, демонстрируя отличное настроение, он переступает порог синагоги, и взоры всех молящихся обращены на него, словно он и есть кайзер собственной персоной, или сын кайзера. Дед всех озаряет доброй улыбкой и одаряет даже служек синагоги дорогими сигарами.
Артур видит отца, и на лице сына застывает хмурое выражение отчужденности. Кажется, что молитвы и пение Псалмов отходят на второй план, когда уважаемый Яков Френкель замечен очами и очками своих качающихся в молитве поклонников. Бертель замечает смущение отца, и взгляд ее тоже становится отчужденным и осуждающим.
В каждый Судный день появление деда нарушает святость. В последний Судный день молящиеся не забыли ему напомнить историю, которая гуляла в берлинской общине. Ему пожимали руку, помня, что его поступок все еще вызывает смех и гнев.
Рассказывают, что он пошел выразить соболезнование ортодоксальной еврейской семье в связи с кончиной старика-отца. Не хватало десятого мужчины для миньяна, чтобы прочесть поминальную молитву. И дед вышел на улицу, чтобы решить эту проблему. Перешагнув порог дома скорбящего семейства, натолкнулся на прохожего.
– Парень, – прокашливается дед, прочищая горло, – хочешь заработать десять марок?
– Почему бы нет? Что я должен для этого сделать?
– Ничего особенного. Зайдешь со мной в этот дом. Увидишь там девять мужчин, скорбящих по поводу смерти старика-отца. Ты ничего не должен делать, только тихо стоять до окончания молитвы. Не бойся. Тебе ничего плохого не сделают. Получишь десять марок и уйдешь.
Дед вошел в дом, радуясь быстрому разрешению проблемы. Мужчины молились, и все шло, как полагается. Парень получил деньги и ушел. Мужчины повернулись к деду и начали допрашивать его – кто этот человек.
– Будьте спокойны. Он был очень порядочным гоем.
– Ты привел гоя десятым – на миньян?!
– Почему бы нет? Это стоило мне десять марок.
Мужчины нахмурились, но дед не чувствовал на себе никакого греха.
– Что плохого сделал вам парень? Тихо стоял. Вел себя деликатно. Я нашел весьма порядочного гоя.
Смех и боль смешались в доме траура.
– Уважаемый господин Френкель, вы что, не знаете, что только еврей может участвовать в этой молитве.
– Что вдруг? Траур – это что, только еврейское дело?
Мужчины разошлись по своим домам, дед вернулся домой оскорбленным.
– По какой причине и по какому поводу все так взволновались? – жаловался дед сыну. – Я ведь сделал доброе дело скорбящему дому. Десятый выполнил соглашение между нами и выстоял до конца молитвы.
– Ты что, не знаешь, что нельзя гою находиться среди евреев, да еще в такой трагический момент? – Артур бросил недоуменный взгляд на отца.
– Очень странная традиция, – сказал дед, покручивая кончики усов вверх.
На следующий день пришел доктор Филипп Коцовер, давясь от смеха:
– Уважаемый господин Френкель, что я слышал. Вы привели десятым на миньян гоя?
Выяснилось, что эта история почти мгновенно распространилась. Дед не очень расстроился и даже обрадовался:
– Можете говорить, что хотите, но я спас молитву, – философствовал он по поводу этого случая в Судные дни – единственные дни, когда он посещал синагогу. Молящиеся евреи не оставались в долгу:
– Господин Френкель, как здоровье вашего гоя? Он остался живым после молитвы?
Дед размышляет вслух:
– Почему нельзя, чтобы в молитве участвовало только девять человек?
Артур сердито смотрит на своего отца. Бертель прижимается к Артуру, выражая с ним солидарность. Дед говорит:
– Что, маленькая ревнительница еврейства со мной не согласна? – и усы его трясутся от смеха.
Один из Судных дней особенно запечатлелся в памяти Бертель. Во время молитвы ее охватывало чувство отчужденности. Вдруг она услышала – «Слушай, Израиль» – «Шма, Исраэль» – два слова на древнееврейском языке в молитве, произносимой по-немецки. И душа ее воспарила. Внутренний порыв вынес ее из синагоги на улицу.
Трамваи, битком набитые рабочими, неслись вдоль шоссе, гудели клаксоны автомобилей, а она, как загипнотизированная, шла вслед двум тощим бородатым евреям в круглых черных шляпах и черных пальто. Зашла за ними в скромный неказистый домик, и глубокий взволнованный голос кантора навел на нее страх и священный трепет. Мелодия и незнакомые ей слова поразили душу, и губы пытались повторять звуки гортанного напева. Она бормотала, как молящиеся религиозные женщины в париках. Они раскачивались в молитве, и Бертель повторяла за ними движения. Одна женщина заметила маленькую девочку, которая, подобно рыбе, безмолвно разевала и закрывала рот, и сделала ей строгое замечание: «Девочка, в синагоге нельзя насмехаться над теми, кто молится». В один миг Бертель оказалась под прицелом десятков осуждающих глаз. Бертель не поняла, в чем она виновата. Она ведь делала точно так, как все окружающие ее женщины. Околдованная святостью молитвы, в которой не понимала ни слова, она не покинула молельный дом. И лишь к вечеру вернулась домой, где все были охвачены паникой, сообщили в полицию о ее исчезновении и передали туда ее фото.
Отец, в который раз, строго-настрого запретил девочке одной выходить из дому, а если все-таки ей необходимо уйти, то сообщать, куда и на сколько.
Прошло много времени с этого дня. Нацисты вовсю бесчинствуют на улицах города, и напряжение в доме все больше усиливается.
Гейнц кожей чувствует, как зловещая провокация Гитлера нагнетает в стране, да и во всем мире, атмосферу неустойчивости, способствует беспорядкам и насилию, вводит массы в безумие по воле лидера-маньяка.
– Артур, сын мой, все это так, но ведь есть еще важные и положительные вещи в жизни! – дед смотрит на книги и рукописи, которыми завален письменный стол Артура. Он отмахивается от замечаний старшего внука, чтобы снова не быть втянутым в тяжкую и неприятную дискуссию.
Это напряжение сводит с ума Гейнца. Его обвинили в том, что он косвенно поддерживает Гитлера, ибо сотрудничает с гигантской корпорацией Круппа. Дед глубоко затягивается сигарой и с удовольствием выпускает кольца ароматного дыма. Дед серьезно боится, что Гейнц своими пророчествами катастрофы расстроит больного сына. Дед, Артур и Гейнц глубоко погрузились в кресла. На столе в чашках дымится кофе, горкой лежат печенье и марципаны. Тонкие струйки дыма от сигарет смешиваются с облаком ароматного дыма сигары деда.








