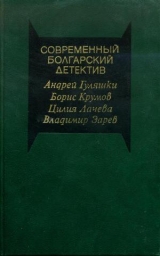
Текст книги "Виновата любовь"
Автор книги: Цилия Лачева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– Молодец, – повторил инженер, садясь к столу.
– Не хотите булочку? Или конфеты?
– Булочку – да. Я не обедал. Столько работы…
Булочка была еще теплой, Евдоким, разрезав ее, положил внутрь кусок овечьего сыра. Христов с удовольствием жевал, не отрывая глаз от чертежа.
– Знаешь, – сказал он наконец, – эта девушка очень способная.
– Знаю.
– На твоем месте я бы ее не упустил… В молодости человек делает массу ошибок. Некоторые вещи просто проходят мимо него… И уходят навсегда.
Евдоким подкинул в печку несколько поленьев. Стекла дрожали под давлением противного ветра. Поле потонуло в снежной крупке, которая так скреблась в окна, словно просилась впустить ее в тепло.
Христов встал, открыл дверцу печки, вынул горящую щепку, прикурил. Потом подошел к окну и долго смотрел на это зимнее чудо – снежные пелены, точно крылатые какие-то существа, налетавшие откуда-то с космической скоростью, грозили затянуть в свои водовороты людей, дома, машины, все на свете.
Чудо длится недолго: пелены истончаются, тают, летят в небеса белым пеплом, и солнце заливает поле своим магическим, но таким живым, реальным светом… Что-то нежное, зеленое трепещет на холме – может быть, поспешившая раньше всех сроков верба? Или поле озимой пшеницы, оголенное ветром?
– Знаешь, – сказал он Евдокиму, стоя спиной к нему, – у меня дочь есть. Ей лет пятнадцать. Я-то было вообразил, что нашел ее. Встретился с ней – это девочка Юруковых. Оказалось, не она, не моя – я сразу это понял.
– Кровь не заговорила… – начал Евдоким, но инженер перебил:
– Кровь обычно не обманывает матерей. Но я другое почувствовал: не может этот одноклеточный организм быть моим созданием. Какое-то безликое, белесое существо.
– Да девчонка-то неплохая, – пробормотал Евдоким, питающий симпатии к Юрукову и его дочери.
– Нет, конечно, неплохая. Но закваска не моя.
Христов резко повернулся к Евдокиму (высокий смуглый лоб, четко очерченные губы и решительный подбородок – действительно, ничего общего с миленькой флегматичной Зефирой) и сказал:
– А я скоро уеду. На Урале у наших коллег накоплен огромный опыт, обещали поделиться. Сразу заполнятся пробелы в моей работе. Представляешь, с какой скоростью я ее двину вперед?
Он счастливо потирает руки. Что ж, понятно: нащупал наконец спасательный пояс и заветная мечта близится к осуществлению. Самому Евдокиму новость также приносит облегчение: теперь-то Драга утихомирится, и они станут жить, как другие молодожены на заводе, замкнувшись в своем личном мирке, в комнате, в теплой, уютной постели.
17
Ярмарка в самом разгаре, а народ все прибывает. Люди снуют взад-вперед, останавливаются возле голубовато-сизых дымков, витающих над жарящимся мясом. Вокруг – перевернутые бочки, под ними кое-где лужи, густые и темные, будто закололи поросенка. На вытоптанном снегу – столы и стулья, недавно покрашенные зеленой краской, на столах – куски хлеба и колбасы, стручки жгучего перца, смятые газеты под царственной тенью бутылей, отбрасывающих красные отблески – яркое солнце пронзает их лучами, точно кинжалами.
Зефиры нигде нет. Верно, какой-то наглец, которого Юруков ненавидит (хоть еще вчера и не предполагал, что способен на ненависть), смотрит сейчас, как он между столами пробирается в поисках дочки, вместо того чтобы дома, в тепле, сидеть да радоваться.
И вдруг он замечает Цанку, которая сидит одна, в конце уродливого стола, будто отброшенная туда этим веселым пиршеством, не принявшим ее. Одета в мышиного цвета пальто, на голове платок – ни вдова, ни мужняя жена. Робко помахав Юрукову, Цанка ждет, когда он приблизится, и кивает на кусок жареной колбасы, лежащей перед ней на тарелке.
– Заказать тебе? Свежая.
– Зефирку не видела?
– Да вроде мелькнула где-то тут – с полчаса назад…
– Одна?
Цанка задумывается, морща низкий упрямый лоб.
– Да вроде одна. Сказала: «Здравствуй, Цана». Зачем она тебе? Случилось что, бай Стамен?
Цанка изменилась за последнее время – так и ждет чего-то плохого то для себя, то для своих друзей, по собственному опыту знает: плохое – как молния – быстро и беспощадно…
– Да нет, ничего, – качает головой Юруков.
Моментально забыв Цанку, сидящую над унылой колбасой и стаканом лимонада, он прокладывает себе локтями дорогу в толпе: с кем здоровается, кого минует, не замечая. Навстречу попадаются девушки из первого цеха – в национальных костюмах, набеленные, нарумяненные. А украшения, бог мой, – и перья, и мониста, и бумажные цветы в волосах, все какое-то ненастоящее, ненадежное, того гляди разлетится. (Сельские их корни, думает Стамен, уже истончали и вот-вот оборвутся, как эти самые мониста.)
– Зефирку не видели?
Одни хихикают, другие пожимают плечами (лица – маски лукавого испуга), третьи отводят глаза. Он уходит от них, чувствуя, как сжимается сердце. Огромными своими башмаками ступает он, оскальзываясь, через покрытые глазурью кувшины и горшки какого-то торговца. Тот грубо кричит вслед:
– Эй! Я для того трудился, чтобы ты мне товар перебил? Он для людей сделан, не для бешеных жеребцов вроде тебя!..
Юруков еле сдерживается, чтоб не ответить. Вытащив бумажник, платит за разбитое (детский горшочек, который он пнул) – и в этот момент видит Зефиру. В материном пальто (совсем новое, с меховым воротником) и розовой тончайшей косыночке она – как лесная фея, которая не боится, как говорят, «ни сглазу, ни морозу»… Юруков стоит, потеряв дар речи, горло его сжимают спазмы.
Зефира не одна, с ней парень в красной куртке и черных брюках, с непокрытой головой. Коротко подстрижен («Как сбежавший арестант», – думает Стамен), волосы грязные. («Хулиган, соблазнитель невинных девушек!..») Они разговаривают, смеются, не чувствуя, что опасность близка, неотвратимая, как сама судьба. Зефира, увидев отца, застывает, губы ее кривит досада, в глазах – испуг. Стамен почти с неприязнью смотрит на ее накрашенные щеки – на холоде они у нее белеют, поэтому отец безошибочно догадывается, что малышка нарумянилась. Чтобы понравиться этому типу…
– Быстро домой! – Он с ненавистью смотрит на парня. – Мать извелась вся!..
– Да ну тебя, папка, – нервно отвечает Зефира. – До ночи еще далеко – солнышко светит, людей вон сколько.
– Давай-ка без разговоров!
Волосы у парня, оказывается, блестят, они недавно вымыты. Стамен бросает взгляд на его башмаки – толстые, хорошо начищенные, с новыми шнурками.
– Это Светозар, – говорит Зефира, – мой знакомый. Он здесь служит.
– Разрешите представиться, – говорит парень. – Светозар.
И вглядывается напряженно в лицо Юрукову маленькими серо-голубыми близко посаженными глазами. Лицо у него совсем детское, в веснушках. Стамен, повидавший на своем веку немало разных людей, успокаивается: взгляд у парня цепкий и холодный, но честный.
– Он техникум закончил. Резчик, – добавляет Зефира, и в голосе ее сквозит восхищение. – Посмотрел бы ты его работы. Светик, покажи хотя бы фотки!
– Нет у меня с собой, – противится парень.
– Успеем, – примирительно говорит Юруков и хватает дочь за руку. – Сейчас у нас дел невпроворот, нам еще рано по свиданиям да по ярмаркам бегать – школьница, мала еще.
Зефира, вырывая руку, кричит:
– Не мала!
– Ладно, – кивает Стамен. – Не мала, но и не велика! Пока, Светозар, весело тебе погулять.
Взяв дочь за плечи, он проталкивает ее через толпу, которая то накатывается, то откатывается и шумит, словно морской прибой.
Где-то поблизости бьет барабан – мощное сердце джунглей, – подсыпает в кровь жгучего перца, кричит о любви и счастье и дразнит, дразнит делового, порядочного человека (каким обычно ощущает себя Юруков).
Он решительно подталкивает дочь к машине – скорее впихнуть ее, посадить рядом с собой, захлопнуть дверцу и кнопку нажать… В последнюю секунду Зефира, рванувшись, высвобождается из его рук, порвав материну косынку.
– Вот, все из-за тебя! – кричит она отцу и плачет, по-детски скривившись: У-у-у!..
Ее прозрачные русалочьи глаза округляются, она похожа на маленькую колдунью.
– Ничего, новую купим, – успокаивает ее Стамен и снова берет за руку своей страшной, привыкшей к огню и железу рукой.
Зефира вырывается, хватает отца за волосы и дергает – будто в шутку, по-детски, но так, что ему становится больно. И все-таки ему удается засунуть ее в кабину. Но девчонка вдруг захлопывает дверцу, и Стамен, побелев от ужаса, видит, как она включает зажигание («Вот черт, ключи забыл вытащить!») – и машина трогается у него перед носом, медленно, уверенно, прямо через толпу. Он бросается за ней – с дрожью в коленях, онемевший. Руками размахивает, как пустыми рукавами… Стамен не помнит, сколько времени прошло (этого времени было безмерное количество!), прежде чем машина остановилась. Зефира открыла дверцу:
– Видал?
Лицо у нее гордое, сияющее – она убеждена, что для отца это приятная неожиданность. Юруков садится рядом на сиденье, еле переводя дух. И вдруг, подняв дрожащую руку, бьет Зефиру – не со злости, просто от нервов. Щека вспыхивает, точно ее кнутом хлестнули.
Машина, пробираясь по скользкой дороге, юлит, вертит задом.
– Ты не имеешь права меня бить, – произносит наконец Зефира.
– Имею. Я тебе отец.
Молчание становится зловещим. Зефира, завязывая сползшую порванную косынку, произносит новым, несвойственным ей голосом взрослой женщины:
– Нет, не отец. И ты это прекрасно знаешь.
Никто не видел ужасной вспышки, никто не слышал грохота взрыва – только Стамен. Но он продолжает спокойно крутить руль, и машина выезжает на гладкое, надежное шоссе.
– Не отец? – Он и сам поражен чудовищной неправдой этого утверждения. – Кто тебе сказал?
– Какая-то тетенька – мне тогда лет шесть было.
Стамен уверенно ведет машину мимо развалин. Высоко в облаках бесшумно кружат стервятники.
– Да чепуха это все, – спокойно говорит Зефира, вздыхая, как смирившаяся взрослая женщина. – Сначала я собиралась идти свою мать искать. Маленькая была, глупая…
– А что ты сейчас думаешь, большая да умная?
Его одеревенелые губы едва шевелятся.
Голос у девушки легкий, беззаботный, она смеется над своей детской глупостью.
– Да ничего не думаю. Нужна мне эта мать! Таких тысячи… Если каждый свою мать искать кинется – ну и путаница же начнется!
Юруков кивает – действительно, все следственные органы, все власти только тем и будут заниматься. Из распавшегося и разрушенного, из скользящих и исчезающих теней придется им создавать что-то прочное и величественное – мать! Из воздуха – вечный бетон…
– Да и зачем она? – продолжает Зефира весело (забыла уже отцовскую пощечину). – Мне и вас хватает…
Она вдруг поворачивает к отцу свое лукавое личико, на котором все еще горит красный след, и спрашивает, восхищенная собой:
– А признайся-ка, папочка, душа в пятки ушла, когда меня за рулем увидел? Да меня Светозар научил! У его отца тоже машина есть. Он такой милый, ну почему он тебе не понравился?
Отвернувшись, Зефира смотрит на белое поле в темных полосках – как корки на заживающих ранах. И вороны клюют именно эти раны… Светозар сегодня посмотрел холодно и насмешливо, когда отец потащил ее, точно теленка. А они ведь то и дело говорят о равноправии: Светозар ей внушает, что она свободная личность и может распоряжаться своей душой и телом, как ей заблагорассудится. И надо же – с ней поступили (да еще у него на глазах!) как с запуганной, затурканной женщиной прошлых веков. Зефира вздыхает: вот, осталась теперь одна, без милого. А если начинать с рождения – так и вообще она одна на всем белом свете. Знать, такая уж ее доля несчастливая… Но почему-то неизвестно откуда взявшееся огромное-преогромное счастье заливает все ее существо – и нет в душе места для уныния! Может быть, потому, что поле белым-бело, а машины проносятся мимо, как весенние стрелы, и шоссе впереди чистое и ровное, и сама она – молодая, здоровая и, конечно же, привлекательная, и ждет ее счастье – в этом Зефира уверена.
Будущее замерло где-то вдали, за хребтами, за той нахмуренной сине-черной горой, над которой сыплется нескончаемый снег…
Ее мысли, по-детски непоследовательные, летят в другую сторону, и вдруг она выпаливает:
– Папа, а я ведь видела инженера Христова. Как раз в ту ночь… Светозар мимо нашего дома на грузовике проезжал, остановился на минутку, камушек в окно мне бросил. Я вышла, он и говорит: давай пройдемся, кругом ни души. Тогда мимо нас инженер и прошел. И ты с ним – ругались вы из-за чего-то, и ты меня не заметил…
– Я?
– Ну да. Я испугалась, мы в темноте притаились, вы и прошли.
Юруков молча сжимал баранку, смущенный и подавленный. («Бог мой, моя дочь…») Инженер его интересовал мало.
– Ты обозналась, – промолвил он устало.
– Нет! – упорствовала Зефира. – Я людей хорошо различаю, даже ночью…
– Никому не говори, – велел Стамен. – По милициям затаскают…
Зефира кивнула. Но вообще-то забавно было бы заглянуть в милицию, старое здание с желтыми стенами, к тому старикану – к следователю, поторчать у него в кабинете, пусть-ка он подопрашивает ее. А потом поискать Светозара – как бы ему наряда не влепили за самоволку…
18
Встретившись со следователем, Евдоким все ему рассказал – как пришел тогда инженер Христов, как они пообедали вместе, как, разоткровенничавшись, тот поведал о своей дочери и поделился планами, связанными с поездкой на Урал.
– Может, он уехал уже? Получил визу и – хоп! – на самолет. Не успел никого поставить в известность, понимаете?
Нельзя сказать, что, сообщая это, Евдоким беспокоился: говорил как-то вяло, грызя при этом то ли соломинку, то ли спичку и опустив сонные глаза.
– Плохо спишь? – спросил Климент, заметив, что парень небрит и синяки под глазами такие, будто он неделю не ел и не спал. – Ты не болен?
Выплюнув соломинку, Евдоким ответил, что чувствует себя лучше некуда, просто извелся в ожидании того часа, когда поедет в Дрезден: посылают от завода на специализацию.
– Я знаю, – кивнул следователь. – Надолго?
– Мне хватит, – сказал парень и будто через силу зевнул. – На полгода. Хоть лично я думаю, что лучше всего человеку у себя дома.
Замолчали. Евдоким наконец поднял глаза на следователя – тот был все такой же, в широком черном пальто, без шарфа, с непокрытой головой. Волосы на висках слегка вились, спускаясь книзу старомодными бачками.
– Ты о доме сказал… Где сейчас живешь?
– В общежитии.
– У тебя ведь есть свой дом?
– Далеко. Здесь удобнее.
Они распрощались, и Евдоким вскочил в автобус, сам не зная, куда поедет.
Затяжная, мучительная весна пробиралась по полям, оголяя красную, похожую на молодое мясо землю. На придорожных кустах уже набухли твердые чешуйчатые почки, готовые противиться холодам, если те вернутся. Растекались вширь лужи – мутная вода без души, отражающая только саму себя. Подножия холмов начинали потихоньку зеленеть, но озимая пшеница выглядела больной – покрылась желтыми какими-то пятнами. По низкому небу ветер перекатывал тяжкие серые облака, похожие на осенние.
По стеклам автобуса стекали капли. Весь пейзаж за окном изрезан был кривыми потоками, сливающимися на стеклах в крупные круглые капли. Сиротливо засунув руки в карманы, съежившись, Евдоким закрыл глаза.
Тогда инженер ушел, пообещав вечером позвонить Драге. И позвонил. Она вернулась из прихожей, от телефона, с просветлевшим лицом и сразу же села за чертежи. Около часу чертила. Евдоким читал газету, наблюдая за ней. Его взгляд скользил по крупным заголовкам, полным напряжения хрупкого нашего мира. Потом просмотрел и подзаголовки и остановился на передовой статье, которая пророчила: планета превратится в пустыню, покрытую радиоактивной пылью, если кое-кто не поумнеет. Неужели нельзя, подумал Евдоким, придумать приспособление, чтобы с его помощью вливать разум в глупые головы? (Скажем, в ухо, через тонкую такую трубочку… Или, к примеру, любовь в сердце – посредством сложной системы лучей…) Он попытался представить себе белую безжизненную пустыню, зараженную радиацией, освещенную сине-зеленым ядовитым солнцем, – и вздрогнул, услышав голос Драги.
– Газету читаешь, – смеялась она, – а на вторую страницу и не поглядишь. Вот там-то как раз и можно увидеть несколько знакомых тебе имен.
Евдоким, поискав, нашел ее имя, сопровожденное несколькими приятными словами о женщине с мужской профессией и четко определенной целью жизни. Он жадно искал и свое имя – его не было.
– Я говорила с Юруковым, – словно читая его мысли, сказала Драга. – Спрашиваю: почему моего парня нет? Он обещал похвалить тебя в ближайшем будущем. У тебя, говорит, дела пошли…
Евдоким зашелестел газетой. Было что-то отвратительное в этом чтении: целая колонка, составленная из имен твоих коллег, а тебя там нет. Будто все шагают в ногу, один ты не в ногу.
Но каким прекрасным, сладостным был тот вечер, когда, сварив вермишель, Евдоким накрошил в нее брынзу и накрыл маленький столик, за которым они обычно ужинали. Оба были голодны, но важнее еды был разговор за столом: они строили планы на будущее.
Легли рано – Драге надо было вставать в пять утра, чтобы просмотреть по конспекту еще три вопроса. Он ласкал ее, целовал ее лицо (она была его прекрасной покровительницей, вышедшей из детской книжки, которая навсегда осталась в гардеробе возле его детской кроватки, возле полки с книжками и игрушками, в доме госпожи Евдокии). Покровительница всегда рядом с ним, рука в руке, они как сверстники, давшие обет не расставаться до самой смерти – до той последней, страшной пустыни, где они, две одинокие тени, будут бродить вдвоем… Евдоким прижимался к ней, чувствуя каждый изгиб ее тела, теплого и гладкого, как зрелый плод. От ее прикосновений он чувствовал себя сильным, мужественным и гордился собой. Драга умела внушить ему, что он у нее – единственный, любимый навсегда. Но в ту ночь Евдоким вдруг начал расспрашивать о ее жизни с Димой. Позволил себе, обуреваемый ревностью, подшутить над этим пьянчужкой. Драга нервно прервала его:
– Пожалуйста, перестань!
– Почему, скажи? Ты от него видела хоть что-нибудь хорошее?
– Он умный.
Голос Евдокима дрогнул, когда он спросил:
– А я – глупый?
Как черное солнце, всходило над головой Евдокима одиночество, тянуло к нему жадные руки.
– Он цельный, упорный, энергичный! Если бы он не пил…
– Но ведь пьет же как вол – пьянь он от рогов до хвоста!
Злоба душила. Откинув двухспальное одеяло – собственность Драги, – Евдоким босиком прошлепал к окну. Смотрел в мутное небо, по которому ползла сквозь облака пористая, как ископаемое, неживая луна.
– Ложись, озябнешь, – спокойно сказала Драга. – Ты же знаешь: Дима больше для меня не существует.
Он вернулся. Она обняла его обеими руками, как маленького, и Евдоким заснул, точно в колыбели, огражденный теплым, надежным этим кольцом от ночного, заснувшего мира. Будущее он принимал только таким.
А оно, это будущее, вскоре увяло, точно комнатный цветок, лишенный воды и света.
Они были одной семьей, у них была общая касса (в левом ящичке буфета), комната была распределена (с поцелуями, по доброй воле). Евдокима даже баловали. У него была постель, книги в небольшом книжном шкафу и мягкий стул около печки. У Драги – письменный стол, гора учебников и чертежей. Она стирала с них пыль и ревниво оберегала от любопытных гостей, которые везде совали свой нос. Она была одновременно и щедрой и экономной. Они не говорили о деньгах, каждый брал из общей кассы столько, сколько ему было нужно, на еду, одежду или какую-нибудь мелочь. Евдоким ездил за продуктами на «фиате». Грузил в него фрукты и молоко – любимую еду Драги. Для себя брал кусок мяса или колбасы. Обедали обычно в столовой, садились вместе. Но частенько попадали и в разное время, потому что заняты были встречными планами. Драга «просеивала» предложения бригады. Старалась добиться, чтобы каждый внес что-то умное, полезное для всего производства.
– Мыслить им лень! – негодовала она, выжидательно глядя на Юрукова, который, как известно, прошел огонь и воду на разных стройках, фабриках и заводах.
– Жми на них, да и все тут, – советовал он. – Они внутри самого производства варятся и кипят с железом вместе, не может быть, чтоб им в голову ничего полезного не приходило.
И шла она от одного к другому, расспрашивала, настаивала, теребила, пока человек, ухватившись за какое-нибудь ее слово, за какую-нибудь ее мысль, не соображал: ну просто рядом витала идея, только он ее почему-то не замечал! Драга приходила к Юрукову с какой-нибудь бумажонкой, и после рабочего дня они забирались к нему в комнату и под светом лампочки ломали головы над этой бумажонкой, то и дело препираясь. Год был трудный. Драга, поощряемая Юруковым, настолько отдалась своим обязанностям и так рьяно выуживала идеи и рацпредложения, что обедала когда придется или не обедала вовсе. Приходя домой, валилась с ног от голода и усталости.
Евдоким стаскивал с нее сапоги, нежно и бережно растирал ноги, ворча при этом:
– Ну зачем ты так убиваешься? Им-то на все плевать!
– Как бы не так – сегодня шестнадцать рацпредложений…
– И сколько из них стоящих?
– На данный момент около семи, – честно ответила она, подумав.
– Не маловато?
– Наоборот. В них и тонкая наблюдательность, и ум, и практичность… А ты ничего не предложишь?
– Я тебе предложу редиску, совсем свежую, и брынзу. Она пахнет глубокими пещерами, в которых зрела года три, не меньше.
Накрыв стол скатеркой, Евдоким подвинул его к кровати, где лежала Драга. Она позволила себе поужинать лежа, но ее голова по-прежнему была занята дневной суетой.
– Фани! – воскликнула вдруг она. – Про Фани я и забыла! И Цанку расшевелю.
– Она много возится со своей дрянной машиной… На днях опять ремонтировала. А в голове у нее все тот же «казенный дом». Думает, одного слова хватит, чтобы мужа вернуть, да слова этого никак не вспомнит.
– Оставь, не серди меня.
Летели дни и ночи. Не успеешь глазом моргнуть – их как не бывало. Евдоким в работе вперед не рвался, но и не отставал, чтобы стыдно не было перед бригадой и больше всего – перед Драгой. Он скрывал свою любовь от чужих взглядов, от этого пестрого столпотворения, которое не останавливалось ни на миг в своем вечном движении. Одни уходили молча («Будто в воду канул», – говорили о таких), другие устраивали шумные проводы в ресторане – повод выпить и поесть с коллегами, чьи образы развеет первый же порыв попутного ветра. Одни искали работу полегче, другие – денег побольше.
Многие были обижены, что приходится работать в таком ветреном, неуютном, злом месте, – такие почему-то были слишком высокого о себе мнения.
19
Старый, опытный волк Юруков хмуро смотрел на парня, стоящего перед ним, – черненького, худенького, с начавшими пробиваться усами.
– И чего тебе вздумалось нас бросать, а? Только-только в бригаде пообтерся – и сбегаешь. Мы еще и имени-то твоего не узнали толком. Кто ты, какой ты. О чем думаешь. Может, не поняли мы тебя, может, не такие уж мы приятные люди, но видишь ведь, работа у нас серьезная, даже суровая. Может, она тебе не по сердцу?
Парень, кивнув, закурил. У него был большой нос и надменная, тяжелая нижняя челюсть. Юруков перелистал его тоненькую жизнь, вместившуюся в нескольких листках документов.
– И что же именно не нравится тебе у нас?
Парень кашлянул и посмотрел в окно – они сидели в маленькой комнатушке Юрукова, сравнительно тихой, но пыльной, будто покрытой копотью.
– Ну вот. – Бригадир безнадежно пролистал бумаги, лежавшие перед ним на столе. – Ничего блестящего не вижу… Тройка… Не очень-то большие успехи в техникуме – не стараешься, видно.
– Неинтересно мне.
Юруков поднял голову. Который уж раз он сталкивался с такими молодыми людьми – крутятся вокруг собственной оси, полуслепые, хватают воздух раскинутыми в стороны руками…
Стамен Юруков, наставник, спрашивал себя, какого черта ему без конца попадаются такие вот ребята, протирающие джинсы в новых пивных или попивающие кофе где-нибудь в темном уголке, спиной к двери… Работают лениво, с презрительно сжатыми губами. Вот один из них. Юруков дал себе слово поставить парня на ноги, вбить ему в голову сознательность, почтение к рабочему делу. И вот, на́ тебе, провал – и для него, и для парня.
– Послушай-ка, – продолжал он. – Если ты захочешь, ты можешь стать настоящим строителем, понимаешь – место свое найти. А я тебе помогу. Честное слово.
И Юруков приложил руку к сердцу.
Парень проследил за этой рукой и снова отвел глаза. Его смутил искренний порыв бригадира, о котором он до сих пор имел вполне определенное мнение: старый человек, работяга, который и понятия не имеет о радостях жизни.
– Послушай, – повторил Юруков. – Если работа у печи тебе не по силам, я тебе другую подыщу, полегче.
Он перечислил две-три должности, которые все-таки были около него, около его печи (но, конечно, те, что полегче). Парень хмурился и подергивал плечами, точно конь, сбрасывающий узду. В его пестрых красивых глазах Юруков прочел недоверие, даже страх: видно, подозревал, что лукавый начальник хочет обманом приковать его тело и душу к той страшной печи, от которой он пытается бежать.
Юруков понимал, что теряет его. Но что было делать? Он последовательно и спокойно перечислял парню одну профессию за другой, словно торговал ими:
– Сварщик – классная профессия. С нею – весь мир твой! Дальше: экскаваторщик…
– Хватит, – сказал парень и отвернулся к окну. – Весь мир мой? Как бы не так… А что плохого-то в том, что я от этой работы отделаться хочу? Не по душе она мне, не люблю я ее, и все тут.
– А что любишь? Что тебе по душе?
– Это уж мое дело. Больно странные вы все… – Парень запнулся.
«Видно, хотел сказать – „старики“, – подумал Юруков. – Хочется пожить вот так, для собственного удовольствия… и вдруг – нет! Запрещено! А что из того, если хочется попутешествовать, пожить около моря, на какой-нибудь турбазе?..»
– Распластаться в тени под грибком, а около тебя пусть шумят пальмы, – продолжал бригадир уже вслух, – и бренчат гавайские гитары. Да, мальчик мой, и я, бывает, мечтаю об экзотике. Только стоит она миллионы левов, да еще в валюте… А у нас с тобой свои задачи, ясные всем нам и близкие каждому, у нас свое лето, свое море…
– Ну никто не понимает! – закричал вдруг парень. – Кошмар какой-то. Мой отец тоже вот так, сразу: бездельник, лентяй, ничего из тебя не получится!.. А если получится? А? Несмотря на то что мне «хочется чего-нибудь такого», как в песне поется.
– Не знаю, – ответил Юруков с сомнением. – Обычно люди, из которых что-то получается, по-другому стартуют. Это уж точно, поверь моему опыту.
Парень поджал губы (видно, чтобы не дрожали), всем своим видом давая понять, сколько «знаменитостей» встретил он в муравьиной строительной семье.
– Потерял сегодня человека, – сказал бригадир. – А жаль…
Он обедал с Евдокимом. Настроение было подавленное: гордость военачальника, делящего с солдатами и хлеб, и тяготы суровых будней, поколебалась.
– Да оставь ты его! – успокаивал Евдоким. – Этот ушел – другой будет.
– Вот это-то меня и гложет. Мы ведь не постоялый двор: один ушел – другой пришел.
– Это жизнь, – сухо сказал Евдоким – и замер с ложкой в руке: в столовую вошел Димитр Пенев. Так стремительно ввалился, что створки дверей еще долго раскачивались, словно удивляясь ему.
Это был он, Дима, но совсем другой, непохожий на себя прежнего.
Юруков побледнел. Дима, его самый любимый ученик, за которого он переживал, как отец за блудного сына, шел к ним – очень похудевший (без животика обжоры и кутилы), подстриженный, выбритый, в сером костюме и белой рубашке, необыкновенно красивый и строгий и даже будто далекий и чужой всем. Люди, недоумевая, столпились вокруг, один кинулся к нему с объятиями. Дима отстранился и лишь протянул руку. Бригадир отодвинул тарелку, встал. Евдоким тоже попытался подняться, но ноги были как ватные. Земля вертелась у него под ногами. Внутренняя дрожь, глубокая, как водоворот, с тихим рычанием полегоньку рушила самое сокровенное, создававшееся долго и терпеливо (в сознании его возникли какие-то фигуры, похожие на чудесные, но такие хрупкие пещерные цветы).
Тем временем Диму стали звать к себе чуть ли не за каждый столик – подымали стаканы, предлагали выпить за встречу. Он, кивая, махал рукой. Его лицо, безусое и безбородое, без шапки кудрей, выглядело сухим, острым, настороженным. Новое лицо.
– Эх-хе-хе-е, – вздохнул Юруков, успокаиваясь и снова принимаясь за суп. – Вернулся как человек. Вернулся под родную кровлю.
– Остается? – спросил Евдоким тонким, срывающимся голоском.
– Остается! – кивнул бригадир. – Сдал экзамены, готовит дипломную работу. А тот желторотый: нет, мол, больших людей на нашей стройке! Видите ли, нет людей, достойных подражания. И в цехе у нас есть. Присмотрись только, придави свою лень да раскрой глаза пошире. Юруков продолжал, говорить, сияя глазами и помахивая то одному, то другому, будто принимая поздравления по случаю своего личного успеха. Евдоким, потемневший и молчаливый, забыл о еде и боялся смотреть в сторону Димы.
20
Спустя четыре дня, под вечер, среди обычных будничных разговоров, скрывающих напряжение, Драга наклонилась за веником.
– Подожди, давай я, – опередил ее Евдоким.
Он подмел возле печки, чувствуя на себе взгляд – теплый, виноватый. Он знал, что их ждет. Ожидал этого с той минуты (будь она проклята!), когда его бывший приятель вошел в столовую, точно из мертвых воскрес.
– Послушай, миленький, похоже, что придется тебе исчезнуть, – сказала Драга. – Так уж получается.
– Дима? – спросил Евдоким, ставя веник на место.
Она помолчала, вероятно желая смягчить удар.
– Отчасти. Видишь ли, без него расчеты идут медленно. Ну а я помогу ему с дипломом.
Евдоким, положив руки на пояс, осмотрел комнату – другому предстояло стать хозяином его маленького царства. Другой будет спать в этой постели, колоть дрова, подсчитывать, сколько потратил на покупки…
– Видишь ли, цыпленочек, ты найдешь себе другую. Ты такой красивый, что все женщины будут твоими, стоит тебе только пожелать.
– А если не пожелаю?
В голосе его звучала угроза. Драга оделась, накинула на голову шарф и ушла, тихонько притворив за собою дверь, будто оставляя в комнате больного или человека, осужденного на пожизненное заключение.
Евдоким вытащил сумку, открыл гардероб. Быстро вытаскивал свою одежду, словно вырывая ее с корнем, – не так уж много ее и было. Некоторые вещи вызывали воспоминания. Обломки прежней жизни – пиджак и светлые брюки. «Для прогулок», – сказала тогда Драга… А вот пуловер – было очень холодно, они зашли в магазин погреться… «Синее – твой цвет». Штиблеты остроносые. «Я не люблю мужчин с маленькими ногами». А вечером измеряли ступни – слава богу, его ноги оказались немножко больше. Шарф – он сам себе его подарил с первой премии. Целая одиссея, вотканная в неподвижные и бездыханные вещи, будто снятые с умершего прошлого.








