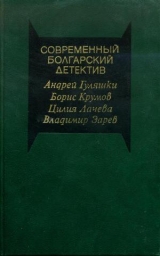
Текст книги "Виновата любовь"
Автор книги: Цилия Лачева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Евдоким повел ее вниз, ступенька за ступенькой, будто они спускались в преисподнюю, или в чистилище, или в мясную лавку, где, оценив ее на глазок, ее тут же и отвергали. (А у нее ведь ноги красивые…)
Внизу все веселились, хозяин предлагал гостям вино – настойчиво, громогласно. Меглена ходила с кувшином от бокала к бокалу, наливала торжественно, точно невеста сватам. Вино – темное, цвета шелковицы – пенилось, играло. Фани села и засмотрелась на Стилияна Христова. Он смеялся – зубы у него были крупные, белые, кожа собиралась в углах губ нежными морщинками. Пригладив ладонью черные блестящие волосы, он провел пальцем по аккуратным усам. Ах, как же он важничает! Женщины его любят больше, чем Евдокима, а ведь тот молод и просто-таки ослепительно красив. Значит, разбросал повсюду детишек? Бедный Христов, несчастный папочка! И как только Фани попалась на эту сентиментальную чушь?
Одинокая, погрустневшая, она выпила бокал до дна. Ей налили еще. Дима, пригласив на танго, крепко к ней прижался и горячо задышал в шею – обжора, выпивший сто бочек вина… Фани оттолкнула его и нечаянно села на чьи-то колени – на колени Стилияна Христова.
– Я тебя провожу, – сказал он. – Мы жребий бросили.
– На мои тряпки? Я их отдам и без жребия.
– Ладно, – сказал он рассеянно, – перестань хандрить.
Он поставил машину довольно далеко, и можно было пройтись и проветриться после угощения. Мягкий, таинственный свет, словно отблески далекого пожара, освещал улицу. Деревья роняли крупные влажные листья, они прилипали к каблукам.
– Что чувствуют деревья осенью? – спросила Фани. – И что видят во сне дикие птицы? Скажем, горлица? Есть вещи, которых никто не знает.
– Я знаю, – засмеялся Стилиян. – Горлице снится страшный сон: ее подают жареной, с гарниром из баклажанов.
Шутка не удалась, и дальше они долго молчали.
– У меня сегодня день рождения, – сказала Фани, посмотрев на часы. – Именно сейчас мне исполняется девятнадцать.
Стилиян схватил ее руку, остановился.
– Э, мы просто обязаны это вспрыснуть!.. – Глаза его смеялись.
Перейдя на противоположный тротуар, где всеми своими витринами светилась просторная пивная, они вошли. Там было пусто.
– Выберите себе стол по душе, – встретил их заведующий. – Инженер, это твоя невеста?
– Может, она будет ею, – ответил Стилиян, не глядя на Фани.
Заведующий поздоровался с ней за руку и, разговаривая, сжимал ее пальцы, не отпуская, – явно принял за шлюху.
Выпили, чокнувшись, и Христов настоял, чтобы они смотрели в глаза друг другу.
Машина оказалась старым «фольксвагеном», Фани скользнула в нее легко и независимо, будто не в первый раз. Шумело в голове. Стилиян за рулем был красив – и тоже независим. Фани представила себе, как пригласит его в дом, достанет из холодильника лед, мороженое и дыню, откроет бар, в котором подобраны дорогие напитки. Скажет, что все это, все, что он видит: платья, купленные в модных ателье, цветной телевизор, японский магнитофон, и белый «мерседес» в гараже, и дача у моря, – все принадлежит ей. Удивится он? Интересно, какое будет у него лицо. Начнет особенно рьяно ухаживать за ней? Предложит ей себя? Нет, не надо его унижать.
Она попросила Стилияна остановить возле маленького домика, прилепившегося к ее роскошному кооперативу. (Ее окна светились во мгле, как шелковые абажуры.)
– Я живу здесь… с приятельницей, – соврала Фани, выходя из машины.
Махнула ему – и осталась стоять до тех пор, пока он не исчез, свернув на перекрестке.
Этой ночью она вышла с бабушкой из единственного вагона какого-то поезда. Раскрыв свои черные крылья, вагон, словно стервятник, улетел в небо, ослепительное от жара. Вокруг простиралась пустыня – бесконечные красноватые пески. Надо было поддерживать бабушку, которая плохо видела, вести ее, чтобы она не упала. Они куда-то шли – где-то их, кажется, ждали ее родители… Фани проснулась с ощущением жажды и тяжестью в голове. И вдруг услыхала шаги бабушки в холле – неуверенные, шаркающие, как у слепого, не знающего, куда ему ступить…
15
Ударили поздние, каких и старожилы не упомнят, морозы – настоящее бедствие для строительства, где целые дни проходят на улице, когда под навесами, а когда и просто под открытым небом. И сама беготня по этому не слишком обжитому месту создавала затруднения – бегом до цеха, потом до столовой, оттуда в баню, в административные здания, в библиотеку… Бессчетное количество тропинок перекрещивались, встречались и разбегались, живые и подвижные. С полей налетал мощный ветер, от которого невозможно было укрыться, синяя снежная изморозь липла к деревьям, талая вода проникала в оконные щели, за поднятые воротники спешащего люда. Поле, все еще не застроенное, бушевало и звенело, совсем как в древние времена, когда здесь велись битвы за выживание среди голых камней, диких трав да красной земли, не нужной ни руке человеческой, ни случайному дикому семени. Сугробы, нахмуренные, чернильно-черные, точно вдовьи платки, стояли, не боясь снегоочистителей, которые скулили и давились, не в силах сломить их в яростной борьбе. Грузовики с ревом откатывались назад, как ошпаренные морозом.
Наконец строители всенародно вышли на борьбу со снегом, чтобы спасти землю, по которой ступали уже пять лет. С извечным своим оружием – лопатами, мотыгами и какими-то деревянными приспособлениями, не имеющими названия, – сгребали они отяжелевший снег и грузили на несколько допотопных грузовиков, забракованных временем. Машины работали шустро, жизнерадостно – словно старики, которые вышли на очередную (может быть, последнюю свою) демонстрацию. Зима внезапно стала суровой, куда только подевался сельский уют городка, полного одноэтажных домишек и дворовых построек, магазинов и кабачков, где можно выпить рюмку ракии, с навесами под древней чинарой, чудом уцелевшей, с гостиницей (бывшим монастырским постоялым двором), где собираются сделать музыкальную школу, и с толстой крепостной стеной, горбящейся посреди улицы, за которой можешь и сигарету прикурить, и словом перекинуться в безветренном уголке, точно никакого ветра нет и в помине.
А в поле – ни сигаретой, ни двумя словами не обменяешься: вьюга уносит все человеческое – лица, смех, слезы, текущие по носу, улыбки побелевших губ, хриплые или рыкающие звуки. Снег сечет, хлещет, и мускулы деревенеют и становятся непослушными, чужими. Но руки, одетые в толстые рукавицы, работают наравне со снегоочистителями, а потом человеческая сила берет верх, снежные горбы и морщины, облизанные лопатами, сглаживаются, тропинки становятся широкими, будто ведут к дому, поле одомашнивается, его берут на короткий поводок, рычание все еще слышится из белого его брюха, но это уже последние, затихающие отголоски. И вот оно покорено – гладкое, тихое, как накрахмаленное, с отблесками солнца – синими, розовыми и желтыми, и каждый кристаллик, сколь бы ни был он мал, мгновенно разлагая свет, вспыхивает, как бриллиант чистой воды. Машины отступают, поле расстилается, прямое и ровное, как только что развернутая бумага, люди, отряхивая штанины и плечи, идут по новой дороге к лавке. Направился туда и бригадир Стамен Юруков, но вдруг остановился: в этом черном муравейнике на белом снегу привиделась ему фигура исчезнувшего инженера Христова. Стамен догоняет низкорослого мужчину в полушубке и клетчатой кепке, но это незнакомец – видно, недавно приехал. Последние слухи были самыми правдоподобными: какой-то случайный на стройке человек убил инженера то ли умышленно, то ли не желая этого… Но возможно ли это? Ведь инженер-то не случайный человек на стройке, сколько людей его видят, сколько знают…
В лавке пахнет потом, мокрой шерстью и подогретой ракией, как в старых трактирах. Плечо к плечу. По линолеуму – талая вода. Когда Стамен Юруков, поработав локтями, добирается до стойки, слева поднимает запотевшую рюмку его коллега Радомирский.
Он показывает через плечо в угол – там, у стола, уселись молодые ребята (пар валит от их мокрых волос), они пьют, чокаются, снова пьют.
– На днях уезжают на специализацию – одни в Чехословакию, другие в Германию, третьи в Советский Союз… Черти… Минимум на шесть месяцев. Сломают мне аккорд… И теперь все равно что играть, если клавиши поломаны.
– А почему тебя не посылают? Или меня?
Юруков заказывает ракию на двоих (нет более сладостного и благословенного питья, чем эта жгучая ароматная водочка, полная клейкой щедрости виноградных ягод) и пьет, усталый до последней степени, охваченный счастливой леностью, которая нежными женскими пальцами гладит его кожу. Колени дрожат в приятной истоме, по спине медленно стекает капелька пота, будто перст божий благословляет его на что-то большое и вечное.
– Жили когда-то черепахи, – рассказывает коллега, – но постепенно вымерли, передохли от разных катаклизмов, и теперь остались, – он показывает свою ладонь, – вот только такие, на развод…
– На развод – но прочные, не раздавить!..
Галдеж усиливается, одни выходят, другие (их в три раза больше) входят. Рюмки скользят по мокрой стойке, мелькают островерхие меховые шапки, меховые куртки, целые меховые пальто – медвежьи. Будто это не наша, болгарская корчма, а какая-то безвестная, среди окаменелых снегов Аляски… Юруков выпивает еще одну порцию ракии (огненной, желтой, которая горит, точно подожженная спичкой) и уходит, а Радомирский кричит ему вслед:
– Купил себе еще один сервиз – одиннадцатый! Что скажешь?
Бригадир пожимает плечами и проходит мимо стола шабашников, которые, сразу его заметив, поднимают рюмки, шапки, кулаки:
– Подожди, дядя Стамо! Неужто пройдешь мимо?
– Счастливый путь, молодцы! Дождется вас дядя Стамен, не беспокойтесь, – отвечает он.
На улице его сразу обжег ветер – словно бритвой полоснул, бригадир кутает горло вязаным шарфом. Наклонясь вперед (железный организм уже превозмог отраву алкоголя, остался только приятный гул в крови), Юруков твердым шагом идет к автобусной остановке.
Дома он открыл почтовый ящик – там оказались две газеты, реклама абажуров и какой-то синий конверт с горным пейзажем. У сельских родственников Стамена не было привычки писать письма, они звонили по телефону, а некоторые приезжали и без звонка. Листок, вырванный из тетрадки, и на нем – несколько строчек химическим карандашом: «Знай, Юруков, что у твоей дочки есть любовник, и сегодня, в субботу, у них рандеву за городом, на ярмарке, и ежели ты узду не натянешь, можешь оказаться дедом. С уважением – доброжелатель».
Стамен, ослабев, привалился к стенке и снова перечитал каждое слово, но сознание отказывалось их осмыслить. Еще дважды читал он письмо, таинственная машина в его голове наконец сработала, усвоила сущность проклятого послания. Словно сигналы об опасности, вспыхивали мысли о страшной беде, грозящей его невинному чаду. Мерзавец какой-то! Наверное, он из тех, кто свел счеты с инженером и теперь продолжает жить-поживать в комнатке с занавесочками!.. Стамен перепрыгивал через ступеньки и мял послание в костлявом своем кулаке. Верно, все вокруг все знают, говорят за его спиной, только он, глупец слепой… Снова развернув письмо, он рассматривал буквы – они, как вши, были брезгливо нанизаны на строчки, наглые, наглые вши, приползшие, чтобы высосать его здоровую яростную кровь…
– Где Зефира?
Он задыхался, его лицо было мокрым от пота, приятное гудение алкоголя превратилось в бешеное желание рвать, швырять, орать.
– Потише… Она вышла с подружкой.
– Когда?
– Да с час назад, не помню точно.
Он глядел на жену, сдвинув набок ушанку, безумными невидящими глазами, нижняя челюсть у него дрожала. «Ну что за дура эта женщина – уставилась с открытым ртом, все мучения из-за нее…» Тайная эта мысль шевельнулась, как змееныш в яйце, и замерла.
– Ты не заболел? – спросила жена испуганно.
– Со мной все в порядке.
Он грохнулся на стул и посмотрел на часы – без четверти три. Окно сверкало, залитое зимним солнцем. Жена занялась своими делами – что ж, Стамен здоров, и значит, все в порядке и идет своим чередом.
А в доме, в сущности, никогда и не было настоящего порядка. Жалкое утешение – что дочь их собственная, как у всех нормальных людей вокруг… Стамен знал цену своей жене, постаревшей, пополневшей, мало похожей на ту, которую он выбрал когда-то. Виски у нее поседели, а засмеется – видны желтые зубы, точно у кобылы, уже изжевавшей овес, отпущенный ей судьбой. Много лет назад эти, из суда, развели бы их сразу – по причине бесплодия. И сейчас развестись не поздно, стройка (нет, жизнь!) полна молодых женщин, которые только и ждут, чтобы кто-нибудь женился на них и сделал им ребенка… Жена и не подозревает, какие мысли беснуются в мужниной голове, она начинает топить кафельную печку – сумасбродную печку, только она, жена, и может с ней управляться… Прилежно и терпеливо засовывает в нее старую газету, потом щепки, тонкие поленья, затем все более толстые – жертвенная кладка. Эта кладка поглотит холод, прозрачный и сверкающий, пронизанный фальшивым солнцем, и начнет посылать горячие ярко-красные лучи, навевая воспоминания о сладком запахе летнего леса, о певчих птицах, тоже таких же золотистых, с красными пушистыми нагрудниками… Сколько огней развела его жена с тех пор, как они вышли в путь! Сколько хлеба испекла, одежды зачинила, тазов надраила, чтобы светились, как луна, сколько раз багаж собирала, сколько разбирала, стирала и приводила в порядок при переездах с одной стройки на другую, из одного села в другое, у черта на куличках, из города, в котором будто бы бросит якорь, до города – там, где, лишь посмотришь на карту, мурашки бегут по спине… Эта родная, эта проклятая жена… Он сунул письмо в карман и снова нахлобучил ушанку, сдвинув ее набок.
– Ты куда? – спросила жена без удивления (такая уж работа, туда-сюда…).
– Скоро приду.
Он вел свою старую «шкоду» (а ведь было совсем ясно) с трудом: скользили шины. Да, он пил, если поймают – легко не отделается. Подорвет себе репутацию. Некоторые озлобятся, а те, которые выпивали и которых он корил, станут считать его лицемером. Одна только надежда тешила: что гаишники его знают. Доверяют ему. Обычно машут – все о’кей, поезжай, тезка, все бы люди были такие, как ты… Вот за поворотом самым коварным образом затаился один такой крепыш с красным от мороза лицом – кивнул дружелюбно, а затем, как в пантомиме, приказал ехать медленно, потому что, дескать, зима не шутит, а наоборот, мать ее…
Снег растоптан, раскрошен, превращен в манную кашу: в городе ярмарка, из окрестных сел стекаются селяне – показать, кто чего достиг, не упустить своей капли веселья – вещи, доставшейся почти даром, и выпивки, и доброго куска жареного окорока, свежего, сочного, нарезанного на порции, и утешения в раскованной, дружеской беседе. Грузовики, легковые машины, телеги… Очереди с их нетерпением, ожиданием и сдержанным ликованием.
Стамен Юруков был вне этого беспредельного стремления к радости, к полной распущенности ума и сердца, которые всю жизнь, как два вола, пахали на общей ниве… Он закусил губы. Во рту горчит, ладони потные – где же среди этих людей, едущих не упустить выигранное, найдет он свою Зефирку, проклятое свое, глупое дитя?.. Свернул, едва достигнув города, на одну улицу, на другую – красивую, на самом берегу, со знаком, охраняющим ее от автомобильных колес… Стамен благополучно протарахтел по ней, подумав, что Зефира, скорее всего, у косметички – и это в порядке вещей: отец готов пролезть сквозь игольное ушко, лишь бы спасти ее девичью честь, ее будущее, а она сидит у косметички. Вот мост, недавно отремонтированный, и столпотворение у тополей, над которыми уже занесены острые топоры, – целый город поднялся, чтобы остановить экзекуцию. Ярмарка – на большой поляне, которую огибает замерзшая речушка. Плетеная ограда защищает кошары, крытые ржавой соломой.
Юруков вливается в эту голодную волну молодости, пития, любви и трясется на малой скорости, мучая старушку машину, потому что здесь уже стоянка и каждый ищет себе место. Он паркуется в зазоре возле какой-то «лады» и, выйдя из машины, стоит с занемевшими ногами, засунув в карманы руки, напрягая глаза, которые, как назло, слезятся от мороза. Он смаргивает и кулаком вытирает эти старческие слезы.
16
Евдоким сидит в маленьком «фиате», оранжевом среди белых снегов, простершихся будто со времен сотворения мира, вездесущих, неисчерпаемых. Мягкое, воскрешающее дыхание весны не ощущается здесь ни низко, над полем, ни высоко, над облаками и горными вершинами. Забыта богом планета, тягостна, словно старость, долгая зима.
Машина принадлежит Драге, с которой он живет вместе уже третий месяц – в одной комнате, на одной кровати, по-монашески твердой, но Драга настелила на нее покрывал и накидок из грубого сукна, они греют, как овчина. В келье есть новая печка и буфет, выкрашенный в небесно-голубой цвет, который почему-то навевает мысли о детях, о невинных детских играх.
– Ты уверен, что дети так невинны? – спросила однажды Драга, накрывая на стол.
– Они почище взрослых… Так ведь пишут – невинные детские игры… Ты разве не читала?
Она рассмеялась зло, всезнающе, и Евдоким вновь почувствовал себя глупым и неопытным. Обманутым даже в своих детских играх…
Снег точно очерчивал дорогу, телеграфные столбы торчали на своем месте, выделяясь рельефнее обычного, а холм стал более страшным и угрюмым, укрытый белым полотном. А еще пишут, что снег все расцвечивает, создавая для человеческого глаза волшебную иллюзию. Еще одна глупость.
Проезжают машины, брызгают на «фиат» оранжевым светом, он совсем маленький среди мощных, огромных машин – допотопных пыхтящих чудищ, вылезших из своих древних пещер. Они настигают его, перегоняют, душат выхлопами, поливают струями грязи, черной, как тушь. Город непогрешим в своей геометрической белизне. Голуби блуждают вокруг колокольни, рябой от снега, который кое-где осыпался. Откуда столько людей в короткий зимний день? Евдоким пробирается между грузовиками, телегами, легковушками. Новая человеческая волна нахлынула в город, булочные полны народу, хлеб теплый, и даже на улице от него исходит душистый запах. А вокруг пахнет соломой, конским пометом, бензином. В магазинах – огромные куски мяса, ледяного, застылого, с него уже не капает кровь.
В доме тихая, какая-то непорочная чистота. Мать повязана платком, отец – в безрукавке и кепке, точит на кухне большой нож. Лишь там и тепло, а вообще у них в доме экономят деньги, уголь, одежду… Только на труд здесь и щедры.
– Это ты? – спрашивает мать, и что-то похожее на боязнь появляется в ее взгляде. – Откуда?
Он так часто покидал этот дом и возвращался в него – вот так, ниоткуда, – вполне естественно, что боятся… Нет, он приехал взять кое-какие вещи. Мать лукаво, задиристо (насколько она умеет) грозит искривленным от работы пальцем.
– Разные ходят сплетни… Ну, молчу, молчу. Что ты скажешь, как сам решишь…
Евдоким, насупившись, садится в кухне. Стул сделан из прочного орехового дерева – теперь таких уже нет. Отец снял кепку, трет лысину – постарел, оплешивел, недавно вышел на пенсию. Нож тоже затуплен, истончен от долгого употребления, но все еще делает свое дело и блестит, точно месяц в облаках. Отец вытягивает руки на столе (кости проступают сквозь кожу), смотрит на сына вяло, не ожидая от него ничего хорошего, нового – он и вообще от жизни не ожидает уже ничего.
– Слушай, – говорит он, испуганно посматривая на дверь, – если решил жениться, я тебе помогу. Свадьбу сыграем… Припрятал я некоторую сумму, приберег – один ты сын у меня… Свадьбу сыграем…
– Значит, сыграем? – сварливо спрашивает Евдоким.
– Конечно, сыграем… Один раз человек женится.
– Может и два раза жениться.
Отец хмурится: неразбериха в работе и в личной жизни его пугает, он бережется всего, что вне его понимания и расчета.
– Твое дело… Ты отвечаешь перед самим собой. – Он встряхивает рукой, будто к пальцам что-то прилипло. – А денег я дам.
Маленькое точильное колесо шипит, искры сверкают, будто прикасаются к оголенным проводам, и летит самый первобытный огонь на земле – из кремня и железа. Сквозь западное окошко входит солнце, бледное, потому что пробивается через облака, и Евдоким видит кухню, в которой он вырос, жестяной умывальник, белые плитки над ним, старый половик, на стене – коврик, вылинявший и будто полумертвый от многочисленных вытрясаний и выбиваний. Мать входит с его одеждой – рубашками и двумя пуловерами. Третий она растягивает на столе, как утопленника, которому надо сделать искусственное дыхание, и пядями мерит его рукава.
– Отцу твоему – подарок от предприятия. Очень ему велик. Да и светлый слишком.
– Значит, начинаешь новую жизнь, – кисло говорит отец. – Что ж, дают – бери, а бьют – беги.
Светло-серый, с французской этикеткой, пуловер хорош для воскресного дня, к серым брюкам и рубашке в клеточку. Но мать не закончила – раскрывает ладонь, и на ней блестит кольцо червонного золота, с рубином, скрывающим в тайной своей глубине необъяснимое винно-красное пламя.
– От твоей крестной, Евдокии, упокой господь ее душу… Сказала мне: отдашь, когда мужчиной станет. Пусть, дескать, меня запомнит… Вот, сыночек, возьми его и помни свою несчастную крестную, как мы ее помним и поминаем.
Мать надевает дорогой старческий перстень на безымянный палец Евдокима, и золото начинает сиять как-то особенно скорбно, с достоинством («Как царь без трона», – думает Евдоким и крутит кольцо вокруг пальца – кажется, оно ему немного велико).
Вздыхая, мать приносит ветхую сумку, но сын ее останавливает:
– Куда ты меня посылаешь с этой тряпкой? Засмеют… Дай что-нибудь поприличнее.
Приличнее оказывается только плотная оберточная бумага, в нее и заворачиваются рубашки, пуловеры, две пары новых носков. Мать хочет положить и кальсоны из тонкой перкали (вероятно, оставшиеся еще от хозяина, мужа Евдокии), но сын, прикрикнув, отстраняет их и, хмурый, злой (отвечая, что и сам не знает, когда появится), уходит. Они не провожают его, и Евдоким с облегчением садится за руль. Пакет, прочно перевязанный шпагатом, бросает за спину. Надо еще сделать кое-какие покупки. Он жмет на педаль газа.
А в это время Драга спустилась вниз, на «свою землю», вырванную у отца Захария улыбками и угодничеством, которое ей противно, как и сам игумен, но вот решила разбить маленький садик для личного пользования и личного кайфа. Она стоит, набросив на плечи дубленку, румяная, красивая, с кудрявыми на влажном воздухе волосами. Особенно молодой и сильной чувствует она себя рядом с рано состарившимся, высохшим монахом.
– Я гляжу – твоего, что овцой прикидывался, что-то не видно…
– Я предпочла ягненка, святой отец.
– Так, хорошо, тебе виднее. И куда ты отправила этого нечестивца с волосатыми руками? Другая отнесется ли с уважением к негодяю?
– Он предпочел рюмку. И все виски да виски, а это дорого стоит, отец.
– Верно. И ты не Кана Гилейская, чтобы напоить весь завод ведром виски…
– Кто такая эта Кана Гилейская?
– Читай Библию – узнаешь, кто она такая. Что ты будешь делать с этой землей, дочь моя?
Драга вспыхнула, сказала, что изо всех сил ждет весну – прямо сердце сжимается. Она объяснила любопытному отцу, где посадит томаты, где фасоль, а где волшебные травки, без которых ни суп, ни другая готовка не выходит, – петрушку да чеснок, укроп да мяту и богородскую травку.
– Тебе надо очистить землю от камней, которые тяжелы для нее, как смертный грех, дитя мое. Иначе ничего от нее не получишь, знай это.
– Я знаю. Я работала овощеводом. Целое лето!
– А, хорошая и работящая огородница была у людей… Как святая Евриния…
– Опять не знаю, кто она, Евриния. А ты, святой отец, давно здесь?
– С тех пор как себя помню. Сторожил святое слово от набегов печенегов… Но они сильнее оказались, согнули меня, зажали в кулаке. Вся земля принадлежит им.
Драга рассмеялась – ей было вольно, весело и спокойно на этой красной влажной земле, огороженной проволочной оградой и деревянными столбами. Ограду эту сделали Дима с Евдокимом, когда вся троица жила в каком-то взрывчатом мире и оба наперегонки старались ей угождать. Но Дима сам натягивал проволоку, потому что этот нежный русоволосый паренек сразу же порезался ножницами.
Приехал Евдоким и ревниво, исподлобья посмотрел на «отца» – не доверял мужчинам, одетым в рясу. Драга взяла багаж, и они вдвоем поднялись в свою комнату, полную белизны снега, тепла золы в печке, сложенной из кирпича, в комнату, создающую обманчивое впечатление, что они на краю света, что она создана только для них. Евдоким эту комнату любил, потому что – на втором этаже и видно строительство и холмы. И, конечно, потому еще, что здесь ему было лучше, чем где бы то ни было, – в этих стенах, на выскобленных досках пола, за столом под роскошным абажуром – подарком Евдокима. Абажур стал поводом для ее шуток и заставлял его подозревать, что Драга лишена чувства красоты и не может оценить всю прелесть шелковой бахромы, ее странных теней, которые лениво колышут воздушные потоки… В комнате всегда был сквозняк.
– Эй, а где хлеб и брынза? Вместо этого – булочки? – выкрикивала Драга, встряхивая хозяйственную сумку. – На кой черт эти конфеты и финтифлюшки?
Финтифлюшки – тюлевые перчатки бледно-лилового цвета, для нее, – ровно три месяца назад они перебрались жить в эту комнату. Драга, конечно, забыла дату… Она со смехом разглядывала покупки, обнимала его за шею, обросшую мягкими ангельскими кудрями, целовала его брови, черные, смолисто блестевшие из-под светлой челки, упавшей на лоб.
– Рассеянный мой красавчик… Прелестный мой дурачок, я так тебя люблю за то, что ты рассеянный… нет на свете второго такого, как ты.
Целуя его, Драга вдруг замирает, она уже не опытная и лукавая женщина – все ее ждущее тело расслабляется, становится легче, будто покидает землю и летит среди облаков и птиц… Но вот Драга выскальзывает из постели, и за занавеской, где чугунный умывальник, слышатся плеск, шлепанье и немного испуганный ее голос:
– Мне в четыре на английский. Я и в прошлый раз опоздала, получила замечание. Она очень строгая…
– Сегодня воскресенье! – Евдоким взбешен, он выбирается из кровати, голый и беспомощный, как червь.
– Именно! – кричит сквозь шум воды его любимая. – Именно в воскресенье я свободна и потому должна…
Он не слышит, что́ она должна, потому что гнев его внезапно спадает. Он грустно смиряется с неизбежным. Драга верна самой себе, а не ему. Она учится заочно – учит английский, чертит, пишет, упрямо склонив голову. Будто машина, напряженная, устремленная к конечной цели, которая еще далеко.
– Пойдем учиться вместе. – Драга надевает платье легкими круговыми движениями, как зверюшка, влезающая в новую кожу. – Это понадобится тебе в будущем, вот увидишь!
– Я предпочитаю немецкий, – уныло отвечает Евдоким, потому что в этот момент не предпочитает ничего на свете, кроме нее самой.
– Хорошо, учи немецкий! – кричит Драга жизнерадостно и так широко размахивает своими одежками, что шелковая бахрома абажура развевается, как щупальца хищного океанского цветка.
Она обулась, надвинула на брови шерстяную шапочку… Драга обожает трудности и предвидит их даже там, где их нет. Она вся движение, энергия, устремленность к целой цепи мелких, но важных побед.
– В семь я буду здесь! – выкрикивает она из-за двери.
Евдоким стоит у окна, смотрит на Драгу. В пальто, красной шапочке и белых ботинках с полосками меха, охватывающими икры, она осматривает машину. Конечно, недовольна грязью, которую Евдоким собрал на дорогах. Но она спешит – садится, заводит мотор и уже через мгновение летит с ужасной скоростью, на которую, бог знает почему, все вокруг смотрят сквозь пальцы. Драга – отличный шофер, с машиной она на «ты» (и с учебой, и с жизнью, и со всем на свете).
Оранжевая искра гаснет за поворотом. Евдоким бросается в кровать, сплетя пальцы на затылке. Огорченный, одинокий, под чердачными балками – коричневыми, покрытыми шелковистым блеском, точно обложка какой-то древней книги. Проходят века, а они все реют над монашескими головами, над их болью и бдениями… Вещи прочнее и счастливее людей. Пройдет и любовь – Драга закончит учебу и уедет туда, где есть будущее. А балки останутся непоколебимыми – совсем как скалы на горной вершине… Евдоким вскочил с постели. Намазав булку толстым слоем масла, он жует и размышляет о том, как бы привязать к себе Драгу – крепко привязать, так, чтобы она стала его частью, частью его души (опорой в радости и скорби – как говорит этот придурковатый «отец»), стала бы его вторым «я». Он был уверен в своей любви к Драге, но совсем неясны были ему ее чувства к нему… Почему она выгнала своего любовника Диму и привела его, почти за руку, как мать ребенка? Почему распределяет свое время так точно и ровно, как будто режет его острым ножом? Разве это не нормально, если влюбленная женщина немного рассеянна и занята в основном своим любимым?.. Такими были женщины, к которым он раньше проявлял интерес. Целиком и полностью отданная своим книгам, чертежам и каждодневному трудолюбию, Драга в самый нежный и трепетный миг вырывалась из его объятий, испуганно посматривая на часы. С ученически правильной осанкой сидя за столом, бралась она за цифры и чертежи, напрочь забывая о нем, и он лежал, подавленный и несчастный, так близко к ее сосредоточенному и холодному лицу, к белому ее лбу, к волосам, к беззвучному шепоту ее губ, в котором всегда отсутствовало его имя… Ах, как хотелось ему вскочить, стащить ее со стула, стиснуть пальцами ее нежную шею!.. Он подавлял воображение, расходившееся от мучительной, неразделенной страсти. И думал, что без Драги жить не станет: или проколет сердце этим вот ножом, или повесится на этих балках, крепких, как скалы…
Евдоким намазал себе еще одну булку, посыпал солью и сел на кровать, застланную красным покрывалом. Посмотрел на часы. Пять. Ждать еще два часа. Рассмотрел свой перстень – действительно, на дне камня светилось что-то, как зловещее, красное, настороженное око. Око его крестной…
В дверь постучали. Вошел инженер Христов. Улыбаясь, стесненно огляделся. Он пришел без приглашения.
– А я смотрю, нашей приятельницы нет…
– Пошла на английский. – Одной рукой Евдоким поправил покрывало, а другой все еще держал на отлете недоеденную булку. – Извините, я…
Инженер небрежно махнул рукой и прошел к столу. Посмотрел чертеж, перелистнул страницы, аккуратно прижатые шайбой.
– Браво! – пробормотал он после короткого молчания. – Очень точно сделано… Ты помогаешь Драге? Эй, не скромничай, парень!
Евдоким, покраснев, доел булку и вытер руки носовым платком. Он не начертил здесь ни единой цифры, хотя обещал Драге заменить Диму и в этом деле… Но он ненавидел Диму каждой клеточкой своего существа – именно поэтому расчеты были ему отвратительны. Он воспринимал их как общий портрет Драги и Димы – он бы порвал этот портрет, сжег, выбросил в окно!..








