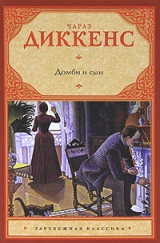
Текст книги "Торговый дом Домби и сын, Торговля оптом, в розницу и на экспорт (Главы I-XXX)"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
– Верно! – отвечал капитан. – Правильно! Имели. Теперь я позволил себе смелость явиться сюда...
– Не угодно ли присесть? – улыбаясь, сказал мистер Каркер.
– Благодарю вас, – отвечал капитан, воспользовавшись приглашением. Пожалуй, легче вести разговор, когда сидишь. А вы не хотите присесть?
– Нет, благодарю вас, – отвечал заведующий, продолжая стоять – быть может, в силу зимней привычки – спиной к камину и глядя вниз на капитана так, словно в каждом зубе и в деснах у него было по глазу. – Вы позволили себе смелость, говорите вы, хотя, право же, никакой...
– Очень вам благодарен, приятель, – отозвался капитан. – Да, смелость прийти сюда по поводу моего друга Уольра. Соль Джилс, его дядя, – человек науки, и в науке он может считаться быстроходным судном, но искусным моряком я бы его, пожалуй, не назвал, и человеком практики – тоже. Уольр – мальчик с прекрасной оснасткой, но, надо сознаться, есть у него один изъян скромность. Ну-с, так вот какой вопрос я бы хотел вам предложить, продолжал капитан, понизив голос и переходя на конфиденциальное бурчание, дружеским образом, только между нами, и исключительно для моего осведомления, покуда ваш главный начальник немножко оправится, чтобы я мог подойти к нему борт о борт. Все ли здесь спокойно и благополучно и отправляется ли мой Уольр в плаванье с попутным ветром?
– А вы как думаете, капитан Катль? – отозвался Каркер, подбирая полы сюртука и утверждаясь в этой позиции. – Вы ведь человек практический: как думаете вы?
Проницательный и многозначительный взгляд капитана, когда он в ответ подмигнул, никакие слова изобразить не могут, кроме неудобопроизносимых китайских слов, ранее упомянутых.
– Послушайте! – сказал капитан, весьма обнадеженный. – Что вы скажете? Прав я или не прав?
После того как подмигивание капитана выразило столь многое, он, поощренный и подзадоренный вежливой улыбкой мистера Каркера, нашел, что все так подготовлено к обсуждению весьма важного вопроса, как будто он выражал свои чувства с величайшим красноречием.
– Правы, – сказал мистер Каркер, – у меня нет никаких сомнений.
– Стало быть, говорю я, он отправляется в плаванье при благоприятной погоде! – воскликнул капитан Катль. Мистер Каркер улыбнулся в знак согласия.
– Ветер попутный и дует вовсю, – продолжал капитан.
Мистер Каркер снова улыбнулся в знак согласия.
– Да, да! – сказал капитан Катль с великим облегчением и радостью. – Я сразу знал, какой взят курс. Я это говорил Уольру. Благодарю вас, благодарю вас.
– У Гэя блестящие перспективы, – заметил мистер Каркер, растягивая рот еще шире, – перед ним весь мир.
– Весь мир и жена, как гласит поговорка! – подхватил в восторге капитан.
На слове "жена" (которое он произнес без всякого умысла) капитан запнулся, снова подмигнул и, надев свою глянцевитую шляпу на набалдашник сучковатой палки, принялся вращать ее, искоса поглядывая на своего неизменно улыбающегося собеседника.
– Готов держать пари на четверть пинты старого ямайского рома, – сказал капитан, внимательно к нему присматриваясь, – что я знаю, чему вы улыбаетесь.
Мистер Каркер принял это к сведению и улыбнулся еще шире.
– Отсюда это не выйдет? – спросил капитан, ткнув сучковатой палкой в дверь, дабы убедиться, что она закрыта.
– Ни на дюйм! – сказал мистер Каркер.
– Вы думаете о прописном Ф, верно? – сказал капитан.
Мистер Каркер этого не отрицал.
– А как насчет Л, – сказал капитан, – или О? Мистер Каркер по-прежнему улыбался.
– Я опять-таки прав? – шепотом осведомился капитан; он был так обрадован, что алый ободок у него на лбу вздулся.
Так как мистер Каркер в ответ, улыбаясь по-прежнему, утвердительно закивал, капитан Катль встал и пожал ему руку, с жаром уверяя, что они взяли один и тот же курс, а что касается его (Катля), то он все время придерживался этого направления.
– Он познакомился с ней, – сказал капитан с той таинственностью и серьезностью, каких требовала эта тема, – необычным образом: вы-то, конечно, помните, как он нашел ее на улице, когда она была совсем малюткой, и с той поры он полюбил ее, а она его, как только могут любить двое таких ребят. Мы всегда говорили, Соль Джилс и я, что они созданы друг для друга.
Кошка, обезьяна, гиена или череп не могли бы показать капитану столько зубов сразу, сколько показал ему мистер Каркер за время их свидания.
– Все клонится к этому, – заметил счастливый капитан. – Как видите, направления ветра и течения совпадают. Подумайте, ведь он присутствовал там в тот день!
– Что весьма благоприятствует его надеждам, – сказал мистер Каркер.
– Подумайте, ведь он был взят в тот день на буксир! – продолжал капитан. – Что может пустить его теперь по воле волн?
– Ничто, – отвечал мистер Каркер.
– Вы опять-таки правы, – сказал капитан, пожимая ему руку. – Вот именно, ничто! Итак, спокойствие! Сын умер, прелестный малютка. Не так ли?
– Да, сын умер, – сказал покладистый Каркер.
– Скажите слово, и у вас будет другой сын, – произнес капитан. Племянник ученого дяди! Племянник Соля Джилса! Уольр! Уольр, который уже работает в вашей фирме. Тот, кто, – продолжал капитан, постепенно подбираясь к фразе, которую готовил для финального взрыва, – ежедневно приходит от Соля Джилса в вашу фирму и в ваши объятия.
Самодовольство капитана, легонько подталкивавшего локтем мистера Каркера после каждой из вышеупомянутых коротких фраз, не могло быть превзойдено ничем, кроме того восторга, с коим он откинулся на спинку стула и воззрился на Каркера, когда закончил эту блестящую речь, исполненную проницательности и пафоса; его широкий синий жилет вздымался, рождая такой шедевр; а нос ярко пламенел по той же причине.
– Прав ли я? – сказал капитан.
– Капитан Катль, – сказал мистер Каркер, на секунду странным образом сгибаясь в коленях, словно он падал и в то же время сразу подхватывал самого себя, – ваши рассуждения касательно Уолтера Гэя вполне и безусловно правильны. Полагаю, что мы беседуем конфиденциально.
– Клянусь честью! – вставил капитан. – Ни слова!
– Ни ему, ни кому бы то ни было? – продолжал заведующий.
Капитан Катль насупился и кивнул.
– Но исключительно для вашего успокоения и надлежащего руководства – и руководства, разумеется, – повторил мистер Каркер, – имея в виду дальнейшие ваши шаги.
– Право же, я вам весьма признателен, – сказал капитан, слушая с великим вниманием.
– Я говорю, не колеблясь, что это факт. Вы угадали возможные последствия.
– А что касается вашего главного начальника, – сказал капитан, – ну, что же, пусть наша встреча произойдет сама собой. Времени достаточно.
Мистер Каркер, растянув рот от уха до уха, повторил: "Времени достаточно". Причем он не произнес явственно этих слов, но любезно склонил голову и беззвучно пошевелил языком и губами.
– И так как теперь мне все известно... и это я всегда говорил... что Уольр идет навстречу своему счастью... – сказал капитан.
– Навстречу своему счастью, – повторил так же беззвучно мистер Каркер.
– И так как эта маленькая поездка Уольра входит, если можно выразиться, в круг его повседневных занятий и согласуется с его надеждами здесь... сказал капитан.
– С его надеждами здесь, – подтвердил мистер Каркер так же беззвучно, как и раньше.
– Ну вот, раз мне это известно, – продолжал капитан, – значит, спешить незачем, и я спокоен.
Так как мистер Каркер, оставаясь по-прежнему безгласным, снова утвердительно кивнул, капитан Катль укрепился в своем убеждении, что это один из приятнейших людей, каких ему когда-либо приходилось встречать, и даже сам мистер Домби не проиграет, если кое-что у него позаимствует. Поэтому капитан весьма сердечно еще раз протянул мистеру Каркеру свою огромную руку (цветом напоминающую старый пень) и угостил его таким рукопожатием, что на более нежной коже мистера Каркера остались оттиски трещин и морщин, коими была обильно разукрашена ладонь капитана.
– До свидания! – сказал капитан. – Я человек не многоречивый, но я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и откровенны. Вы меня простите, что я к вам вторгся? – добавил капитан.
– Ну, что вы! – ответил тот.
– Благодарю вас. Каюта моя невелика, – сказал капитан, снова возвращаясь, – но довольно уютна, и если вам в любой час дня случится быть около Бриг-Плейс, номер девятый, – быть может, вы запишете? – и подняться наверх, не обращая внимания на то, что вам скажет особа, которая откроет двери, я буду счастлив вас видеть.
После такого гостеприимного приглашения капитан, сказав: "Всего хорошего!" – вышел и закрыл дверь, оставив мистера Каркера все в той же позе у камина. В лукавом его взоре и настороженной позе, в его фальшивых губах, растянутых, но не улыбающихся, в его безупречном галстуке и бакенбардах, даже в том, как он молча проводил своей мягкой рукой по белоснежной манишке и гладко выбритому лицу, было что-то кошачье.
Не подозревавший ничего дурного капитан вышел, упоенный своим успехом, отчего даже фасон его широкого синего фрака изменился. "Держись крепче, Нэд! – сказал себе капитан. – Ну, дружище, сегодня тебе удалось кое-что состряпать для молодых людей".
На радостях и по случаю настоящей и будущей своей близости к фирме, капитан, выйдя в первую комнату конторы, не мог удержаться, чтобы не подразнить мистера Перча и не спросить его, думает ли он по-прежнему, что все заняты. Тем не менее, не желая огорчать человека, который исполнял свой долг, капитан шепнул ему на ухо, что, если тот не откажется от стакана грога и готов за ним следовать, он с радостью предложит ему таковой.
Прежде чем выйти на улицу, капитан, к немалому изумлению клерков, осмотрелся кругом с некоего центрального пункта и обозрел контору, как нечто нераздельно связанное с планом, в котором был близко заинтересован его молодой друг. Зарешеченная каморка кассира вызвала особое его восхищение; но, не желая показаться слишком мелочным, он ограничился одобрительным взглядом и, любезно отвесив клеркам общий поклон, в высшей степени учтивый и покровительственный, вышел во двор. К нему быстро присоединился мистер Перч, после чего он повел этого джентльмена в таверну и исполнил свое обещание, не теряя времени, ибо для Перча оно было дорого.
– Давай-ка выпьем, – сказал капитан, – за здоровье Уольра!
– За здоровье кого? – покорно отозвался мистер Перч.
– Уольра! – громогласно повторил капитан.
Мистер Перч, припоминая, будто слышал в детстве, что жил некогда поэт, носивший такую фамилию *, не стал возражать, но он был крайне изумлен тем, что капитан явился в Сити, чтобы предложить тост за поэта; право же, если бы тот предложил воздвигнуть статую какого-нибудь поэта, – например, Шекспира, – на одной из главных улиц, он вряд ли мог бы сильнее поколебать привычные представления мистера Перча. В общем, капитан оказался таким таинственным и непостижимым человеком, что мистер Перч решил вовсе не говорить о нем с миссис Перч во избежание каких-либо неприятных последствий.
Воодушевленный мыслью о том, что ему удалось кое-что состряпать для молодых людей, капитан весь день оставался таинственным и непостижимым даже для самых близких своих друзей; и если бы Уолтер не объяснял его подмигиваний, улыбок и других мимических движении, облегчавших его душу, тем удовольствием, какое капитан испытывал благодаря успеху их невинной лжи старому Солю Джилсу, капитан несомненно выдал бы себя в тот же вечер. Как бы то ни было, но он сохранил свою тайну. От мастера судовых инструментов он вернулся домой поздно, – его глянцевитая шляпа была так сдвинута набекрень и физиономия так сияла, что миссис Мак-Стинджер (которая как будто получила воспитание у доктора Блимбера – столь была она похожа на римскую матрону), едва взглянув на него, заняла оборонительную позицию за открытой парадной дверью и отказывалась выйти оттуда к своим невинным младенцам, пока он благополучно не водворился в свою комнату.
ГЛАВА XVIII
Отец и дочь
В доме мистера Домби тишина. Слуги бесшумно скользят вверх и вниз по лестнице, их шагов не слышно. Они все время беседуют друг с другом и долго сидят за столом, уделяя большое внимание еде и питью, и услаждают себя, следуя мрачному и нечестивому обычаю. Миссис Уикем с глазами, полными слез, рассказывает меланхолические истории, повествует о том, как она всегда говорила миссис Пипчин, что это случится, пьет столового эля больше, чем обычно, и очень грустна, но общительна. В таком же расположении духа кухарка. Она обещает жареное мясо к ужину и старается преодолеть как свою чувствительность, так и действие лука.
Таулинсон усматривает в случившемся перст судьбы и желает знать – пусть ответит кто-нибудь, – можно ли ждать добра, если живешь в угловом доме. Им всем кажется, что это было давным-давно, хотя мальчик все еще лежит, тихий и прекрасный, на своей кроватке.
В сумерках являются некий гости, бесшумно, в войлочных туфлях. Они бывали здесь и раньше, и вместе с ними появляется это ложе отдохновения, такое странное ложе для уснувших детей. Отца, понесшего тяжелую утрату, не видел все это время даже его слуга; ибо он садится в дальний угол своей темной комнаты, когда кто-нибудь туда входит, а в другое время как будто только и делает, что шагает взад и вперед. Но утром домочадцы шепчутся о том, что глубокой ночью слышали, как он поднялся наверх и оставался там, в той комнате, пока не взошло солнце.
В конторе в Сити окна с матовыми стеклами стали еще более тусклыми благодаря закрытым ставням; и в то время, как дневной свет, прокрадываясь в комнату, заставляет меркнуть зажженные лампы на конторках, лампы в свою очередь заставляют меркнуть дневной свет; здесь царит какой-то необычный сумрак. Дела идут вяло. Клерки не расположены работать; они уславливаются поесть отбивных котлет днем и подняться вверх по реке. Перч, рассыльный, не торопится исполнять поручения, попадает в трактиры, куда его приглашают друзья, и разглагольствует о ненадежности дел человеческих. Вечером он возвращается домой в Болс-Понд раньше, чем обычно, и угощает миссис Перч телячьей котлетой и шотландским элем. Мистер Каркер-заведующий никого не угощает; и его никто не угощает; но в уединении своей комнаты он весь день скалит зубы; и может показаться, будто что-то исчезло с дороги мистера Каркера – удалено какое-то препятствие, и путь перед ним свободен.
А вот румяные дети, живущие против дома мистера Домби, смотрят из окон своей детской вниз на улицу, потому что там, у его двери, стоят четыре черных лошади с перьями на голове, и перья колеблются на экипаже, в который они впряжены; и эти перья и шеренга людей с шарфами и жезлами привлекают толпу. Фокусник, собиравшийся вертеть таз, снова надевает широкое пальто поверх своего пестрого наряда, а его жена, волочащая ноги и кривобокая, ибо не спускает с рук тяжелого младенца, задерживается, чтобы поглядеть, как тронется процессия. Но крепче прижимает она ребенка к своей грязной груди, когда выносят ношу, которая так легка; а в высоком окне напротив младшая румяная девочка перестает шалить и, указывая пухлым пальчиком, засматривает в лицо няни и спрашивает: "Что это?"
А вот мимо кучки слуг в трауре и плачущих женщин мистер Домби проходит через холл и направляется к другому экипажу, который его ждет. Он не "раздавлен" горем и отчаянием, – думают зрители. Походка его так же уверенна, осанка так же надменна, как всегда. Он не прячет лица за носовым платком и смотрит прямо перед собой. Хотя лицо у него слегка осунувшееся, суровое и бледное, но выражение его не изменилось. Он занимает место в экипаже, и за ним следуют еще трое джентльменов. Затем торжественная похоронная процессия медленно движется по улице. Перья еще колышутся вдали, а фокусник уже вертит свой таз на трости, и та же толпа глазеет на него. Но жена фокусника медленнее, чем обычно, берет тарелочку для сбора денег, ибо детские похороны навели ее на мысль о том, что младенец, прикрытый ее поношенной шалью, быть может, не станет взрослым, не наденет небесно-голубой повязки на голову и телесного цвета шерстяных панталон и не будет кувыркаться в грязи.
Перья совершают свой мрачный путь по улицам, и вот уже слышен колокольный звон. В этой самой церкви хорошенький мальчик получил все, что останется от него на земле, – имя. Все, что умерло, кладут здесь, недалеко от бренных останков его матери. Это хорошо. Их прах лежит там, куда Флоренс во время своих прогулок – о, одинокие, одинокие прогулки! – может приходить в любой день.
Когда окончилась служба и священник ушел, мистер Домби оглядывается и тихо спрашивает, здесь ли человек, которому приказано было явиться за инструкциями относительно надгробной плиты.
Кто-то выступает вперед и говорит: "Здесь".
Мистер Домби сообщает, где он хотел бы ее поместить, показывает ему рукой на стене ее форму и размер и объясняет, что она должна находиться рядом с плитой матери. Затем он пишет карандашом текст, отдает ему и говорит:
– Я хочу, чтобы это было сделано немедленно.
– Будет сделано немедленно, сэр.
– Как видите, нужно начертать только имя и возраст.
Человек кланяется, смотрит на бумагу и как будто колеблется. Мистер Домби, не замечая его колебаний, поворачивается и направляется к выходу.
– Прошу прощения, сэр! – Рука осторожно прикасается к траурному плащу. – Вы желаете, чтобы это было сделано немедленно, а это можно сдать в работу, когда я вернусь...
– Ну так что?
– Не угодно ли вам прочесть еще раз? Мне кажется, здесь ошибка.
– Где?
Ваятель возвращает ему бумагу и указывает линейкой на слова: "любимого и единственного ребенка".
– Мне кажется, следовало бы "сына", сэр?
– Вы правы. Конечно. Измените.
Отец, ускорив шаги, идет к карете. Когда остальные трое, которые следовали за ним по пятам, занимают свои места, лицо его в первый раз закрыто – заслонено плащом. И в тот день они его больше не видят. Он выходит из экипажа первым и немедленно удаляется в свою комнату. Остальные, присутствовавшие на похоронах (это всего лишь мистер Чик и два врача) идут наверх в гостиную, где их принимают миссис Чик и мисс Токс. А какое лицо у человека в запертой комнате внизу, каковы его мысли, что у него на сердце, какова его борьба и каковы страдания, – никто не знает.
На кухне знают только, что "сегодня похоже на воскресенье". Там едва могут убедить себя в том, что нет ничего непристойного, если не греховного, в поведении людей на улице, которые занимаются своими повседневными делами и одеты в будничное платье. Но шторы уже подняты и ставни открыты; и слуги мрачно развлекаются за бутылкой вина, которого пьют вволю, словно по случаю праздника. Они весьма расположены к нравоучительной беседе. Мистер Таулинсон со вздохом провозглашает тост: "За очищение всех нас от скверны!", на что кухарка отзывается тоже со вздохом: "Богу известно, что в этом мы нуждаемся". Вечером миссис Чик и мисс Токс снова принимаются за рукоделие. И вечером же мистер Таулинсон выходит подышать свежим воздухом вместе с горничной, которая еще не обновила своего траурного чепца. Они очень нежны друг к другу в темных закоулках, и Таулинсон мечтает о том, чтобы вести другую, безупречную жизнь в качестве солидного зеленщика на Оксфордском рынке.
В эту ночь в доме мистера Домби спят крепче и спокойнее, чем спали в течение многих ночей. Утреннее солнце пробуждает весь дом, и снова все входит в прежнюю свою колею. Румяные дети, живущие напротив, пробегают мимо со своими обручами. В церкви – блестящая свадьба. Жена фокусника подвизается с тарелочкой для сбора денег в другом городском квартале. Каменотес поет и насвистывает, высекая на лежащей перед ним мраморной плите: Поль.
И возможно ли, чтобы в мире, столь многолюдном и хлопотливом, утрата одного слабого существа нанесла чьему-либо сердцу рану, столь широкую и глубокую, что только необъятная широта и глубина вечности могла бы ее исцелить? Флоренс в невинной своей скорби дала бы такой ответ: "О мой брат, мой горячо любимый и любящий брат! Единственный друг и товарищ моего невеселого детства! Может ли мысль менее возвышенная пролить свет, уже озаряющий твою раннюю могилу, или пробудить умиротворенную грусть, которая рождается под этим градом слез?"
– Милое мое дитя, – сказала миссис Чик, которая почитала долгом, на нее возложенным, воспользоваться удобным случаем, – когда ты достигнешь моего возраста...
– То есть будете во цвете лет, – вставила мисс Токс.
– ...Тогда ты узнаешь, – продолжала миссис Чик, нежно пожимая руку мисс Токс в благодарность за дружеское замечание, – тогда ты узнаешь, что грустить бесполезно и что наш долг – смириться...
– Я постараюсь, милая тетя. Я буду стараться, – рыдая, отвечала Флоренс.
– Рада это слышать, – заявила миссис Чик, – ибо, дорогая моя, как скажет тебе наша милая мисс Токс, о здравом смысле и удивительной рассудительности которой двух мнений быть не может...
– Дорогая моя Луиза, право же, я скоро возгоржусь, – вставила мисс Токс.
– ...Скажет тебе и подкрепит своими опытом, – продолжала миссис Чик, мы призваны к тому, чтобы при всех обстоятельствах делать усилия. Они от нас требуются. Если бы не... милая моя, – повернулась она к мисс Токс, – я запамятовала слово. – Не... не...
– Небрежность? – подсказала мисс Токс.
– Нет, нет, нет! – сказала миссис Чик. – Что вы! Ах, боже мой, оно вертится у меня на языке. Не...
– Неуместная привязанность? – робко подсказала мисс Токс.
– О, господи, Лукреция! – воскликнула миссис Чик. – Это просто чудовищно! Ненавистник человечества – вот слово, которое я запамятовала. Придет же в голову! Неуместная привязанность! Итак, говорю я, если бы ненавистник человечества задал в моем присутствии вопрос: "Зачем мы родились?" – я бы ответила: "Чтобы делать усилия".
– В самом деле, это прекрасно! – сказала мисс Токс, находясь под впечатлением столь оригинальной мысли. – Прекрасно!
– К сожалению, – продолжала миссис Чик, – у нас пример перед глазами. Дорогое мое дитя, мы вправе предполагать, что, если бы в этой семье было своевременно сделано усилие, можно было бы избежать многих весьма тяжелых и прискорбных событий. Ничто и никогда не разубедит меня в том, – заметила решительным тоном славная матрона, – что покойная Фанни могла сделать усилие, и тогда покинувший нас драгоценный малютка был бы, во всяком случае, более крепкого сложения.
Миссис Чик на полсекунды отдалась своим чувствам, но, как бы наглядно иллюстрируя свою доктрину, сдержалась, оборвав рыданье, и заговорила снова:
– Поэтому, Флоренс, докажи нам, прошу тебя, что ты крепка духом, и не отягчай эгоистически того отчаяния, в какое погружен твой бедный папа.
– Милая тетя! – воскликнула Флоренс, быстро опускаясь перед ней на колени, чтобы можно было пристальнее и внимательнее взглянуть ей в лицо. Скажите мне еще что-нибудь о папе! Пожалуйста, расскажите мне о нем! Он очень страдает?
У мисс Токс была чувствительная натура, и эта мольба глубоко ее растрогала. Увидела ли она в ней желание заброшенной девочки взять на себя ту нежную заботу, которую так часто выражал ее любимый брат, – увидела ли она любовь, которая пыталась прильнуть к сердцу, любившему его, и не могла смириться с тем, что ей отказывают в сочувствии такому горю при столь печальном содружестве любви и скорби, – или же мисс Токс почувствовала в девочке пылкую и преданную душу, которая, хотя ее и отвергли и оттолкнули, была преисполнена нежности, долго остававшейся без ответа, и в тоскливом одиночестве, вызванном этой утратой, обращалась к отцу в надежде найти утешение и самой его утешить, – что бы ни почувствовала мисс Токс, но она была растрогана. На секунду она забыла о величии миссис Чик; быстро погладив Флоренс по щеке, она отвернулась и, не дожидаясь указаний сей мудрой матроны, не удержалась от слез.
Сама миссис Чик на секунду утратила присутствие духа, коим так гордилась, и оставалась безмолвной, глядя на прекрасное юное лицо, которое так долго, так упорно и терпеливо было обращено к маленькой кроватке. Но обретя голос, который являлся синонимом присутствия духа – право же, это было одно и то же, – она ответила с достоинством:
– Флоренс, дорогое моя дитя, твой бедный папа бывает временами немного странным: и спрашивать меня о нем – значит задавать вопрос о предмете, на понимание которого я не притязаю. Мне кажется, я имею на твоего папу более сильное влияние, чем кто-нибудь другой. Однако я могу сказать только, что он говорил со мною очень мало и видела я его всего раза два и каждый раз не более одной минуты, да и тогда я его почти не видела, так как у него в комнате темно. Я сказала твоему папе: "Поль!" – вот точное выражение, к которому я прибегла: "Поль! Почему вы не примете какого-нибудь возбуждающего средства?" Твой папа отвечал неизменно: "Луиза, будьте добры оставить меня. Мне ничего не нужно. Мне лучше побыть одному". Лукреция, если бы завтра меня заставили принести присягу в суде, – продолжала миссис Чик, – не сомневаюсь, я не остановилась бы перед тем, чтобы клятвенно повторить эти самые слова.
Мисс Токс выразила свое восхищение, сказав:
– Моя Луиза всегда методична!
– Одним словом, Флоренс, – продолжала тетка, – мы с твоим бедным папой почти не разговаривали, вплоть до сегодняшнего дня, когда я сообщила твоему папе, что сэр Барнет и леди Скетлс прислали чрезвычайно любезную записку... Наш ненаглядный мальчик! Леди Скетлс любила его, как... Где мой носовой платок?
Мисс Токс подала платок.
– ...Чрезвычайно любезную записку, предлагая, чтобы ты навестила их с целью переменить обстановку. Заметив твоему папе, что, по моему мнению, мисс Токс и я можем вернуться теперь домой (с чем он вполне согласился), я осведомилась, нет ли у него каких-нибудь возражений против того, чтобы ты приняла это приглашение. Он сказал: "Нет, Луиза, никаких!"
Флоренс подняла заплаканные глаза.
– Но если, Флоренс, тебе больше хочется остаться здесь, чем погостить там или поехать со мной...
– Мне бы этого гораздо больше хотелось, тетя, – был тихий ответ.
– В таком случае, дитя, – сказала миссис Чик, – поступай как знаешь. Должна сказать, что это странный выбор. Но ты всегда была странной. Казалось бы, в твоем возрасте и после того, что случилось, – милая моя мисс Токс, я опять потеряла носовой платок, – каждый был бы рад уехать отсюда.
– Мне бы не хотелось думать, – сказала Флоренс, – что все стараются покинуть этот дом. Мне бы не хотелось думать, что комнаты... его... комнаты наверху остаются пустыми и мрачными, тетя. Я предпочла бы побыть теперь здесь. О, мой брат! Мой брат!
Это был естественный взрыв чувств, который нельзя подавить; и они прорвались бы даже сквозь пальцы рук, которыми она закрыла лицо. Страждущая и измученная грудь должна получить облегчение, иначе бедное раненое одинокое сердце затрепещет, как птица со сломанными крыльями, и разобьется.
– Ну, что ж, дитя! – помолчав, заметила миссис Чик. – Ни в каком случае не хотела бы я сказать тебе что-нибудь неласковое, и, конечно, ты это знаешь. Итак, ты останешься здесь и будешь поступать, как тебе вздумается. Никто не будет вмешиваться в твои дела, Флоренс, и я уверена, никто и не захочет вмешиваться. Флоренс покачала головой, печально соглашаясь.
– Не успела я заметить твоему бедному папе, что ему следовало бы развлечься и попытаться восстановить свои силы, временно переменив обстановку, – продолжала миссис Чик, – как он уведомил меня, что принял уже решение уехать ненадолго из города. Право же, я надеюсь, что он уедет очень скоро. Чем скорее, тем лучше. Но, кажется, нужно привести в порядок его личные бумаги после того несчастья, которое так потрясло всех нас, – понять не могу, что случилось с моим платком; Лукреция, дайте мне ваш, моя милая... – и этим он будет заниматься один-два вечера в своей комнате. Твой папа, дитя, – самый настоящий Домби, какой только может быть, – сказала миссис Чик, с большим старанием вытирая глаза уголками платка мисс Токс. – Он сделает усилие. За него можно не бояться.
– Могла бы я, тетя, – дрожа, спросила Флоренс, – что-нибудь сделать, чтобы...
– Ах, боже мой, дорогое мое дитя, – быстро перебила миссис Чик, – о чем ты говоришь? Если твой папа сказал мне – я тебе передала подлинные его слова: "Луиза, мне ничего не нужно, мне лучше побыть одному", – как ты полагаешь, что сказал бы он тебе? Ты не должна показываться ему на глаза, дитя. Об этом нечего и думать.
– Тетя, – сказала Флоренс, – я пойду лягу.
Миссис Чик одобрила это решение и отпустила ее, напутствовав поцелуем. Но мисс Токс под предлогом поисков потерянного носового платка поднялась вслед за нею наверх и попыталась, улучив минутку, утешить ее, несмотря на величайшее неодобрение Сьюзен Нипер. Ибо мисс Нипер в пылу усердия пренебрежительно отзывалась о мисс Токс, как о крокодиле; однако ее сочувствие казалось искренним и отличалось тем преимуществом, что было бескорыстно, – таким путем вряд ли можно было заслужить чью-нибудь благосклонность.
И неужели не было никого ближе и дороже, чем Сьюзен, чтобы ободрить сердце, истерзанное тоскуй? Никого, кого можно было бы обнять, ни одного лица, к которому можно было обратить свое лицо? Никого не было, кто нашел бы слово утешения для такой глубокой скорби? Неужели Флоренс была так одинока в суровом мире, что больше ничего не оставалось ей? Ничего! Лишившись сразу и матери и брата – ибо с потерей маленького Поля первая утрата еще сильнее придавила ее своей тяжестью, – она не могла обратиться за помощью ни к кому, кроме Сьюзен. О, кто расскажет, как сильно нуждалась она в помощи первое время!
Первое время, когда жизнь в доме вошла в привычную колею, когда разъехались все, кроме слуг, а отец заперся в своих комнатах, Флоренс могла только плакать, бродить по дому, а иногда, под наплывом мучительных воспоминаний, убежать к себе в комнату, заломить руки, броситься ничком на кровать, не находя никакого утешения – ничего, кроме горькой и жестокой тоски. Обычно это случалось при виде какого-нибудь уголка или веши, тесно связанных с Полем; из-за этого первое время злосчастный дом превратился для нее в место пыток.
Чистой любви несвойственно гореть так неистово и так немилосердно долго. Пламя более грубое и более земное терзает грудь, его приютившую; но священный огонь с небес так же тихо мерцает в сердце, как в тот час, когда он осенил головы собравшихся двенадцати * и каждому показал его брата, просветленного и невредимого. Когда этот образ явился им, вскоре обрели они вновь и безмятежное лицо, мягкий голос, любящий взгляд, тихое доверие и мир; вот так и Флоренс – хотя и продолжала плакать – плакала более спокойно и лелеяла воспоминание.
Прошло немного времени, и золотая вода, струящаяся по стене на прежнем месте, в прежний тихий час, медленно убывая, притягивала ее спокойный взгляд. Прошло немного времени, и снова она часто бывала в этой комнате; сидела здесь одна, такая же терпеливая и кроткая, как и тогда, когда дежурила у кроватки. Если она вдруг остро ощущала, что эта кроватка опустела, она могла стать перед нею на колени и молить бога – это было излияние ее переполненного сердца – о том, чтобы некий ангел любил ее и помнил о ней.








