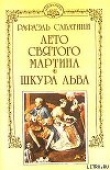Текст книги "Жизнь и приключения Мартина Чезлвита (главы I-XXVI)"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
– Тут на самой дороге торчит какая-то старая уродина, сэр, – заметил он, – гораздо лучше ее срубить. Печку можно будет сложить после обеда. А глины в Эдеме везде сколько угодно. Это все-таки большое удобство.
Но Мартин не отвечал. Он сидел, подперев голову руками, и не отрываясь глядел на быстро текущий ручей, быть может думая о том, как скоро он вольется в открытое море – эту торную дорогу на далекую родину, которой им больше никогда не видать.
Даже сильные удары топора, которым орудовал Марк, не вывели Мартина из мрачного раздумья. Видя, что все попытки расшевелить его бесполезны, Марк бросил работать и подошел к нему.
– Не падайте духом, сэр, – сказал мистер Тэпли.
– О Марк, – отвечал его друг, – чем я заслужил такую нелегкую судьбу, что я такого сделал?
– Ну, сэр, – возразил Марк, – в сущности, каждый здесь может сказать то же самое про себя; а у многих, пожалуй, даже больше прав на это, чем у нас с вами. Крепитесь, сэр. Делайте что-нибудь. Может быть, вам стало бы легче, если бы вы отвели душу в откровенном письме к Скэддеру?
– Нет, – ответил Мартин, грустно покачав головою, – мне это уже не поможет.
– Если это уже не поможет, – возразил Марк, – значит, вы заболели и вам надо лечиться.
– Не думайте обо мне, – сказал Мартин. – Делайте, что возможно, для себя. Скоро вам придется заботиться только о себе. Помоги вам бог добраться домой, и простите меня за то, что я завез вас сюда! Мне суждено умереть здесь. Я это понял, как только ступил на берег. Во сне или наяву, Марк, я всю ночь только это и видел.
– Говорил я вам, что вы больны, – повторил Марк ласково, – а теперь я в этом уверен. Схватили на реке лихорадку или простуду, только и всего. Так это же пустяки, господь с вами! Это вроде прививки; мы, как и все, должны закалиться, так или иначе. Это уж, знаете ли, сам бог велел.
Мартин только вздохнул и покачал головой.
– Погодите минутку, – весело сказал Марк, – я сбегаю к соседям, спрошу, что лучше принимать, и займу у них лекарства; и завтра же вы будете опять здоровы. Я сию минуту вернусь. Как-нибудь крепитесь, сэр, пока меня не будет, что бы ни случилось!
Бросив топор, он пустился бегом, но, отойдя немного, остановился, оглянулся и побежал опять.
– Ну, мистер Тэпли, – сказал Марк, с размаху стукнув себя в грудь подбодрения ради, – послушайте-ка, что я вам скажу. Дело, кажется, плохо, молодой человек: так плохо, что дальше некуда. Другого такого случая испытать ваш веселый характер у вас не будет, любезный. А потому, мистер Тэпли, теперь-то и следует вам развернуться вовсю – теперь или никогда!
ГЛАВА XXIV
докладывает о том, как обстоит дело с несложными, вопросами любви, ненависти, ревности и мести
– Эй, Пексниф! – крикнул мистер Джонас из гостиной. – Что ж, откроет кто-нибудь, наконец, эту вашу дурацкую дверь?
– Сию минуту, мистер Джонас, сию минуту!
– Черт возьми, – проворчал сирота, – не очень-то вы спешите. Не знаю, кто это, но стучались уже три раза, и каждый раз так громко, что проснулись бы даже... – ему было так неприятно думать о пробуждении мертвых, что слово застряло у него на языке, и вместо того он произнес: "семеро спящих" *.
– Сию минуту, мистер Джонас, сию минуту, – повторил Пексниф. – Томас Пинч, – он был до такой степени взволнован, что никак не мог решить, назвать ли ему Тома своим дорогим другом или, наоборот, негодяем, и на всякий случай погрозил ему кулаком, – подите к моим дочерям и скажите им, кто у нас. Да тише, тише! Вы слышали меня, сэр?
– Иду, иду, сэр! – отозвался Том и, не зная, что и думать, отправился выполнять поручение.
– Вы – хе-хе-хе! – вы извините меня, мистер Джонас, если я прикрою дверь на минутку? – сказал Пексниф. – Это, может быть, деловой визит. Я даже почти уверен, что так оно и есть. Благодарю вас. – Затем мистер Пексниф, негромко напевая какой-то простенький мотивчик, надел садовую шляпу, схватил лопату и отворил парадную дверь, появившись на пороге с таким безмятежным видом, словно он в вертограде своем заслышал чей-то робкий стук, но не был вполне уверен, так ли это.
Увидев перед собой джентльмена и леди, он отступил назад, выказав при этом ровно столько замешательства, сколько полагалось выказать добродетельному человеку с кристально-чистой совестью, – единственно от удивления. Но уже в следующую минуту память вернулась к нему, и он воскликнул:
– Мистер Чезлвит! Смею ли я верить своим глазам! Дорогой мой, досточтимый! Счастливый час! Поистине, радостный час! Прошу вас, дорогой мой, входите же. Вы' застаете меня в рабочем платье. Я знаю, вы извините меня. Старинное занятие – садоводство: простое, без всяких затей, ибо, если я не ошибаюсь, Адам был первым садовником, первым нашим коллегой. Моей Евы, как это ни грустно, нет более на свете, но... – тут он указал на лопату и покачал головой, как будто веселый тон давался ему не без труда, – но я еще немножко занимаюсь Адамовым ремеслом.
Разговаривая так, он довел их до парадной гостиной, где находились портрет кисти Спиллера и бюст работы Спокера.
– Мои дочери, – продолжал мистер Пексниф, – будут вне себя от радости. Если бы меня могла утомить эта тема разговора, я бы давным-давно утомился, дорогой мой, потому что они постоянно предвкушали это счастье, то и дело вспоминая о нашей встрече с вами в пансионе миссис Тоджерс. А их прелестная юная подруга, – разливался мистер Пексниф, – которую они так хотят узнать и полюбить, – ибо действительно, узнать ее – значит полюбить, – надеюсь, что вижу ее в добром здоровье? Надеюсь, что, сказав: "Добро пожаловать под мою скромную кровлю", я найду отклик в ее сердце. Весьма привлекательное выражение лица, досточтимый мистер Чезлвит, весьма и весьма!
– Мэри, – сказал старик, – мистер Пексниф льстит нам. Но лесть от него стоит выслушать. Она не продажная и идет от сердца. Мы думали, что мистер...
– Пинч, – подсказала Мэри.
– Что мистер Пинч придет раньше нас.
– Он и пришел раньше вас, достоуважаемый, – отвечал Пексниф, возвысив голос в назидание Тому, который стоял на лестнице, – и, должно быть, собирался сказать мне о вашем приходе, но я попросил его сначала постучаться к моим дочерям и справиться, как себя чувствует Чарити, милое мое дитя, она что-то не так здорова, как мне хотелось бы. Да, – сказал мистер Пексниф, отвечая на их взгляды, – к сожалению, она не совсем здорова. Это просто нервы, и ничего более. Я не беспокоюсь. Мистер Пинч! Томас! – воскликнул мистер Пексниф самым ласковым голосом. – Войдите, прошу вас. Вы здесь не чужой. Томас – мой друг, и даже старинный друг, надо вам сказать, мистер Чезлвит.
– Благодарю вас, сэр, – сказал Том. – Вы так любезно представляете меня и говорите обо мне в таких выражениях, что я должен этим гордиться.
– Старина Томас! – шутливо воскликнул его хозяин. – Господь с вами!
Том доложил мистеру Пекснифу, что девицы скоро выйдут и все самое лучшее, что только есть в доме, будет сейчас же подано на стол под их общим наблюдением. Он говорил, а гость зорко смотрел на него, хотя и не таким жестким взглядом, как обычно; не ускользнуло от старика и обоюдное смущение Тома и молодой девушки, чему бы он его ни приписывал.
– Пексниф, – сказал старый Мартин после некоторого молчания, вставая и отводя мистера Пекснифа в сторону, поближе к окну, – меня глубоко потрясла весть о смерти брата. Много лет мы были с ним как чужие. Единственное мое утешение в том, что он, возможно, стал лучше и жил счастливее, оттого что не связывал со мной никаких надежд и планов. Мир праху его! В детстве мы играли с ним вместе, и для нас обоих было бы лучше, если бы мы оба тогда умерли.
Увидев, что он настроен так кротко, мистер Пексниф сразу понял, что можно выйти из затруднительного положения и не выбрасывая Джонаса за борт.
– Чтобы кто-то мог стать счастливее, не зная вас, – в этом вы позвольте мне усомниться, досточтимый, – возразил он. – Но что мистер Энтони на склоне лет обрел счастье в привязанности своего превосходного сына – примерный сын, досточтимый сэр, примерный сын! – и в заботах одного дальнего родственника, который всеми силами старался услужить ему – это я могу сказать вам, сэр.
– Как же так? – спросил старик. – Ведь вы не наследник.
– Вы еще не совсем поняли мой характер, я вижу, – сказал мистер Пексниф, с грустью пожимая ему руку. – Нет, сэр, я не наследник. И горжусь тем, что я не наследник. И горжусь тем, что обе мои дочери тоже не наследницы. Однако, сэр, я находился при нем по его собственной просьбе. Он понимал меня несколько лучше, сэр. Он написал мне: "Я болен. Я умираю. Приезжайте". Я поехал к нему. Я сидел возле его постели, я стоял над его могилой. Даже рискуя огорчить вас, я это сделал, сэр. И пусть это признание приведет к немедленной разлуке с вами, к разрыву тех нежных уз, которые соединили нас так недавно, все же я не могу молчать, сэр. Но я не наследкик, – повторил мистер Пексниф, безмятежно улыбаясь, – и никогда не надеялся стать наследником. Я знал, что не буду наследником.
– Его сын – примерный сын? – воскликнул старик. – Что вы говорите? Мой брат нашел в своем богатстве всегдашнюю казнь богатых, корень их несчастий: где бы он ни был, он приносил с собой развращающее влияние денег и сеял вокруг заразу, даже у собственного очага. Его родного сына деньги сделали алчным наследником, который ежедневно и ежечасно измерял все сокращающееся расстояние между своим отцом и могилой и проклинал его за то, что он замешкался на ртом страшном пути.
– Нет! – храбро воскликнул мистер Пексниф. – Отнюдь нет, сэр!
– Но когда в последний раз мы виделись с ним, я заметил эту тень в его доме, – сказал Мартин Чезлвит, – и даже предупредил его. Как мне не узнать эту тень, когда я вижу ее? Мне, которому она сопутствует столько лет!
– Я это отрицаю, – с жаром отвечал мистер Пексниф, – Решительно отрицаю. Осиротевший юноша находится сейчас здесь, в этом доме, стремясь обрести в перемене обстановки утраченный душевный покой. Неужели я не воздам должного этому молодому человеку, когда даже гробовщики и могильщики были тронуты его поведением? Когда даже бессловесные плакальщики во всеуслышание воздавали ему хвалу и сам доктор не знал, как успокоить свои взволнованные чувства? Есть и еще одна особа, по фамилии Гэмп, сэр, миссис Гэмп, спросите у нее. Она видела мистера Джонаса в это трудное время. Спросите у нее, сэр. Она почтенная, но вовсе не сентиментальная женщина, и подтвердит вам мои слова. Одна строка, адресованная миссис Гэмп, – у торговца птицами, Кингсгейт-стрит, Верхний Холборн, Лондон, – встретит самое внимательное отношение, не сомневаюсь в этом. Пусть ее расспросят, сэр. Бей, но выслушай! Прыгайте, мистер Чезлвит, но осмотритесь сначала! Простите, дорогой мой, что я так разгорячился, – сказал мистер Пексниф, беря старика за обе руки, – но я честен, и мой долг – засвидетельствовать правду!
В подтверждение данной самому себе характеристики мистер Пексниф дозволил слезам честности навернуться на глаза.
Около минуты старик не спускал с него удивленного взгляда, повторяя про себя: "Здесь! В этом доме!" Однако он справился со своим удивлением и сказал, помолчав немного:
– Я хотел бы повидаться с ним!
– Как друг, я надеюсь? – спросил мистер Пексниф. – Простите меня, сэр, но он пользуется моим скромным гостеприимством.
– Я сказал, что хочу его видеть, – повторил старик. – Если б я был намерен относиться к нему иначе, чем дружески, я бы сказал: не давайте нам встречаться.
– Разумеется, дорогой мой сэр, вы так и сказали бы. Вы – сама искренность, я это знаю. Я постараюсь осторожно сообщить ему о такой радости, если вы извините меня на минутку, – сказал мистер Пексниф, выходя из комнаты.
Он так осторожно подготовлял мистера Джонаса к этому сообщению, что прошло не менее четверти часа, прежде чем они вернулись. Тем временем успели появиться обе молодые девушки, а вместе с ними появилось и угощение для приезжих.
Как ни старался мистер Пексниф, по свойственной ему добродетели, научить Джонаса почтительно относиться к дяде и как ни старался Джонас, по свойственной ему хитрости, затвердить этот урок, – поведение молодого человека при встрече с дядей никак нельзя было назвать достойным или обворожительным. Быть может, никогда еще не выражало человеческое лицо такой смеси наглости и подобострастия, страха и задора, угрюмого упрямства и рабской угодливости, какие можно было прочесть на лице Джонаса, когда он то вскидывал потупленные глаза на Мартина, то снова опускал их и беспрестанно сжимал и разжимал руки и переминался с ноги на ногу, в ожидании, пока с ним заговорят.
– Племянник, – сказал Мартин, – вы, как я слышу, были почтительным сыном.
– Мне кажется, таким же почтительным, как и все вообще сыновья, возразил Джонас, поднимая и снова опуская глаза. – Я не стану хвастаться, что был хоть сколько-нибудь лучше других сыновей, но думаю, что был и не хуже.
– Примерный сын, как я слышал, – сказал старик, взглянув на мистера Пекснифа.
– Ну да! – сказал Джонас, мотнув головой и опять поднимая глаза на мгновение. – Я был таким же хорошим сыном, как вы – братом. Коли уж на то пошло, горшку перед котлом нечем хвалиться.
– Вы говорите с горечью, которая свойственна сильной печали, – сказал Мартин, помолчав немного. – Дайте мне вашу руку.
Джонас подал ему руку и почувствовал себя почти свободно.
– Пексниф, – шепнул он, когда они усаживались за стол, – я ему тоже отлил пулю – не хуже, чем он мне. Мне думается, лучше бы он на себя оглянулся, чем кивать на других.
Мистер Пексниф ответил ему единственно толчком в бок, который можно было истолковать и как негодующий протест и как сердечное согласие, но который, во всяком случае, был настойчивым увещаньем по адресу нареченного зятя – замолчать. Затем он возвратился к исполнению обязанностей хозяина дома с обычной для него непринужденностью и любезностью.
Но даже бесхитростная веселость мистера Пекснифа не могла оживить общество или привести к согласию все противоречивые и враждебные элементы. Не легко было удерживать в границах затаенную ревность и зависть, которые недавнее объяснение заронило в грудь Чарити, и не один раз они готовы были вспыхнуть с такой силой, что казалось, неизбежно должно было последовать разоблачение всего, что произошло. Да и прекрасная Мерри во всей славе своей новой победы так растравляла и колола сердечные раны сестры своим капризным поведением и сотней маленьких испытаний покорности мистера Джонаса, что довела ее чуть ли не до помешательства и заставила выскочить из-за стола в припадке ярости, который вряд ли уступал по силе недавнему приступу злобы. Присутствие Мэри Грейм (под этим именем старый Мартин ввел ее в круг семьи), сильно стеснявшее всех, отнюдь не улучшало положения вещей, несмотря на то, что Мэри держалась тихо и спокойно. Но самые сильные испытания выпали на долю мистера Пекснифа: не говоря уже о необходимости неустанно поддерживать мир между обеими дочерьми, показывать вид, будто все его семейство живет дружно и согласно, обуздывать все возрастающую веселость и развязность Джонаса, которые проявлялись в мелких дерзостях по отношению к мистеру Пинчу и в какой-то не поддающейся определению грубости по отношению к Мэри Грейм (так как оба они были лица зависимые), ему все время приходилось быть начеку и умасливать богатого родственника, сглаживать и объяснять тысячи вещей, имевших подозрительный вид, тысячи всяких подозрительных совпадений, которыми так изобиловал этот злополучный вечер. Легко себе представить, что вследствие всего этого и многого другого, чему трудно даже подвести итог, к радости мистера Пекснифа примешивалась порция дегтя, гораздо больше той, какая примешивается обычно ко всем человеческим радостям. Быть может, никогда в жизни он не чувствовал такого облегчения, как в ту минуту, когда старик Мартин, взглянув на часы, объявил, что им пора домой.
– Пока что мы остановились в "Драконе", – сказал старик. – Мне что-то захотелось немного пройтись. Вечера стоят темные – быть может, мистер Пинч не откажется посветить нам дорогой?
– Досточтимый! – воскликнул Пексниф. – Я с удовольствием! Мерри, дитя мое, скорее фонарь!
– Фонарь, это как вам будет угодно, моя милая, – сказал Мартин, – но я не позволю себе увести вашего отца из дому так поздно вечером; об этом и речи быть не может.
Мистер Пексниф уже взял шляпу в руку, но это было сказано так твердо, что он остановился.
– Я возьму мистера Пинча или пойду один, – сказал старик. – Что лучше?
– Возьмите Томаса, сэр, – воскликнул мистер Пексниф, – если вы уж так решили, Томас, друг мой, будьте как можно осторожнее, пожалуйста.
Это напоминание оказалось далеко не лишним, ибо Том Пинч так волновался и так дрожал, что ему было трудно удержать в руках фонарь. Но насколько же ему стало труднее, когда, повинуясь слову старика, Мэри взяла под руку его, Тома Пинча!
– Итак, мистер Пинч, – сказал Мартин дорогой, – вам здесь живется очень хорошо, не правда ли?
Том отвечал еще более, чем обычно, восторженным тоном, что он бесконечно обязан мистеру Пекснифу и, даже посвятив ему всю жизнь, едва ли сможет отплатить за такую доброту.
– Давно ли вы знаете моего племянника? – спросил Мартин.
– Вашего племянника, сэр? – запинаясь, выговорил Том.
– Мистера Джонаса Чезлвита, – сказала Мэри.
– Ах, боже мой, да! – воскликнул Том с большим облегчением, потому что он думал в эту минуту о молодом Мартине. – Да, конечно! Я ни разу не говорил с ним до сегодняшнего вечера, сэр.
– Быть может, полжизни все-таки хватит, чтобы воздать ему должное за его доброту? – заметил старик. Том почувствовал в этих словах упрек себе и не мог не понять, что удар косвенно направлен в его патрона. Поэтому он молчал. Мэри догадывалась, что мистер Пинч не отличается особенной находчивостью и что чем меньше он скажет, тем будет лучше при данных обстоятельствах. Поэтому она молчала тоже. Старик, негодуя на то, что он, по своей подозрительности, принял за бесстыдное и грубое восхваление мистера Пекснифа, которое вменялось в обязанность Тому и в котором он хватил через край, сразу же записал его в фальшивые, раболепные, низкие приживальщики. Поэтому он тоже молчал. И хотя всем троим было очень неловко, справедливость требует сказать, что старик чувствовал себя, быть может, хуже остальных, потому что сначала был расположен к Тому и заинтересовался его явным простодушием.
"И ты такой же, как все другие, – думал он, глядя на ничего не подозревавшего Тома. – Вы почти успели провести меня, мистер Пинч, но все же ваши труды пропали даром. Вы слишком усердный льстец, и этим выдаете себя с головой".
За всю остальную дорогу не было сказано ни единого слова. Первая встреча, о которой Том мечтал с бьющимся сердцем, не принесла ему ничего, кроме неловкости и смущения. Они расстались перед дверью "Дракона", и Том, со вздохом погасив свечу в фонаре, побрел обратной дорогой через сумрачные поля.
Когда он подходил к изгороди, уединенному месту, где в тени сосновой рощицы мрак казался особенно густым, какой-то человек проскользнул мимо и обогнал его. Дойдя до перелаза, он остановился и уселся на верхней ступеньке. Том был несколько удивлен и на мгновение тоже остановился, но тут же опять двинулся вперед и подошел вплотную к поджидавшему его человеку.
Это был Джонас; посасывая набалдашник трости и болтая ногами, он насмешливо глядел на Тома.
– Господи помилуй! – воскликнул Том. – Кто бы мог подумать, что это вы? Вы, значит, шли за нами?
– А вам какое дело? – сказал Джонас. – Подите вы к черту!
– Вы не слишком вежливы, мне кажется, – заметил Том.
– Для вас достаточно вежлив, – сказал Джонас. – Кто вы такой?
– Человек, который имеет такое же право на общее уважение, как и всякий другой, – мягко ответил Том.
– Врете вы все, – сказал Джонас. – Не имеете вы никакого права ни на чье уважение. Ни на что вы не имеете права. Хорош голубчик! Туда же еще, о правах разговаривает, ей-богу! Ха-ха! Права, вот еще тоже!
– Если вы будете продолжать в том же духе, – возразил Том, краснея, то мне придется заговорить другим языком. Надеюсь, однако, вы бросите эти шутки.
– Вот и всегда вы так, щенки трусливые, – сказал Джонас, – знаете, что человек говорит серьезно, а делаете вид, будто он шутит, лишь бы отвильнуть. Только со мной Это не выйдет. Стара штука. Теперь послушайте-ка меня, мистер Пич, Вич, Стич, как вас там зовут.
– Моя фамилия Пинч, – ответил Том. – Будьте любезны так меня и звать.
– Вот как! Даже и назвать вас нельзя как-нибудь по-другому! воскликнул Джонас. – Я вижу, нищие подмастерья начинают задирать нос. Черт возьми! У нас в Лондоне мы их в струне держим.
– Мне неинтересно, как поступают у вас в Лондоне, – ответил Том. – Что именно вы хотели мне сказать?
– Вот что, мистер Пинч, – отвечал Джонас, подставляя свое лицо так близко, что Тому пришлось отступить на один шаг, – советую вам побольше молчать, поменьше сплетничать и не лезть туда, куда вас не просят. Я кое-что слышал о вас, любезный, и о ваших тихоньких повадках тоже; советую вам забыть про них, пока я не женился на дочке Пекснифа, и не заискивать перед моей родней, а убираться прочь с дороги. Знаете, если щенок путается под ногами, его бьют хлыстом, так что я вам добром советую. Поняли? А? Да кто вы такой, черт возьми, – еще более оскорбительным тоном крикнул Джонас, чтобы, провожая их домой, идти рядом, а не позади, как полагается всякому слуге, в ливрее он или без ливреи!
– Ну, – сказал Том, – слезайте-ка и пропустите меня. Дайте мне дорогу, пожалуйста!
– И не подумаю! – отвечал Джонас, еще шире рассаживаясь на ступеньке. Не слезу, пока не захочу. А сейчас я не хочу. Что? Испугались, как бы я вас не заставил выложить все ваши секреты, проныра?
– Меня не так легко испугать, – сказал Том, – и уж вас-то я, во всяком случае, не испугаюсь, что бы вы ни делали. Я не сплетник и презираю всякую низость. Вы сильно ошиблись во мне. Ах! – негодующе воскликнул Том. – Хорошо ли это – человеку вашего положения так вести себя? Пожалуйста, позвольте мне пройти. Чем меньше я скажу, тем будет лучше.
– Чем меньше вы скажете! – передразнил Джонас, еще сильнее болтая ногами и не обращая никакого внимания на просьбу Тома. – Ну конечно, ведь вы ничего лишнего не говорили! Черт возьми, хотел бы я знать, что у вас за дела с этим бродягой, моим родственником? Тоже скажете никаких нет, я думаю!
– Я не знаю никакого бродяги, вашего родственника, – решительно отвечал Том.
– Нет, знаете! – сказал Джонас.
– Нет, не знаю, – отвечал Том. – Тезка вашего дяди, если вы говорите о нем, вовсе не бродяга. Всякое сравнение с ним для вас не выгодно ни в коей мере, – Том даже прищелкнул пальцами, с такой силой разгорался в нем гнев.
– Ах, вот как! – издевался Джонас. – А что вы скажете насчет его милашки, насчет нищенских объедков, а, мистер Пинч?
– Я не скажу больше ни слова и не намерен здесь оставаться ни минуты больше, – отвечал Том.
– Ведь я говорил вам и раньше, что вы врете, – нагло сказал Джонас, вы останетесь здесь, пока я вам не позволю уйти. Ну, стойте на месте, слышите, что ли?
Он взмахнул палкой над головой Тома, но в ту же минуту палка полетела в воздух, а сам Джонас растянулся на дне канавы. Во время короткой борьбы за палку Том сильно хватил ею по лбу своего противника, и кровь хлынула струей из глубокого пореза на виске. Том понял это, увидев, как Джонас прижимает к ране носовой платок и с трудом поднимается на ноги, оглушенный ударом.
– Вам больно? – спросил его Том. – Мне очень жаль, если так. Обопритесь на меня. Нет нужды, что вы меня не простили и все еще питаете злобу ко мне. Хотя я не знаю почему; я ведь ничем вас не оскорбил, пока мы не встретились здесь.
Джонас ничего не ответил; казалось, сначала он даже не сознавал, что ранен, хотя несколько раз отнимал платок от виска и бессмысленным взглядом смотрел на кровь. Наконец он взглянул на Тома, и на лице у него мелькнуло выражение, показывавшее, что он понимает, что произошло, и никогда этого не забудет.
Оба они возвращались домой в полном молчании. Джонас шел немного впереди, а мистер Пинч, повесив голову, плелся сзади, думая о том, как огорчится его добрый благодетель, узнав об этой ссоре. Когда Джонас постучался в дверь, сердце Тома сильно забилось; еще сильнее оно забилось, когда мисс Мерри отворила им и громко вскрикнула, увидев раненого поклонника; еще сильнее оно забилось, когда он вошел вслед за ними обоими в маленькую гостиную, и всего сильнее, когда заговорил Джонас.
– Не поднимайте шума, – сказал он. – Это сущие пустяки. Дороги я не знаю, вечер темный, я как раз поравнялся с мистером Пинчем, – он обратил к Тому лицо, но не глаза, – и налетел на дерево. Это всего только ссадина.
– Холодной воды, Мерри, дитя мое! – крикнул мистер Пексниф. Оберточной бумаги! Ножницы! Полотняных тряпок! Чарити, душа моя, сделай ему перевязку! Боже мой, мистер Джонас!
– О, подите вы с вашими глупостями! – отвечал ему любезный зять. Будьте хоть чем-нибудь полезны, если можете. А не можете, так убирайтесь!
Мисс Чарити, хотя ее и приглашали подать первую помощь, сидела, выпрямившись, в углу, с улыбкой на устах, и даже не двинулась с места. В то время как Мерри сама промывала рану, а мистер Пексниф держал голову пациента обеими руками, как будто без этого она непременно раскололась бы пополам; в то время как Том Пинч, угнетенный сознанием своей вины, так долго тряс пузырек с датскими каплями, что все они без остатка превратились в английскую пену, а в другой руке держал страшных размеров нож, который надо было только приложить к опухоли, хотя со стороны могло показаться, что им собираются нанести вторую рану, перевязав первую, – Чарити не оказала ни малейшей помощи, не произнесла ни единого слова. Но после того как мистеру Джонасу забинтовали голову, и он улегся в постель, и в доме все утихло, мистер Пинч, печально сидевший на кровати и размышлявший о событиях, услышал тихий стук в дверь и, открыв ее, увидел, к великому своему удивлению, мисс Чарити, которая стояла перед ним, приложив палец к губам.
– Мистер Пинч, – прошептала она, – милый мистер Пинч! Скажите мне правду! Ведь это сделали вы? Между вами вышла ссора, и вы его ударили? Так я и думала!
В первый раз за все те годы, что они прожили под одной крышей, она говорила с Томом ласково. Он остолбенел от изумления.
– Верно это или нет? – настойчиво спрашивала она.
– Меня на это вызвали, – сказал Том.
– Значит, верно? – воскликнула Чарити, сверкая глазами.
– Д-да. Мы поссорились из-за дороги, – сказал Том. – Но я не хотел ударить его так сильно.
– Так сильно! – повторила она, стискивая кулаки и топая ногами, к великому удивлению Тома. – Не говорите этого. Вы поступили храбро. Я уважаю вас. Если вам придется еще когда-нибудь поссориться, не щадите его ни за что на свете, повалите на землю и наступите на него ногой. Но никому ни слова об этом. – Милый мистер Пинч, с этого вечера – я ваш друг. Я теперь навсегда ваш друг.
Она подняла к Тому раскрасневшееся лицо, возбужденное выражение которого подтверждало ее слова, схватила правую руку Тома, прижала ее к груди и поцеловала. И в этом не было ничего личного, ничего такого, что вызывало бы неловкость, ибо даже Том, отнюдь не отличавшийся наблюдательностью, понимал, что она стала бы ласкать чью угодно руку, как бы ни была эта рука запачкана грязью и кровью, лишь бы она проломила голову Джонаса Чезлвита.
Том вернулся в свою комнату и лег в постель, полный самых тревожных мыслей. Что в семье Пекснифа (нотой или иной причине) мог произойти столь страшный раскол, в силу которого Чарити Пексниф стала его другом; что Джонас, напавший на него с необычайной наглостью, мог проявить великодушие, сохранив в тайне их ссору, и что Том Пинч мог оскорбить действием человека, называющего себя другом мистера Пекснифа, – все это были предметы для таких глубоких и тягостных размышлений, что Том долго не мог сомкнуть глаз. Собственное буйное поведение так угнетало великодушного мистера Пинча, что, припоминая все прежние случаи, когда ему доводилось причинять мистеру Пекснифу заботу и беспокойство (случаи, о которых сей джентльмен частенько напоминал ему), он начал думать, что обречен неисповедимой судьбой играть роль злого гения или же ангела-мстителя по отношению к своему патрону. Но в конце концов он заснул и видел во сне – и это послужило для него источником новых сокрушений, – будто бы он обманул доверие своего хозяина и бежал с Мэри Грейм.
Надо сознаться, что и во сне и наяву Тома сильно сокрушало его отношение к этой молодой особе. Чем больше он ее видел, тем больше восхищался ее красотой, умом, всеми прекрасными качествами характера, которые повлияли благотворно даже на расколовшуюся семью Пекснифа, в несколько дней восстановив хотя бы видимость согласия и любви между враждующими сестрами. Когда она говорила, Том слушал ее затаив дыхание; когда она пела, он сидел как завороженный. Она коснулась органа в церкви, и с этой светлой минуты даже он, старый товарищ его счастливейших часов, не подвластный как будто никаким переменам, начал новую жизнь, преображенную присутствием божества.
Да благословит бог твое терпение, Томас Пинч! Тот, кто видел тебя в течение этих трех летних недель склоненным до полуночи над разбитым вконец остовом клавикордов в малой гостиной, не мог не постигнуть тайны твоего сердца; но была ли она ясна тебе самому? Кто из видевших румянец на твоих щеках в те минуты, когда ты после долгих часов работы наклонялся, прислушиваясь к дребезжанию расстроенной струны, и находил, что она обрела, наконец, голос и издает что-то очень похожее на ту ноту, которая от нее требуется, – кто не понял бы, что эти клавикорды предназначены не для простых рук, но для тех, которые касаются сокровенных струн твоей души легким, почти ангельским прикосновением! И если бы дружеский взгляд – хотя бы такой же бесхитростный, как твой, милый Том, – следил за тобой в тот вечер, когда она впервые пела, усевшись за исправленные клавикорды, слегка приглушенным голосом, полным грусти, нежности и надежды, и удивлялась той перемене, какая произошла с инструментом; а ты, сидя в стороне, у открытого окна, хранил молчание, и сердце твое полнилось радостью, – он конечно распознал бы зарю того чувства, Том, которому лучше было бы не зарождаться!
Положение Тома Пинча не сделалось менее опасным и затруднительным оттого, что ни одного слова о молодом Мартине не было сказано между ними. Помня о своем обещании, Том старался предоставить Мэри все возможности для этого. И утром и вечером он бывал в церкви и там, где она любила гулять, – и в деревне, и в саду, и на лугах, – словом, везде, где он мог бы говорить с ней без помехи. Так нет же: она все время старалась избегать его или не встречаться с ним без свидетелей. Не то чтобы она не доверяла ему или он ей не нравился, ибо из тысячи мелочей, не заметных ни для кого, кроме самого Тома, видно было, что она даже выделяла его среди других и была по отношению к нему сама доброта. Возможно ли, чтобы она порвала с Мартином или не отвечала на его любовь, что все это было только в смелом и разгоряченном воображении юноши? Щеки Тома горели от угрызений совести, и он отгонял от себя эту мысль.