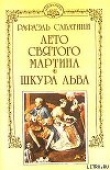Текст книги "Жизнь и приключения Мартина Чезлвита (главы I-XXVI)"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
– Умно сказано, Марк! – воскликнул Мартин. – Нам не следует оглядываться.
– Во всех сказках, какие я читал, сэр, люди, которые оглядываются назад, превращаются в камень, – ответил Марк, – и я всегда был того мнения, что они сами себя до этого довели, – значит, так им и надо. Желаю вам спокойной ночи, сэр, и приятных снов!
– Тогда пускай мне приснится родина, – сказал Мартин, ложась в постель.
– И мне тоже, – прошептал Марк, очутившись у себя в комнате, где его никто не мог слышать, – потому что, если в самом ближайшем будущем не придет такое время, когда быть веселым станет не так-то легко, пропади я пропадом в этой Америке!
Пусть колеблются перед ними и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли, и пусть наше бледное повествование – сон во сне – так же быстро переменит место действия и перенесется на берега Англии.
ГЛАВА XVIII
имеет дело с фирмой Энтони Чезлвит и Сын, которая неожиданно теряет одного из компаньонов.
Перемена рождает перемену. Ничто другое не множится с такой быстротой. Когда человек, привыкший к узкому кругу забот и удовольствий, из которого редко выходит, удаляется хотя бы на короткий срок за его пределы, то этот уход со сцены, где он был видным актером, немедленно подает знак к началу беспорядка: как будто в оставленную им пустоту загнан по самую головку клин перемены, расколовший прочное целое на куски; и то, что срасталось и держалось вместе многие годы, рассыпается на части за столько же недель. Мина, которую не спеша подводило время, взорвалась в одно мгновенье; и то, что было недавно твердой скалой, превратилось в пыль и прах.
Это бывает почти со всеми – в разное время и в разной степени. В какой мере естественный закон перемены сказался в той ограниченной жизненной сфере, которую покинул Мартин, будет правдиво изложено на следующих страницах нашего повествования.
– До чего же эта весна холодная! – хныкал старик Энтони, придвигаясь поближе к огню; наступил вечер, и камин опять затопили. – В мое время она была гораздо теплее!
– Теплее или холоднее, а прожигать платье до дыр все-таки незачем, заметил любезный сын, отрывая глаза от вчерашней газеты. – Сукно не так-то дешево, коли уж на то пошло.
– Добрый сын! – воскликнул отец, дыша на свои холодные руки и с усилием потирая их одна о другую. – Благоразумный сын! Он никогда не занимался такими пустяками, как наряды. Нет, нет!
– Не знаю, может и занимался бы, если б это не стоило денег, – сказал сын, опять принимаясь за газету.
– Ага! – засмеялся старик. – Вот именно – если бы! А все-таки, до чего же холодно!
– Оставьте огонь в покое! – воскликнул мистер Джонас, останавливая руку почтенного родителя, ухватившуюся за кочергу. – Неужели вы хотите разориться на старости лет, что не бережете добро?
– Теперь я уже не успею, Джонас, – отвечал старик.
– Чего не успеете? – прорычал его наследник.
– Не успею разориться. А жаль, что не успею.
– Всегда был эгоист, каких мало, старый хрыч, – пробормотал Джонас так тихо, чтобы Энтони не слышал, и, взглянув на отца, сердито нахмурился. – И тут верен себе. Ему жалко, что он не успеет разориться, вот как! Еще бы! А что его собственная плоть и кровь разорится, до этого ему дела нет, пускай! Ах ты старый кремень!
После этой почтительной речи он взял в руки чашку, ибо происходило чаепитие, в котором участвовали отец с сыном и Чаффи, а затем, пристально глядя на отца и время от времени останавливаясь, чтобы поднести к губам чайную ложку, продолжал в том же духе:
– Разориться, еще чего! Хорош старик, нашел о чем говорить в такие годы. Разориться захотелось, вот как? Ну, скажу я вам! Не успеет? Да, надеюсь, что нет. Если бы мог, он бы и двести лет прожил, и все ему мало. Знаю я его!
Старик вздохнул; он по-прежнему сидел, съежившись перед огнем. Мистер Джонас погрозил ему чайной ложкой из британского металла и, воспарив ввысь, подверг этот вопрос рассмотрению с самых высоконравственных позиций.
– Если уж припала ему такая охота, – ворчал он, – то почему бы не передать свой капитал при жизни? Купил бы себе ренту подешевле, чтобы жить не зря, а с пользой для себя и других. Так нет же, это ему не подходит; это значит относиться к родному сыну как полагается, а он любит делать все наоборот, только бы лишить сына его прав. Да я бы на его месте, не знал, куда деваться от стыда, рад был бы спрятаться в это самое, как там оно называется.
Быть может, это неопределенное выражение означало могилу, или склеп, или усыпальницу, или кладбище, или мавзолей, или еще какое-нибудь слово, которое не позволяла мистеру Джонасу выговорить его нежная сыновняя любовь. Он не стал развивать эту тему дальше, ибо Чаффи, случайно заметив из своего уголка возле камина, что Энтони, по-видимому, слушает, а Джонас говорит, вдруг воскликнул, словно одержимый:
– Он ваш родной сын, мистер Чезлвит, ваш родной сын!
Чаффи и не подозревал, сколь уместны были эти слова и сколь глубоко могли бы они затронуть душу старика, если бы тот догадывался, какое пожелание готово было сорваться с губ его сына и что было у него на уме. Но голос Чаффи прервал течение мыслей Энтони и вернул его к жизни.
– Да, да, Чаффи, Джонас весь в отца. Только его отец очень состарился, Чаффи, – сказал старик с выражением какого-то странного беспокойства.
– Здорово состарился, – согласился Джонас.
– Нет, нет, нет, – отозвался Чаффи, – нет, мистер Чезлвит, нисколько не состарились, сэр.
– Ну, чем дальше, тем хуже! – воскликнул Джонас в совершенном негодовании. – Честное слово, папаша, с ним сладу нет! Придержите-ка язык, слышите?
– Он говорит, что вы ошибаетесь! – крикнул Энтони старому клерку.
– Что вы, что вы! – был ответ Чаффи. – Кому же и знать, как не мне! Это он ошибается. Он ошибается. Он еще мальчик, вот что он такое. Да и вы, мистер Чезлвит, тоже вроде мальчика. Ха-ха-ха! Вы еще мальчик по сравнению со многими, кого я знал; и против меня вы мальчик; против многих из нас вы мальчик. Не слушайте его!
Произнеся такую удивительную речь, – ибо для Чаффи это был небывалый взрыв красноречия, – бедная дряхлая тень притянула к себе руку хозяина своей дрожащей рукой и придержала ее, словно защищая.
– Я глохну с каждым днем, Чаффи, – сказал Энтони со всей мягкостью, на какую только был способен, или, говоря точнее, без обычной своей черствости.
– Нет, нет, – отозвался Чаффи, – вы не глохнете! Да и что тут такого? Я вот уже двадцать лет как глухой.
– Я и слепну тоже, – сказал старик, качая головой.
– Это хороший знак! – воскликнул Чаффи. – Ха-ха! Лучше быть не может! Вы слишком хорошо видели раньше.
Он похлопал Энтони по руке, как делают, утешая ребенка, и, продев его руку еще дальше под свою, помахал дрожащими пальцами в ту сторону, где сидел Джонас, точно желая отмахнуться от него. Но Энтони сидел все так же молча и неподвижно, и Чаффи мало-помалу выпустил его руку и забился в обычный свой закоулок и только время от времени протягивал пальцы и тихонько трогал сюртук своего старого хозяина, словно желая увериться, что он все еще тут, рядом.
Мистер Джонас был до такой степени поражен всем этим, что только глазел на обоих стариков, пока Чаффи не впал в обычное свое состояние, а Энтони не задремал, и лишь тогда он дал выход своим чувствам, подойдя вплотную к первому из них и приготовившись, как говорится в просторечии, дать ему по затылку.
"У них эта игра ведется, – угрюмо подумал Джонас, – вот уже недели две или три. Я никогда не видел, чтобы папаша так с ним носился, как в последнее время. Вот оно что! Охотитесь за наследством, мистер Чафф? А?"
Но Чаффи так же мало догадывался об этих мыслях Джонаса, как и о близости кулака, любовно нависшего над самым его ухом. Джонас глядел на Чаффи грозным взглядом и, наглядевшись досыта, взял со стола свечу, прошел в застекленную комнатку и достал из кармана связку ключей. Одним из этих ключей он открыл секретный ящик бюро, то и дело оглядываясь, чтобы удостовериться, сидят ли оба старика по-прежнему перед огнем.
– Все по-старому, как следует, – сказал Джонас, придерживая лбом открытую крышку бюро и развертывая какую-то бумагу. – Вот завещание, мистер Чафф. Тридцать фунтов в год на ваше содержание, старина, а все остальное единственному сыну – моему Джонасу. Незачем вам так уж лезть из кожи, доказывая свою любовь; ровно ничего вы за это не получите. Что это такое?
Это действительно могло испугать: чье-то лицо из-за стеклянной перегородки с любопытством заглянуло внутрь, и не на Джонаса, а на бумагу в его руке. Чьи-то глаза были внимательно устремлены на завещание и оторвались от него, только когда Джонас вскрикнул. Тут они встретились с глазами мистера Джонаса, и оказалось, что они как нельзя более похожи на глаза мистера Пекснифа. Выпустив из рук крышку бюро, упавшую с грохотом, однако же не позабыв запереть его на ключ, Джонас глядел на привидение, весь бледный и едва дыша. Привидение шагнуло вперед, открыло дверь и вошло.
– В чем дело? – воскликнул Джонас, отступая назад. – Кто это? Откуда вы явились? Что вам нужно?
– Что нужно? – откликнулся голос мистера Пекснифа, и сам мистер Пексниф любезно улыбнулся Джонасу. – Нужно, мистер Джонас?
– Что вы тут вынюхиваете и высматриваете? – сердито сказал Джонас. Для чего это вы ни с того ни с сего являетесь в город и застаете человека врасплох? Неужто человек не может читать... газету у себя в конторе, без того чтоб его не напугали до полусмерти, ворвавшись без предупреждения? Почему вы не постучались в дверь?
– Я стучался, мистер Джонас, – ответил Пексниф, – но никто меня не услышал. Мне любопытно было знать, – мягко прибавил он, кладя руку на плечо Джонасу, – что именно в газете так заинтересовало вас, но стекло слишком мутное и пыльное.
Джонас поторопился взглянуть на стеклянную перегородку. Да, стекло было довольно мутное. Как будто бы не врет покуда.
– Может бить, это были стихи? – спросил мистер Пексниф, добродушно-шутливо потрясая указательным перстом. – Или политика? Или биржевые цены? Везде расчет, везде материальный расчет, мистер Джонас, как я подозреваю.
– Вы почти угадали, – отвечал Джонас, придя в себя и снимая нагар со свечи. – Но за каким чертом вас опять принесло в Лондон? Ей-богу, есть от чего остолбенеть, когда человек должен быть миль за семьдесят, а оказывается тут как тут и глядит на вас во все глаза.
– Совершенно верно, – сказал мистер Пексниф. – Несомненно, дорогой мистер Джонас. Покуда ум человеческий устроен так...
– А ну его совсем, ум человеческий, – нетерпеливо прервал его Джонас, скажите лучше, зачем вы приехали?
– По одному маленькому дельцу, – сказал мистер Пексниф, – которое подвернулось совершенно неожиданно.
– О, только и всего? – воскликнул Джонас. – Ну, вот что, папаша тут, в соседней комнате. Эй, папаша, Пексниф здесь! Со дня на день все больше дуреет, – проворчал Джонас, энергично встряхивая своего почтенного родителя. – Говорят вам, Пексниф здесь, бестолочь вы этакая!
Встряска в соединении с этим ласковым увещанием оказала свое действие и разбудила старика, который приветствовал мистера Пекснифа посмеиваясь отчасти потому, что действительно был рад его видеть, отчасти же движимый немеркнущим воспоминанием о том, как он обозвал сего джентльмена лицемером. Так как мистер Пексниф еще не пил чая (он и в самом деле прибыл в Лондон всего час назад), то ему тут же были поданы в качестве угощения остатки недавней трапезы с добавлением ломтика грудинки. Мистер Джонас, у которого было деловое свидание на соседней улице, отправился туда, пообещав вернуться, прежде чем его уважаемый родственник кончит закусывать.
– А теперь, многоуважаемый, – сказал мистер Пексниф старику, – пока мы с вами одни, скажите мне, чем я могу быть вам полезен? Я говорю "одни", потому что наш дорогой друг, мистер Чаффи, представляет собой, так сказать, манекен в метафизическом смысле, – заключил мистер Пексниф со сладчайшей улыбкой и склонив голову набок.
– Он нас не слышит и не видит, – ответил Энтони.
– В таком случае, – сказал мистер Пексниф, – я беру на себя смелость утверждать, при всем сочувствии к его недугам и при всем восхищении теми прекрасными качествами, которые делают равную честь как его уму, так и сердцу, что он именно манекен или болван, выражаясь юмористически. Вы хотели заметить, многоуважаемый...
– Насколько мне известно, никаких замечаний я делать не собирался, отвечал старик.
– Зато я собирался, – кротко сказал мистер Пексниф.
– Ах, вы собирались? Что же именно?
– Что никогда в жизни, – сказал мистер Пексниф, предварительно встав и убедившись, что дверь закрыта, а после того переставив свой стул так, чтобы сразу увидеть, как только дверь приоткроется хоть немного, – что никогда в жизни я не был так удивлен, как получивши вчера ваше письмо. Уже то, что вы пожелали оказать мне честь просить моего совета по какому бы то ни было делу, было мне удивительно; но то, что вы пожелали при этом действовать без ведома мистера Джонаса, доказывает степень вашего доверия к человеку, которому вы нанесли словесное оскорбление – только словесное – и которое вы впоследствии постарались загладить, – вот этим я был польщен и даже тронут, это сразило меня.
Мистер Пексниф всегда говорил гладко, но эту коротенькую речь произнес особенно гладко, положив немало труда на ее сочинение еще в дилижансе.
Хотя он ожидал ответа и не солгал, сказав, что приехал по просьбе Энтони, старик глядел на него в совершенном молчании, с ничего не выражающим лицом. По-видимому, он не имел ни малейшего желания продолжать разговор, хотя мистер Пексниф поглядывал на дверь и вытаскивал часы и другими способами намекал на то, что времени у них в обрез и Джонас скоро вернется, если сдержит слово. Но самым странным в этом странном поведении было то, что вдруг, в одно мгновение, так быстро, что невозможно было проследить или подметить какую-нибудь перемену, черты Энтони приняли прежнее выражение, и он воскликнул, яростно ударив кулаком по столу, как будто бы совсем не было никакой паузы:
– Да замолчите же, сэр, и дайте мне говорить!
Мистер Пексниф смиренно склонил голову и заметил про себя: "Я сразу увидел, что рука у него переменилась и почерк нетвердый. Я так и сказал вчера. Гм! Боже ты мой!"
– Джонас неравнодушен к вашей дочке, Пексниф, – сказал старик своим обыкновенным тоном.
– Если припомните, сэр, мы говорили об этом у миссис Тоджерс, возразил учтивый архитектор.
– Вам не для чего кричать так громко, – отвечал старик. – Я вовсе не до такой степени глух.
Мистер Пексниф и в самом деле сильно возвысил голос: не столько потому, что считал Энтони глухим, сколько будучи убежден, что его умственные способности порядком притупились; но этот быстрый отпор его деликатному приступу весьма смутил мистера Пекснифа, и, не зная, чего теперь держаться, он опять склонил голову, еще более смиренно, чем прежде.
– Я сказал, – повторил старик, – что Джонас неравнодушен к вашей дочери.
– Прелестная девушка, сэр, – пробормотал мистер Пексниф, видя, что старик ждет ответа. – Милая девушка, мистер Чезлвит, хотя мне и не следовало было этого говорить.
– Опять притворство? – воскликнул старик, вытягивая вперед свою сморщенную шею и подскакивая в кресле. – Вы лжете! Не можете вы без лицемерия, такой уж вы человек!
– Многоуважаемый... – начал мистер Пексниф.
– Не зовите меня многоуважаемым, – возразил Энтони, – и сами не претендуйте на это звание. Если б ваша дочь была такова, как вы меня уверяете, она не годилась бы для Джонаса. Но такая, какая есть, она ему подойдет, я думаю. Он может ошибиться в выборе – возьмет такую жену, которая начнет вольничать, наделает долгов, пустит по ветру его имущество. Так вот, когда я умру...
Его лицо так страшно изменилось при этих словах, что мистер Пексниф невольно отвел взгляд в сторону.
– Мне тяжелее будет узнавать про такие дела, чем при жизни; терпеть мучения за то, что копил и приобретал, в то время как накопленное выбрасывается за окно, было бы невыносимой пыткой. Нет, – хриплым голосом произнес старик, – сберечь хоть это, хоть что-нибудь удержать и спасти, после того как загубил так много.
– Дорогой мой мистер Чезлвит, – сказал Пексниф, – это болезненные фантазии, совершенно излишние, сэр, и, конечно, совершенно неосновательные. Дело в том, многоуважаемый, что вы не совсем здоровы!
– Однако не умираю еще! – вскричал старик, ощетинившись, как дикий зверь. – Нет! Жизни во мне хватит еще на годы! Да вот, взгляните на него, указал он на своего дряхлого клерка. – Может ли смерть пройти мимо него и скосить меня?
Мистер Пексниф так боялся старика и до такой степени был поражен тем состоянием, в котором его застал, что совсем растерялся и не мог даже припомнить ни одного обрывка из того большого запаса нравственных поучений, который хранился в его памяти. И потому он пробормотал, что, конечно, гораздо справедливее и приличнее было бы мистеру Чаффи умереть первым, впрочем, по всему, что он слышал о мистере Чаффи, и по всему, что знает о нем из личного знакомства, он глубоко убежден, что этот джентльмен и сам поймет, насколько приличнее для него будет умереть, по возможности не мешкая.
– Подите сюда! – сказал старик, кивком подзывая его ближе. – Джонас будет моим наследником, Джонас будет богачом и выгодной партией для вас. Вы знаете, Джонас неравнодушен к вашей дочке.
"Это я тоже знаю, – подумал мистер Пексниф, – потому что частенько слышал это от тебя".
– Он мог бы получить больше денег, чем вы дадите за ней, – продолжал старик, – зато она поможет ему сберечь то, что у них будет. Она не слишком молода и не ветрена, из крепкой, дельной, прижимистой семьи. Только не финтите слишком. Она его держит на ниточке, и если очень туго натянуть (я знаю его характер), то ниточка оборвется. Вяжите его, пока он поддается, Пексниф, вяжите его. Вы слишком хитры. Уж очень издалека вы его завлекаете. Ах вы хитрец! Неужели я с самого начала не видел, как вы закидывали удочку?
"Хотел бы я знать, – думал мистер Пексниф, глядя на него с удрученным видом, – все ли это, что он хочет сказать?"
Старик потер руки и что-то пробормотал про себя; пожаловался, что ему холодно; придвинул кресло поближе к огню и, усевшись спиной к мистеру Пекснифу и опустив голову на грудь, через какую-нибудь минуту перестал обращать внимание на своего гостя или же вовсе позабыл о его присутствии.
Как ни бестолково и малоудовлетворительно было это краткое свидание, оно все же дало мистеру Пекснифу намек, который вполне вознаградил его за путешествие туда и обратно, даже если бы ничего больше не было ему сообщено. Ибо достойный джентльмен еще не имел случая проникнуть в глубину натуры мистера Джонаса, и любой рецепт, как заполучить такого зятя (а тем более рецепт за подписью родного отца), был тут очень кстати. Для того чтобы не упустить случая воспользоваться такой прекрасной возможностью и не дать Энтони заснуть перед огнем, прежде чем он выскажется до конца, мистер Пексниф, расправляясь с угощением, стоявшим на столе, – работа, к которой он приступил теперь вплотную, – пускался на всякого рода хитроумные уловки, чтобы привлечь его внимание; чихал, стучал чашками, точил ножи, ронял хлеб и т. д. Но все это напрасно, ибо Джонас вернулся, а старик так и не сказал ничего больше.
– Как! Папаша опять спит? – воскликнул Джонас, вешая свою шляпу и бросая взгляд на отца. – А! Еще и храпит. Послушайте только!
– Он очень сильно храпит, – сказал мистер Пексниф.
– Сильно храпит! – повторил мистер Джонас. – Да, это по его части. Он всегда способен храпеть за шестерых.
– Знаете ли, мистер Джонас, – сказал Пексниф, – мне кажется, ваш отец только не тревожьтесь – угасает.
– Ну, что вы? – отвечал Джонас, тряхнув головой, в знак того, что это замечание отнюдь не застает его врасплох. – Ей-богу, вы не знаете, какой он крепкий. И не собирается даже.
– Меня поразило, как сильно он изменился и по внешности и по обхождению.
– Ничего вы не знаете, – возразил Джонас, усаживаясь на место с меланхолическим видом. – Он никогда не чувствовал себя лучше. Ну, как там у вас дома? Как Чарити?
– Цветет, мистер Джонас, цветет.
– А та, другая, – она как?
– Ветреная шалунья! – произнес мистер Пексниф с задумчивой нежностью. Она здорова, она здорова. Летает, как пчелка, из гостиной в спальню, мистер Джонас, порхает, как бабочка, туда и сюда, окунает свой носик в смородинное вино, как колибри! Ах, если б она была немножко менее ветрена и обладала бы солидными достоинствами Черри, молодой мой друг!
– Разве она такая уж ветреная? – спросил Джонас.
– Ну, ну! – сказал мистер Пексниф с большим чувством. – Не буду слишком суров к моей родной дочери. Но по сравнению со своей сестрой Чарити она кажется ветреной. Какой странный шум, мистер Джонас!
– Что-нибудь в часах испортилось, должно быть, – сказал Джонас, взглянув на часы. – Значит, не та, другая, ваша любимица – так, что ли?
Любящий отец собирался что-то ответить и уже придал своему лицу самое чувствительное выражение, когда услышанный им звук повторился.
– Честное слово, мистер Джонас, это какие-то необыкновенные часы, сказал Пексниф.
Они и вправду были бы необыкновенные, если бы производили этот странный шум, но завод кончался в другого рода часах, и звук исходил от них. Крик Чаффи, казавшийся во сто крат громче и страшнее по сравнению с обычной его молчаливостью, огласил весь дом от чердака до подвала; и, оглянувшись, они увидели Энтони Чезлвита, распростертого на полу, а старого клерка на коленях рядом с ним.
Энтони упал с кресла в судорогах и лежал, борясь за каждый глоток воздуха; и все старческие вены и сухожилия на его шее и руках обозначились с особенной резкостью, словно свидетельствуя о его возрасте и, в тяжбе с природой, беспощадно требуя ему смерти. Страшно было видеть, как жизненное начало, заключенное в его дряхлом теле, рвется вон, словно нечистый дух, просясь на свободу и ломая свою темницу. Тяжело было бы смотреть и на молодого человека в расцвете лет, если бы он бился с такой отчаянной силой; но старое, дряхлое, истощенное тело, наделенное сверхъестественной мощью и каждым движением противоречащее своему видимому бессилию, представляло поистине страшное зрелище.
Они подняли его и со всей поспешностью послали за врачом, чтобы тот пустил больному кровь и дал лекарство; но припадок длился так долго, что только после полуночи его уложили в постель, притихшего, но без сознания и измученного.
– Не уезжайте, – прошептал Джонас, наклоняясь через кровать и приближая землистые губы к уху мистера Пекснифа. – Счастье еще, что вы были тут. Кто-нибудь может сказать, что это моих рук дело.
– Ваших рук дело? – воскликнул мистер Пексниф.
– Кто его знает, а вдруг скажут, – отвечал Джонас, вытирая пот с бледного лица. – Бывает ведь, что говорят. Как он теперь выглядит?
Мистер Пексниф покачал головой.
– Я иногда шутил, знаете ли, – сказал Джонас, – но я... я никогда не желал ему смерти. Как вы думаете, он очень плох?
– Доктор сказал, что плох. Вы же слышали, – ответил мистер Пексниф.
– А! Но это он мог сказать для того, чтобы содрать с нас побольше, в случае если больной поправится, – сказал Джонао. – Не уезжайте, Пексниф. Раз до этого дошло, я теперь и за тысячу фунтов не останусь без свидетелей.
Чаффи не сказал ни слова и не слыхал ни слова. Он опустился на стул возле кровати и больше уже не вставал – разве только иногда наклонял голову к подушке и словно прислушивался. Так он и сидел неподвижно, хотя однажды в эту унылую ночь мистер Пексниф очнулся от дремоты со смутным впечатлением, что слышит искаженные слова молитвы, к которым странным образом примешиваются какие-то вычисления.
Джонас тоже просидел с ними всю ночь; однако не там, где отец мог бы увидеть его, придя в сознание, но как бы прячась за его спиной и только по глазам мистера Пекснифа угадывая его состояние. Он, грубый деспот, который так долго командовал всем домом, – боялся пошевельнуться, как трусливый пес, и дрожал так, что колебалась самая тень его на стене!
Был уже ясный солнечный шумный день, когда они сошли к завтраку, оставив старого клерка возле больного. Люди сновали взад и вперед по улицам, открывались окна и двери, воры и нищие выходили на промысел, рабочие принимались за дело, торговцы отпирали лавки, полисмены и констебли стояли на страже; все люди, кто бы они ни были, по-своему боролись за жизнь, но не более упорно, чем один этот больной старик, воевавший за каждую песчинку в быстро пустеющих часах с таким ожесточением, словно это была целая империя.
– Если что-нибудь случится, Пексниф, – сказал Джонас, – обещайте мне остаться здесь до конца. Вы увидите, я сделаю все как полагается.
– Я знаю, что вы сделаете все как полагается, мистер Джонас.
– Да, да, я не желаю, чтобы меня подозревали. Ни у кого не будет возможности сказать против меня хотя бы слово, – возразил тот. – Я знаю, люди будут болтать... Как будто он не стар и я каким-то чудом мог сохранить ему жизнь.
Мистер Пексниф пообещал, что останется, если, на взгляд его уважаемого друга, обстоятельства потребуют этого. Они молча доканчивали завтрак, когда перед ними предстало видение, такое страшное, что Джонас громко вскрикнул и оба они отшатнулись в ужасе.
Старый Энтони, одетый в обычное платье, стоял в комнате возле стола. Он опирался на плечо своего единственного друга, и на его мертвенном лице, на окоченевших руках, в его тусклых глазах, начертанное перстом вечности даже в капельках пота на его лбу, стояло одно слово – смерть!
Он заговорил с ними – голосом, похожим на обычный, но неживым и резким, как черты мертвеца. Одному богу известно, что он хотел сказать. Он как будто произносил слова, но такие, каких никогда не слыхал человек. И это было страшнее всего – видеть, как он стоит, бормоча что-то на нечеловеческом языке.
– Ему лучше, – сказал Чаффи, – ему лучше. Посадите его по-старому в кресло, и он опять будет здоров. Я говорил ему, чтоб он не обращал внимания. Еще вчера говорил.
Они посадили его в кресло и подкатили поближе к окну; потом, распахнув дверь настежь, дали вольному утреннему воздуху овеять его. Но ни весь воздух, какой только есть на свете, ни все ветры, какие веют между небом и землей, не могли бы вдохнуть в него новую жизнь.
Хотя бы его зарыли по самое горло в золотые монеты, его окостеневшим пальцам не удержать более ни одной.
ГЛАВА XIX
Читатель заводит знакомство с некоторыми лицами свободных профессий и проливает слезы над сыновней преданностью доброю мистера Джонаса
Мистер Пексниф разъезжал по городу в наемном кабриолете, ибо Джонас Чезлвит велел ему "не стесняться в расходах". Люди склонны думать дурно о своем ближнем и подозревать его в самых низменных побуждениях, а потому Джонас решил не подавать к этому ни малейшего повода. Пускай никто не посмеет обвинять его в том, что он пожалел денег на отцовские похороны. Вот почему впредь до окончания траурной церемонии Джонас избрал своим девизом: "Денег не жалеть!"
Мистер Пексниф уже побывал у гробовщика и теперь был на пути к другому должностному лицу по той же части, но на этот раз женского пола – сиделке, няньке и исполнительнице разных безыменных услуг при покойниках, рекомендованной тем же гробовщиком. Ее фамилия, как установил мистер Пексниф по клочку бумаги, который держал в руке, была Гэмп, местожительство Кингсгейт-стрит, Верхний Холборн. И потому мистер Пексниф трясся в наемном экипаже по булыжникам Холборна, разыскивая миссис Гэмп.
Она снимала квартиру у продавца птиц, через один дом от лавочки, которая славилась пирожками с бараниной, и как раз напротив кошачьей мясной. Репутация этих двух заведений поддерживалась на должной высоте соответствующими вывесками. Домик был маленький, но тем более удобный, потому что миссис Гэмп, которая была сиделкой по своему высокому призванию, или, как смело утверждала ее вывеска, "повивальной бабкой". жила во втором этаже, окнами на улицу, и ее нетрудно было разбудить во всякое время ночи, бросая в окно камешки или черепки разбитой трубки, или же стуча в него тростью; все это действовало гораздо лучше, чем дверной молоток, который был устроен так, что будил всю улицу и даже поднимал по всему Холборну пожарную тревогу, не производя ни малейшего впечатления в том доме, к которому имел прямое отношение.
На этот раз случилось так, что миссис Гэмп не ложилась спать всю ночь, присутствуя при той церемонии, которую кумушки называют одним словом, всего лишь в двух слогах выражающим проклятие, тяготеющее над сынами Адама. Случилось так, что миссис Гэмп была нанята не на все время, а приглашена в качестве знаменитости в самую критическую минуту, на помощь другой даме той же специальности; оттого и вышло, что, как только все самое интересное кончилось, миссис Гэмп вернулась домой и снова улеглась в постель. Так что когда мистер Пексниф подъехал к дому в кабриолете, оконные занавески у миссис Гэмп были задернуты, а за ними крепко спала сама миссис Гэмп.
Если бы продавец птиц был дома, как полагалось, беда была бы еще не так велика; но он куда-то ушел, и лавчонка его была заперта. Ставни, конечно, были открыты, и за каждым оконным стеклом по крайней мере одна малюсенькая птичка в малюсенькой клеточке щебетала и прыгала, исполняя коротенький балет отчаяния, и билась головой о потолок; да один несчастный щегол, живущий на свежем воздухе перед красной виллой с его именем на входных дверях, качал воду себе на питье, без слов умоляя какого-нибудь доброго человека бросить ему в корытце на фартинг отравы. Однако дверь дома была заперта. Мистер Пексниф подергал щеколду, потолкал дверь, причем надтреснутый колокольчик издал самый унылый звон; и все же никто не явился. Продавец птиц был также и брадобрей, а также и модный парикмахер; может быть, за ним специально прислали из аристократической части города и он ушел брить какого-нибудь лорда или завивать и причесывать какую-нибудь леди; так или иначе, здесь, в собственной резиденции, его не было, не оставалось даже никаких ощутимых следов его присутствия, которые могли бы помочь воображению посетителя, кроме одной профессионального содержания гравюры, или эмблемы его призвания, излюбленной среди его коллег, которая изображала весьма развязного парикмахера, завивающего даму в весьма изысканном туалете перед большим открытым фортепьяно.
Сообразив все эти обстоятельства, мистер Пексниф в простоте души взялся было за дверной молоток, но при первом же двойном ударе из каждого окна по всей улице высунулась женская голова; и не успел мистер Пексниф постучаться еще раз, как целые полчища матрон (из которых многие и сами должны были в скором времени побеспокоить миссис Гэмп) сбежались к крыльцу, крича в один голос и с необычайным воодушевлением: