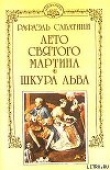Текст книги "Жизнь и приключения Мартина Чезлвита (главы I-XXVI)"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Теперь на борту парохода все заметно оживились; высказывались предположения насчет того, в какой именно день и даже в каком именно часу они придут в Нью-Йорк. На палубе толпилось и глядело вдаль несравненно больше народа, чем до сих пор, и разразилась целая эпидемия укладывания вещей, которые потом приходилось распаковывать на ночь. Те, у которых были письма к кому-нибудь или знакомые в Америке, или определенные намерения ехать туда-то и заняться тем-то, сто раз на дню обсуждали свои, планы; поскольку этот разряд пассажиров был весьма немногочислен, а таких, у кого не было видов на будущее, оказалось очень много, то слушателей было подавляющее большинство, а ораторов раз-два и обчелся. Пассажиры, хворавшие всю дорогу, теперь выздоровели, и даже здоровые заметно поправились. Американец из каюты первого класса, всю дорогу кутавшийся в меха и клеенку, неожиданно появился в блестящем черном цилиндре с маленьким чемоданчиком светлой кожи, содержавшим все его платье, белье, щетки, бритву, книги, запонки и прочие пожитки. Он расхаживал по палубе, глубоко засунув руки в карманы и широко раздувая ноздри, словно уже вдыхал воздух свободы, который несет смерть тиранам и которым (ни при каких обстоятельствах, заслуживающих упоминания) не могут дышать рабы. Англичанин, подозреваемый в том, что он сбежал из банка, захватив с собой, кроме ключей от кассы, еще кое-что посущественней, красноречиво рассуждал о правах человека и все время напевал "Марсельезу". Словом, сильное волнение охватило весь пароход, – в самом деле, земля Америки была уже близко, так близко, что, наконец, в одну звездную ночь они взяли на борт лоцмана и через несколько часов стали на якорь до утра, в ожидании парового катера, который должен был отвезти пассажиров на берег.
На следующее утро, как только рассвело, катер появился и, простояв около часа, причем на это время даже кочегары на нем сделались предметом живейшего интереса и любопытства, как если бы это были добрые или злые духи, забрал на борт весь живой груз: среди прочих Марка, который все так же заботился о своей приятельнице с тремя детьми, и Мартина, который на этот раз был одет как следует, но в старом, запачканном плаще поверх обычного костюма – на то время, пока они не расстанутся навсегда со своими недавними спутниками.
Катер – с машиной на палубе, проворно перебиравшей длинными тонкими лапами, словно какое-то допотопное чудовище или увеличенное во много раз насекомое, – быстро шел по красивой бухте; и скоро стали видны возвышенности, острова и длинный плоский, далеко раскинувшийся город.
– Так это и есть земля свободы? – сказал мистер Тэпли, глядя вдаль. Очень хорошо. Я согласен. Любая земля для меня годится после такой уймы воды!
ГЛАВА XVI
Мартин сходит с прославленного и быстроходною пакетбота "Винт" в порту Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Он заводит кое-какие знакомства и обедает в пансионе. Подробности этих первых шагов
Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран член муниципалитета; а так как политические страсти разгорелись особенно сильно по случаю такого радостного события, друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы Непогрешимости Выборов и Свободы Убеждений, переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента сами по себе были не так значительны, чтобы взволновать кого-нибудь по прошествии целой ночи; однако мальчишки-газетчики воскресили их и разнесли по городу; они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на палубы и в каюты парохода, так что он, еще не подойдя к пристани, был взят на абордаж и захвачен легионами этих молодых граждан.
– "Нью-йоркская помойка"! – кричал один. – Утренний выпуск "Нью-йоркского клеветника"! "Нью-йоркский домашний шпион"! "Нью-йоркский добровольный доносчик"! "Нью-йоркский соглядатай"! "Нью-йоркский грабитель"! "Нью-йоркский ябедник"! "Нью-йоркский скандалист"! Все нью-йоркские газеты! Полный отчет о вчерашнем патриотическом выступлении демократов! Виги разбиты наголову! Последнее мошенничество в Алабаме! Интересные подробности дуэли на ножах в Арканзасе! Все новости политической, коммерческой и светской жизни! Вот газеты, вот газеты!
– Вот "Помойка"! – кричал другой. – "Нью-йоркская помойка"! Двенадцатая тысяча экземпляров сегодняшней "Помойки", все сведения о биржевом курсе и прибытии и отправлении судов, четыре столбца вестей из провинции, полный отчет о вчерашнем бале у миссис Уайт, где присутствовали первые красавицы и весь цвет Нью-Йорка, е интимными подробностями из жизни приглашенных дам. Только в "Помойке"! Вот "Помойка"! Двенадцатая тысяча экземпляров "Нью-йоркской помойки"! Разоблачение "Помойкой" банды Уолл-стрита! Разоблачение "Помойкой" вашингтонской банды! Вопиющее мошенничество государственного секретаря, совершенное им в возрасте восьми лет от роду и разоблаченное, за большие деньги, его собственной нянькой! Вот "Помойка"! Вот двенадцатая тысяча "Нью-йоркской помойки", целый столбец с изобличениями жителей Нью-Йорка; все фамилии напечатаны полностью! Заметка о судье, который третьего дня судил "Помойку" за клевету, и благодарность "Помойки" независимым присяжным, которые ее оправдали, с указанием на то, чего им следовало ожидать, если б они ее осудили!.. Вот "Помойка", кому "Помойку"! Вот недремлющая "Помойка", всегда на страже; руководящая газета Соединенных Штатов, двенадцатая тысяча экземпляров, газета продолжает печататься. Покупайте "Нью-йоркскую помойку"!
– Такими просвещенными путями, – сказал чей-то голос в самое ухо Мартину, – выходят наружу бурные страсти моего отечества.
Мартин невольно обернулся и увидел бок о бок с собой худосочного черноволосого джентльмена со впалыми щеками, узенькими моргающими глазками и странным выражением лица, не то хмурым, не то наглым, как могло показаться с первого взгляда. В самом деле, даже при ближайшем знакомстве трудно было бы определить это выражение иначе, как смесь грубой хитрости и высокомерия. Джентльмен нахлобучил на голову широкополую шляпу, чтобы придать себе более ученый вид, и скрестил руки на груди, для большей внушительности. Он был одет довольно плохо – в синий сюртук чуть не до пяток, в короткие широкие штаны того же оттенка и выцветший рыжий жилет, из-под которого вылезала почерневшая плоеная манишка, силясь уравняться в гражданских нравах с прочими статьями туалета и тоже поддержать Декларацию Независимости.
Он полусидел, полулежал, развалясь на фальшборте и небрежно скрестив ноги, отличавшиеся необыкновенными размерами; толстая трость с крепким железным наконечником и большим круглым набалдашником висела у него на шнурке с кисточкой. Облаченный таким образом джентльмен подмигнул правым глазом и правым уголком рта и повторил с видом величайшего глубокомыслия:
– Такими просвещенными путями выходят наружу Бурные страсти моего отечества.
Так как он смотрел на Мартина, а поблизости никого больше не было, Мартин наклонил голову и сказал:
– Вы намекаете на ...?
– На оплот нашей разумной отечественной свободы, сэр, повергающий в трепет иноземных тиранов, – возразил джентльмен, указывая тростью на необыкновенно грязного мальчишку-газетчика с одним глазом. – На предмет зависти всего мира, сэр, на авангард цивилизации. Позвольте мне спросить вас, сэр, – прибавил он, стукнув о палубу железным наконечником трости с видом человека, который не потерпит никаких виляний, – как вам нравится мое отечество?
– Не знаю, право, что вам сказать, – сказал Мартин. – Я еще не был на берегу.
– Что ж, я думаю, вы вряд ли ожидали видеть, – заметил джентльмен, такие доказательства национального процветания, как вот это?
Он указал на суда, стоявшие у причалов, затем сделал широкий взмах тростью, как бы включая в свое замечание воздух и воду.
– Право, не знаю, – ответил Мартин. – Да. Думаю, что ожидал.
Джентльмен взглянул на него с проницательным видом и сказал, что ему нравится такая линия поведения. Она вполне естественна, сказал он; как философ, он любит наблюдать человеческие предрассудки.
– Я вижу, вы привезли с собою, сэр, – заметил он. повернувшись к Мартину и опершись подбородком на набалдашник трости, – – обычный груз бедствий, нищеты, невежества и преступлений – в дар великой республике. Что ж, сэр! Пусть их везут целыми партиями из Старой Англии. Говорят, когда корабль готовится затонуть, крысы бегут с него. Я нахожу, что в этой пословице много правды.
– Старый корабль быть может еще продержится год пли два, – сказал Мартин с улыбкой, отчасти вызванной словами джентльмена, отчасти же его манерой говорить – довольно странной, так как он произносил с ударением все короткие и односложные слова, оставляя на произвол судьбы все остальные, как будто считая, что слова покрупнее могут обойтись и так, зато мелочь нуждается в постоянном присмотре.
– Надежда, по словам поэта, сэр, – заметил джентльмен, – есть кормилица юного желания.
Мартин подтвердил, что ему случалось слышать, будто этой руководящей добродетели приходится нести такие чисто домашние обязанности.
– Она не выкормит младенца в данном случае, сэр, вот увидите, – заметил джентльмен.
– Время покажет, – сказал Мартин. Джентльмен важно кивнул головой и спросил:
– Ваша фамилия, сэр? Мартин сказал ему.
– Сколько вам лет, сэр? Мартин сказал ему.
– Ваша профессия, сэр? Мартин сказал и это.
– Куда вы направляетесь, сэр? – осведомился джентльмен.
– Право, – сказал Мартин, улыбаясь, – не могу вам сообщить ничего удовлетворительного на этот счет, я и сам еще ничего не знаю.
– Вот как? – заметил джентльмен.
– Да, – сказал Мартин.
Джентльмен сунул трость под мышку и осмотрел Мартина с головы до ног, весьма пристально и внимательно, чего не удосужился сделать до сих пор. Закончив осмотр, он протянул правую руку и, обменявшись с Мартином рукопожатием, сказал:
– Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор "Нью-йоркского скандалиста".
Мартин отнесся к его словам настолько почтительно, насколько этого требовал характер такого интересного сообщения,
– "Нью-йоркский скандалист", сэр, – продолжал полковник, – как вам, надеюсь, известно, является органом аристократии в этом городе.
– Ах, так здесь есть и аристократия? – сказал Мартин. – Из кого же она состоит?
– Из разума. – ответил полковник, – из разума и добродетели. А также из необходимого к ним дополнения в этой республике – из долларов, сэр.
Мартин был очень рад это слышать и уже не сомневался, что скоро станет большим капиталистом, если разум и добродетель неизбежно приводят к накоплению долларов. Он только что собрался выразить свою радость по этому поводу, как его прервал капитан корабля, который подошел пожать руку полковнику, и увидев на палубе хорошо одетого пассажира (Мартин сбросил свой плащ), пожал руку и ему. Мартин сразу вздохнул свободнее, так как, невзирая на признанный авторитет ума и добродетели в этой счастливой стране, он почувствовал бы себя глубоко униженным, если бы выступил перед полковником Дайвером в жалкой роли трюмного пассажира.
– Ну, капитан! – сказал полковник.
– Ну, полковник! – воскликнул капитан. – У вас замечательно бодрый вид, сэр. Вас прямо не узнать, это факт.
– Как шли, капитан? – осведомился полковник, отводя его в сторону.
– Что ж, шли довольно прилично, сэр, – произнес, или скорее пропел, капитан, истый уроженец Новой Англии *, – довольно прилично, принимая во внимание погоду.
– Да? – сказал полковник.
– Да, можно сказать, – ответил капитан. – Я только что послал к вам в редакцию юнгу со списком пассажиров, полковник.
– Может быть, у вас найдется еще один юнга, капитан? – спросил полковник тоном, довольно близким к суровости.
– Хоть десяток, если вам потребуется, полковник, – отвечал капитан.
– Один мальчик средних размеров, может, донес бы дюжину шампанского до редакции, – в раздумье произнес полковник. – Кажется, вы сказали, переход был вполне приличный?
– Да, сказал, – был ответ.
– Это совсем близко, рукой подать, – продолжал полковник. – Я очень рад, что вы шли вполне прилично, капитан. Не беспокойтесь, если у вас не найдется больших бутылок. Мальчик может принести и две дюжины, прогуляется два раза вместо одного. Так переход был первоклассный? Да?
– Самый что ни на есть, – сказал капитан.
– Я в восторге, что вам везет, капитан. Вы могли бы одолжить мне заодно штопор и полдюжины стаканов? Как бы ни вооружались стихии против замечательного пакетбота моей страны "Винт", сэр, – сказал полковник, оборачиваясь к Мартину и размашисто чертя тростью по палубе, – и туда и обратно он идет с исключительной быстротой!
Капитан, у которого в эту самую минуту в одной каюте роскошно завтракала "Помойка", а в другой допивался до бесчувствия добродушный "Клеветник", любезно простился со своим другом полковником и побежал отправлять ему шампанское, отлично зная (как не замедлило выясниться) , что если ему не удастся умилостивить редактора "Нью-йоркского скандалиста", то не пройдет и дня, как Этот властитель очернит его с пароходом вместе, крупным шрифтом, – а быть может, заденет и память его матушки, которая умерла всего двадцать лет тому назад. Полковник, оставшись вдвоем с Мартином, не дал ему уйти и предложил показать город, из уважения к тому, что он англичанин, а также рекомендовать ему, если он пожелает, приличный пансион. Но прежде всего, сказал полковник, он просил бы оказать ему честь: посетить редакцию "Скандалиста" и распить бутылочку шампанского, лично им привезенную из Европы.
Все это было до такой степени любезно и гостеприимно, что Мартин охотно согласился, хотя было еще раннее утро. И потому, наказав Марку, который хлопотал около своей знакомой и ее троих детей, чтобы он, подавши им помощь и управившись с багажом, приходил за дальнейшими распоряжениями в редакцию "Скандалиста", Мартин сошел на берег вместе со своим новым знакомым.
Они с трудом пробрались через унылую толпу эмигрантов на пристани, сидевших на своих постелях и сундуках под открытым небом с таким растерянным видом, словно упали с другой планеты, и некоторое время шли по оживленной улице, вдоль которой тянулись с одной стороны набережные и суда, а с другой – длинный ряд ярко-красных кирпичных складов и контор, украшенных таким множеством черных вывесок с белыми буквами и белых вывесок с черными буквами, какого Мартину не приходилось видеть даже там, где места для них было в пятьдесят раз больше. Скоро они свернули в узкую улицу, а потом в другие улицы, еще уже, и, наконец, остановились перед домом, на котором было намалевано крупными буквами:
"НЬЮ-ЙОРКСКИЙ СКАНДАЛИСТ"
Полковник, который всю дорогу шел, заложив руку за борт сюртука, сдвинув шляпу на затылок и время от времени поматывая головой, как подобает человеку, подавленному сознанием собственного величия, повел Мартина по темной и грязной лестнице в такую же темную и грязную комнату, всю заваленную газетами и усеянную измятыми обрывками гранок и рукописей. В этом помещении за обшарпанным письменным столом сидела некая фигура с огрызком пера во рту и большими ножницами резала и кромсала кипу номеров "Нью-йоркского скандалиста"; фигура эта была настолько смехотворна, что Мартину стоило большого труда удержаться от улыбки, хотя он Знал, что полковник Дайвер пристально наблюдает за ним.
Субъект, резавший и кромсавший газеты, был молодой человек очень маленького роста, крайне юный по внешности и с болезненно-бледным лицом, что объяснялось отчасти усиленной работой мысли, а отчасти неумеренным употреблением табака, который он усердно жевал в эту минуту. Он носил отложные воротнички и черную ленту вместо галстука: а его прямые, довольно жидкие волосы (вернее то, что от них осталось) были не только прилизаны и зачесаны назад для большей поэтичности, но и кое-где вырваны с корнем, отчего его высокий лоб отличался некоторой прыщеватостью. Нос у него был того фасона, который человечество из зависти окрестило "курносым", с очень сильно вздернутым кончиком, как бы от высокомерия. На верхней губе молодого человека виднелись зачатки рыжеватого пушка, до такой степени редкого, что несмотря на все его старания, он более походил на следы только что съеденного имбирного пряника, чем на признаки будущих усов; и это сходство еще усиливал его нежный, по-видимому, возраст. Молодой человек был весь погружен в работу. Каждый раз как он щелкал ножницами, его челюсти тоже производили соответствующее движение, что придавало ему весьма устрашающий вид, Мартин, недолго думая, решил про себя, что это, должно быть, сын полковника Дайвера, надежда семьи и будущая опора газеты. Он уже хотел было сказать полковнику, что очень приятно видеть такого мальчугана играющим в редактора со всей невинностью младенческого возраста, как полковник прервал его, провозгласив с гордостью:
– Мой военный корреспондент, сэр, мистер Джефферсон Брик.
Мартин подскочил при этом неожиданном сообщении, сознавая, какую непоправимую ошибку он едва не совершил.
Мистер Брик был, по-видимому, польщен впечатлением, которое он произвел на незнакомца; он пожал ему руку с покровительственным видом, как бы давая этим понять, что бояться тут нечего и что он, Брик, его не съест.
– Вы, я вижу, слышали о Джефферсоне Брике, сэр, – произнес полковник с улыбкой. – Англия слыхала о Джефферсоне Брике. Европа слыхала о Джефферсоне Брике. Позвольте. Когда вы уехали из Англии?
– Пять недель тому назад, – сказал Мартин.
– Пять недель, – повторил задумчиво полковник, усаживаясь на стол и болтая ногами. – Так позвольте спросить вас, сэр, какая из статей мистера Брика того времени всего ненавистнее парламенту и Сент-Джеймскому дворцу? *
– Честное слово, – сказал Мартин, – я...
– Я имею основания думать, – прервал его полковник, – что аристократические крути вашей родины трепещут перед именем Джефферсона Брика. Мне хотелось бы слышать из ваших уст, сэр. какое из его утверждений нанесло самый тяжкий удар...
– ...стоглавой гидре Коррупции, которая ныне поражена копьем Разума и пресмыкается во, прахе, изрыгая фонтаны крови до самых небес, – произнес мистер Брик, надевая маленькую фуражку синего сукна с лакированным козырьком и цитируя свою последнюю статью.
– Алтарь свободы, Брик... – подсказал полковник.
– ...следует иногда орошать кровью, полковник, – воскликнул Брик. И, произнося слово "кровь", он резко щелкнул большими ножницами, словно и они тоже произнесли "кровь", вполне разделяя его мнение.
После этого оба они воззрились на Мартина, ожидая его ответа.
– Честное слово, – сказал Мартин, к которому вернулось его обычное хладнокровие, – я не могу дать вам нужных сведений; сказать по правде, я...
– Погодите! – воскликнул полковник, сурово глядя на своего военного корреспондента и кивая головой после каждой фразы. – Потому, что вы никогда не слыхали о Джефферсоне Брике, сэр. Потому, что вы никогда не читали Джефферсона Брика, сэр. Потому, что вы никогда не видали "Нью-йоркского скандалиста", сэр. Потому, что вы не знали о его могущественном влиянии на кабинеты Европы, Да?
– Действительно, как раз это я и собирался сказать, – заметил Мартин.
– Спокойствие, Джефферсон, – важно сказал полковник, – не кипятитесь! О вы, европейцы! А теперь давайте выпьем по бокалу вина! – С этими словами он слез со стола и вынул из корзины, стоявшей за дверью, бутылку шампанского и три стакана.
– Мистер Джефферсон Брик, сэр, провозгласит нам тост, – сказал полковник, наливая по стакану себе и Мартину и передавая бутылку мистеру Брику.
– Что ж, сэр, – произнес военный корреспондент, – я готов. Я провозглашаю тост за "Нью-йоркского скандалиста", сэр, и, за его собратьев, за кладезь истины, чьи йоды черны, ибо состоят из типографской краски, но достаточно прозрачны для того, чтобы в них отразились судьбы моего отечества.
– Слушайте, слушайте! – отозвался полковник с большим удовлетворением. – А ведь речь моего друга составлена довольно цветисто, сэр!
– И очень даже, – сказал Мартин.
– Вот сегодняшний номер "Скандалиста", сэр, – заметил полковник, подавая ему газету. – Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов.
Полковник опять уселся на стол. Мистер Брик сел рядом с ним; и оба они приналегли на шампанское. Они часто посматривали на Мартина, который читал газету, а потом друг на друга. Когда он положил газету, – что случилось уже после того, как они прикончили вторую бутылку, – полковник спросил, понравилась ли ему газета.
– Как вам сказать, уж очень много намеков на личности, – ответил Мартин.
Полковник был, по-видимому, весьма польщен этим замечанием и высказал надежду, что так оно и есть.
– Мы здесь независимы, сэр, – заметил Джефферсон Брик. – Мы поступаем, как нам нравится.
– Если судить по этому образцу, – возразил Мартин, – сотни тысяч людей здесь, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.
– Что ж, они подчиняются могущественному воздействию Всеобщей Воспитательницы, сэр, – сказал полковник Дайвер. – Случается, что они бунтуют; но вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан и в общественной и в частной жизни, что является одним из облагораживающих установлений нашей страны, так же как и...
– Так же как и рабство негров, – подсказал мистер Брик.
– Совершенно верно, – заметил полковник.
– Простите, – сказал Мартин после некоторого колебания, – нельзя ли спросить по поводу одного случая, о котором я прочел в вашей газете: часто ли Всеобщая Воспитательница занимается – не знаю, как бы это выразить, чтобы не обидеть вас, – подлогами? Например, подделкой писем, – продолжал он, видя, что полковник остается совершенно невозмутим и спокоен, – что не мешает ей утверждать, будто они написаны совсем недавно и живыми людьми?
– Что ж, сэр, – ответил полковник, – занимается время от времени.
– А воспитанники? Как они поступают в таком случае? – спросил Мартин.
– Покупают газеты, – сказал полковник. Мистер Джефферсон Брик сплюнул и засмеялся; сплюнул обильно и засмеялся одобрительно.
– Покупают их сотнями тысяч, – заключил полковник. – Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.
– Разве подлог значит по-американски "ловкость"? – спросил Мартин.
– Ну, – ответил полковник, – я думаю, по-американски "ловкость" значит очень многое, что у вас называется по-другому. Зато у вас в Европе руки связаны. А у нас нет.
"И вы этим пользуетесь, – подумал Мартин. – Да еще как бесцеремонно!"
– Во всяком случае, какое бы название мы ни употребили, – продолжал полковник, нагибаясь, чтобы закатить в угол третью пустую бутылку вслед за двумя первыми, – я полагаю, искусство подлога изобрели не здесь, сэр?
– Я тоже так полагаю, – ответил Мартин.
– И другие виды ловкости тоже?
– Изобрели? Нет, думаю, что не здесь!
– Ну, – сказал полковник, – значит, мы все это получили из Старого Света, Старый Свет и виноват, а не Новый. И дело с концом. А теперь, если вы с мистером Джефферсоном Бриком будете любезны пройти вперед, я выйду последним и запру дверь.
Правильно истолковав эти слова как сигнал к отбытию, Мартин спустился с лестницы вслед за военным корреспондентом, который весьма величественно предшествовал ему. Полковник догнал их, и они вышли из редакции "Нью-йоркского скандалиста" на улицу; причем Мартин никак не мог решить, дать ли полковнику в зубы за то, что тот осмелился с ним так разговаривать, или же принять на веру его слова – что он и его газета являются одним из прославленных учреждений этой новой страны.
Было ясно, что полковник Дайвер, будучи уверен в прочности своего положения и в совершенстве зная своего читателя, очень мало беспокоился о том, что думает о нем Мартин или кто бы то ни было. Его остро приправленный товар предназначался для продажи и раскупался бойко; тысячи читателей так же мало могли винить его за то, что они рады валяться в грязи, как обжора повара за свою скотскую неумеренность. Полковника только порадовало бы, если бы ему сказали, что нигде в другой стране такой человек, как он, не мог бы расхаживать по улицам, наслаждаясь своим успехом: это было бы для него лишним подтверждением того, что его труды угодили господствующим вкусам и что сам он законное и характерное порождение национальных нравов.
Они прошли целую милю или больше того по красивой улице, которая, по словам полковника, называлась Бродвеем, а по словам мистера Джефферсона Брика – "утерла нос всему миру". Свернув, наконец, в одну из множества боковых улиц, ответвлявшихся от главной, они остановились перед довольно невзрачным домом. Мартин увидел жалюзи на окнах, крыльцо перед зеленой входной дверью, блестящие белые шишки на столбиках по обе стороны крыльца, похожие на отполированный окаменевший ананас, продолговатую дощечку из того же материала над дверным молотком с выгравированной на ней фамилией "Паукинс" и четырех случайно забредших сюда свиней, заглядывавших в подвальный этаж.
Полковник постучался в дверь с видом человека, который живет в доме, и девушка-ирландка высунулась из окна в верхнем этаже – посмотреть, кто стучит. Пока она успела сойти вниз, к четырем свиньям присоединились еще две-три приятельницы с соседней улицы, и они всей компанией благодушно разлеглись в канаве.
– Майор дома? – осведомился полковник, входя в дверь.
– Вы это про хозяина, сэр? – спросила девушка с нерешительностью, наводившей на мысль, что у них в заведении сколько угодно майоров.
– Хозяин! – сказал полковник Дайвер, останавливаясь на месте, и оглядываясь на своего военного корреспондента.
– О, как унизительны нравы этой Британской империи, полковник! – сказал Джефферсон Брик. – Хозяин!
– Чем же плохо это слово? – спросил Мартин.
– Надеюсь, что его никогда не слыхали в нашей стране, сэр, вот и все, сказал Джефферсон Брик, – за исключением тех случаев, когда его произносит какая-нибудь невежественная служанка, незнакомая с благами нашего строя, так же как вот эта. Здесь у нас нет хозяев.
– Все "владельцы", не так ли? – сказал Мартин.
Мистер Джефферсон Брик проследовал за редактором "Нью-йоркского скандалиста", ничего не ответив. Мартин шел за ними, думая тем временем, что свободные и независимые граждане, признавшие полковника Дайвера своим "воспитателем", оказали бы гораздо больше уважения богине Свободы, если бы видели ее только во сне, лежа на печи как русские крепостные.
Полковник повел их в комнату на первом этаже в глубине дома, светлую и большую, но на редкость неуютную, где были только голые стены и потолок, плохонький ковер, длинный обеденный стол, уныло простиравшийся от одного конца комнаты, до другого, и невероятное количество стульев с плетеными сиденьями. В глубине это и пиршественной залы стояла печка, с обеих сторон которой красовалось по большой медной плевательнице и которая имела вид трех чугунных бочонков, поставленных стоймя на решетку и соединенных между собою наподобие сиамских близнецов. Перед печкой, покачиваясь в качалке, сидел внушительных размеров джентльмен в шляпе; он развлекался тем, что плевал попеременно то в плевательницу налево от печки, то в плевательницу направо от печки, и снова в том же порядке. Подросток-негр в грязной белой куртке раскладывал на столе двумя длинными рядами ножи и вилки, перемежая их время от времени кувшинами с водой, и, обходя стол с одной стороны, то и дело поправлял грязными руками еще более грязную скатерть, которая вся перекосилась и, как видно, не снималась после завтрака. Воздух в комнате был чрезвычайно жаркий и удушливый; а так как в нем носились тошнотворные пары супа из кухни и исходившие из вышеупомянутых медных сосудов миазмы, отдаленно напоминавшие табачную вонь, – непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.
Джентльмен в качалке, сидевший к ним спиной и весь поглощенный своим интеллектуальным занятием, не замечал их до тех пор, пока полковник, подойдя к печке, не отправил свою лепту в левую плевательницу, как раз в ту минуту, когда майор – это и был майор – нацелился плюнуть туда же. Майор Паукинс приостановил огонь и, подняв глаза, произнес с особенным выражением тихой усталости, как у человека, не спавшего всю ночь, которое Мартин уже подметил и у полковника и у мистера Джефферсона Брика:
– Ну, полковник?
– Бот джентльмен из Англии, майор, – отвечал полковник, – он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.
– Очень рад вас видеть, сэр, – заметил майор, пожимая руку Мартину, причем на его лице не дрогнул ни единый мускул. – Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?
– Очень хорошо, – сказал Мартин.
– Вряд ли вам будет где-нибудь лучше, – возразил майор, – Здесь вы узнаете, что такое свет солнца.
– Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит. – сказал Мартин, улыбаясь.
– Не думаю, – ответил майор. Он произнес это, разумеется, со стоическим равнодушием, но твердым тоном, не допускавшим никаких пререканий. Разрешив таким образом этот вопрос, он слегка сдвинул шляпу набок, чтобы удобнее было почесать голову, и ленивым кивком приветствовал мистера Джефферсона Брика.
Майор Паукинс, родом из Пенсильвании, отличался весьма тяжеловесным черепом и объемистым желтым лбом, в силу каковых достоинств в барах и прочих увеселительных заведениях распространено было мнение, будто майор человек обширного ума. Кроме того, он отличался осовелым взглядом и вялыми, медлительными движениями, а также тем, что ему требовался большой простер, чтобы развернуться. Однако, пуская свою мудрость в оборот, од неизменно применял правила – выставлять на витрину весь товар, какой у него имеется (и даже больше), и это сильно действовало на его приверженцев. Очевидно, это внушало уважение и мистеру Джефферсону Брику, который не упустил случая шепнуть на ухо Мартину:
– Один из самых замечательных людей нашей страны, сэр!
Не следует полагать, однако, что майор только тем и завоевал общие симпатии и уважение, что постоянно выставлял на продажу или отдавал напрокат весь свой наличный запас товаров. Он был большой политик. Единственный его девиз по части тех обязанностей гражданина, от которых зависит честь и доброе имя его отечества, гласил: "0бмакнув перо, зачеркнуть все начисто и начать снова". Поэтому он считался патриотом. В коммерческих делах он был отважным прожектером. Проще говоря, он умел весьма ловко мошенничать и мог открыть банк, организовать заем, основать компанию для спекуляции земельными участками (неся разорение, гибель и смерть сотням семейств) не хуже всякой другой изворотливой бестии в Соединенных Штатах. Поэтому он считался замечательным дельцом. Он мог околачиваться в баре, разглагольствуя о государственных делах по двенадцати часов подряд, и при этом ухитрялся нагнать на всех больше скуки, изжевать и выкурить больше табаку и выпить больше ромового пунша, мятного грога, джина и разных смесей, чем любое частное лицо из его знакомых. Поэтому он считался оратором и другом народа. Словом, майор шел в гору, приобретал популярность, и немало шансов было за то, что его изберут в палату представителей штата Нью-Йорк, а не то пошлют и в самый Вашингтон. Но так как личное благосостояние человека не всегда идет в ногу с его патриотической преданностью общественным делам и так как жульнические махинации иногда удаются, а иногда и нет, то майору Паукинсу временами не везло. Как раз поэтому миссис Паукинс содержала теперь меблированные комнаты, а майор Паукинс больше лодырничал, чем занимался делом.