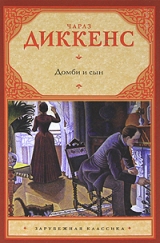
Текст книги "Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 67 страниц)
Глава XXXIV
Другие мать и дочь
В безобразной и мрачной комнате старуха, тоже безобразная и мрачная, прислушивалась к ветру и дождю и, скорчившись, грелась у жалкого огня. Предаваясь этому последнему занятию с большим тщанием, чем первому, она не меняла позы; только тогда, когда случайные дождевые капли падали, шипя, на тлеющую золу, она поднимала голову, вновь обращая внимание на свист ветра и шум дождя, а потом постепенно опускала ее все ниже, ниже и ниже, погружаясь в унылые размышления; ночные шумы сливались для нее в однообразный гул, напоминающий гул моря, когда он едва-едва достигает слуха того, кто сидит в раздумье на берегу.
В комнате света не было, кроме отблеска, падавшего от очага. Время от времени, злобно вспыхивая, словно глаза дремлющего свирепого зверя, огонь озарял предметы, отнюдь не нуждавшиеся в лучшем освещении. Куча тряпья, куча костей, жалкая постель, два-три искалеченных стула, или, вернее, табурета, грязные стены и еще более грязный потолок – вот все, на что падал дрожащий отблеск. Когда старуха, чья гигантская и искаженная тень виднелась на стене и на потолке, сидела вот так, сгорбившись над расшатанными кирпичами, замыкавшими огонь, разложенный в сыром очаге – печки здесь не было, – казалось, будто она, перед некиим алтарем ведьмы, ждет счастливого предзнаменования. И если бы ее шамкающий рот и дрожащий подбородок не двигались слишком часто и быстро по сравнению с неторопливым мерцанием пламени, можно было подумать, что это только иллюзия, порожденная светом, который, разгораясь и угасая, падал на лицо, такое же неподвижное, как тело.
Если бы Флоренс оказалась в этой комнате и взглянула на ту, которая, скорчившись у камина, отбрасывала тень на стену и потолок, она с первого же взгляда узнала бы Добрую миссис Браун, несмотря на то, что, быть может, детское ее воспоминание об этой ужасной старухе отражало истину столь же искаженно и несоразмерно, как тень на стене. Но Флоренс здесь не было, и Добрая миссис Браун оставалась неузнанной и сидела, никем не примеченная, устремив взгляд на огонь.
Встрепенувшись от шипенья более громкого, чем обычно – струйки дождевой воды проникли в дымоход, – старуха нетерпеливо подняла голову и снова стала прислушиваться. На этот раз она не опустила головы, потому что кто-то толкнул дверь и чьи-то шаги послышались в комнате.
– Кто это? – оглянувшись, спросила она.
– Я принесла вам вести, – раздался в ответ женский голос.
– Вести? Откуда?
– Из чужих стран.
– Из-за океана? – вскочив, крикнула старуха.
– Да, из-за океана.
Старуха торопливо сгребла в кучу горящее угли и подошла вплотную к своей гостье, которая закрыла за собой дверь и остановилась посреди комнаты; опустив руку на ее промокший плащ, старуха повернула женщину так, чтобы свет падал прямо на нее. Она обманулась в своих ожиданиях, каковы бы они ни были, потому что выпустила из рук плащ и сердито вскрикнула от досады и огорчения.
– В чем дело? – спросила гостья.
– О-о! О-о! – подняв голову, отчаянно завыла старуха.
– В чем дело? – повторила гостья.
– Это не моя дочка! – воскликнула старуха, всплескивая руками и заламывая их над головой. – Где моя Элис? Где моя красавица дочь? Они ее уморили!
– Они еще не уморили ее, если ваша фамилия Марвуд, – сказала гостья.
– Значит, ты видела мою дочку? – вскричала старуха. – Она написала мне?
– Она сказала, что вы не умеете читать, ответила та.
– Не умею! – ломая руки, воскликнула старуха.
– У вас здесь нет свечи? – спросила гостья, окидывая взглядом комнату.
Старуха, шамкая, тряся головой, бормоча что-то о своей красавице дочке, достала свечу из шкафа, стоявшего в углу, и, сунув ее дрожащей рукой в камин, зажгла не без труда и поставила на стол. Грязный фитиль сначала горел тускло, утопая в оплывающем сале; когда же мутные и ослабевшие глаза старухи смогли что-то разглядеть при этом свете, гостья уже сидела, скрестив руки и опустив глаза, а платок, которым была повязана ее голова, лежал подле нее на столе.
– Значит, она, моя дочка Элис, велела что-то мне передать? – прошамкала старуха, подождав несколько секунд. – Что она говорила?
– Глядите, – сказала гостья.
Старуха повторила это слово испуганно, недоверчиво и, заслонив глаза от света, поглядела на говорившую, окинула взором комнату и снова поглядела на женщину.
– Элис сказала: «Пусть мать поглядит еще раз», – и женщина устремила на нее пристальный взгляд.
Снова старуха окинула взором комнату, посмотрела на гостью и еще раз окинула взором комнату. Торопливо схватив свечу и поднявшись с места, она поднесла се к лицу гостьи, громко вскрикнула и, поставив свечу, бросилась на шею пришедшей.
– Это моя дочка! Это моя Элис! Это моя красавица дочь, она жива и вернулась! – визжала старуха, раскачиваясь и прижимаясь к груди дочери, холодно отвечавшей на ее объятия. – Это моя дочка! Это моя Элис! Это моя красавица дочь, она жива и вернулась! – взвизгнула она снова, упав перед ней на колени, обхватив се ноги, прижимаясь к ним головой и по-прежнему раскачиваясь из стороны в сторону с каким-то неистовством.
– Да, матушка, – отозвалась Элис, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, но даже в этот момент стараясь освободиться из ее объятий. – Наконец-то я здесь! Пустите, матушка, пустите! Встаньте и сядьте на стул. Что толку валяться на полу?
– Она вернулась еще более жестокой, чем ушла! – воскликнула мать, глядя ей в лицо и все еще цепляясь за ее колени. – Ей нет до меня дела! После стольких лет и всех моих мучений!
– Ну что же, матушка! – сказала Элис, встряхивая спои рваные юбки, чтобы избавиться от старухи. – Можно посмотреть на это и с другой стороны. Годы прошли и для меня так же, как для вас, и мучилась я так же, как и вы. Встаньте! Встаньте!
Мать поднялась с колен, заплакала, стала ломать руки и, стоя поодаль, не спускала с нее глаз. Потом она снова взяла свечу и, обойдя вокруг дочери, осмотрела ее с головы до ног, тихонько хныча. Затем поставила свечу, опустилась на стул и, похлопывая в ладоши, словно в такт тягучей песне, раскачиваясь из стороны в сторону, продолжала хныкать и причитать.
Элис встала, сняла мокрый плащ и положила его в сторону. Потом снова села, скрестила руки и, глядя на огонь, молча, с презрительной миной слушала невнятные сетования своей старой матери.
– Неужели вы надеялись, матушка, что я вернусь такою же молодой, какой уехала? – сказала она наконец, бросив взгляд на старуху. – Неужели воображали, что жизнь, которую вела я в чужих краях, красит человека? Право же, можно это подумать, слушая вас!
– Не в этом дело! – воскликнула мать. – Она знает!
– Так в чем же дело? – отозвалась дочь. – Лучше бы вы поскорей успокоились, матушка, ведь уйти мне легче, чем прийти.
– Вы только послушайте ее! – вскричала старуха. – После всех этих лет она грозит опять меня покинуть в ту самую минуту, когда только что вернулась!
– Повторяю вам, матушка, годы прошли и для меня так же, как для вас, – сказала Элис. – Вернулась еще более жестокой? Конечно, вернулась еще более жестокой. А вы чего ждали?
– Более жестокой ко мне! К собственной матери! – воскликнула старуха.
– Не знаю, кто первый ожесточил мое сердце, если не моя дорогая мать, – отозвалась та; она сидела, скрестив руки, сдвинув брови и сжав губы, как будто решила во что бы то ни стало задушить в себе все добрые чувства. – Выслушайте несколько слов, матушка. Если сейчас мы поймем друг друга, может быть, у нас не будет больше ссор. Я ушла девушкой, а вернулась женщиной. Не очень-то я старалась выполнять свой долг, прежде чем ушла отсюда, и – будьте уверены – такою же я вернулась. Но вы-то помнили о своем долге по отношению ко мне?
– Я? – вскричала старуха. – По отношению к родной дочке? Долг матери по отношению к ее собственному ребенку?
– Это звучит странно, не правда ли? – отозвалась дочь, холодно обратив к ней свое строгое, презрительное, дерзкое и прекрасное лицо. – Но за те годы, какие я провела в одиночестве, я иногда об этом думала, пока не привыкла к этой мысли. В общем, я слыхала немало разговоров о долге; но всегда речь шла о моем долге по отношению к другим. Иной раз – от нечего делать – я задавала себе вопрос, неужели ни у кого не было долга по отношению ко мне.
Мать шамкала, жевала губами, трясла головой, но неизвестно, было ли это выражением гнева, раскаяния, отрицания или же телесной немощью.
– Была девочка, которую звали Элис Марвуд, – со смехом сказала дочь, оглядывая себя с жестокой насмешкой, – рожденная и воспитанная в нищете, никому на свете не нужная. Никто ее не учил, никто не пришел ей на помощь, никто о ней не заботился.
– Никто! – повторила мать, указывая на себя и ударяя себя в грудь.
– Единственная забота, какую она видела, – продолжала дочь, – заключалась в том, что иногда ее били, морили голодом и ругали; а без таких забот она, может быть, кончила бы не так скверно. Она жила в таких вот домах, как этот, и на улицах с такими же жалкими детьми, как она сама; и, несмотря на такое детство, она стала красавицей. Тем хуже для нее! Лучше бы ее всю жизнь травили и терзали за уродство!
– Продолжай, продолжай! – воскликнула мать.
– Я продолжаю, – отозвалась дочь. – Была девушка, которую звали Элис Марвуд. Она была хороша собой. Ее слишком поздно стали учить, и учили дурно. О ней слишком заботились, ее слишком муштровали, ей слишком помогали, за ней слишком следили. Вы ее очень любили – в ту пору вы были обеспечены. То, что случилось с этой девушкой, случается каждый год с тысячами. Это было только падение, и для него она родилась.
– После всех этих лет! – захныкала старуха. – Вот с чего начинает моя дочка!
– Она скоро кончит, – сказала дочь. – Была преступница, которую звали Элис Марвуд, еще молодая, но уже покинутая и отверженная. И ее судили и вынесли приговор. Ах, боже мой, как рассуждали об этом джентльмены в суде! И как внушительно говорил судья о ее долге и о том, что она употребила во зло дары природы, как будто он не знал лучше других, что эти дары были для нее проклятьем! И как поучительно он толковал о сильной руке закона! Да, не очень-то сильной оказалась эта рука, чтобы спасти ее, когда она была невинной и беспомощной жалкой малюткой! И как это все было торжественно и благочестиво! Будьте уверены, я часто думала об этом с тех пор.
Она крепче скрестила на груди руки и рассмеялась таким смехом, по сравнению с которым вой старухи показался музыкой.
– Итак, Элис Марвуд сослали за океан, матушка, – продолжала она, – и отправили обучаться долгу туда, где в двадцать раз меньше помнят о долге и где в двадцать раз больше зла, порока и бесчестья, чем здесь. И Элис Марвуд вернулась женщиной. Такой женщиной, какой надлежало ей стать после всего этого. В свое время опять раздадутся, по всей вероятности, торжественные и красивые речи, опять появится сильная рука, и тогда настанет конец Элис Марвуд. Но джентльменам нечего бояться, что они останутся без работы! Сотни жалких детей, мальчиков и девочек, подрастают на любой из тех улиц, где живут эти джентльмены, и потому они будут делать свое дело, пока не сколотят себе состояние.
Старуха оперлась локтями на стол и, прикрыв лицо обеими руками, притворилась очень огорченной, или, быть может, в самом деле была огорчена.
– Ну вот! Я кончила, матушка, – сказала дочь, тряхнув головой, как бы желая прекратить этот разговор. – Я сказала достаточно. Что бы мы с вами ни делали, но о долге мы больше говорить не будем. Думаю, что у вас детство было такое же, как у меня. Тем хуже для нас обеих. Я не хочу обвинять вас и не хочу защищать себя; зачем мне это? С этим покончено давным-давно. Но теперь я женщина, не девочка, и нам с вами незачем выставлять напоказ свою жизнь, как это сделали те джентльмены в суде. Нам она хорошо известна.
Лицо и фигура этой падшей, опозоренной женщины отличались той красотой, какую даже в минуты самые для нее невыгодные не мог бы не заметить и невнимательный зритель. Когда она погрузилась в молчание, лицо ее, прежде искаженное волнением, стало спокойным, а в темных глазах, устремленных на огонь, угасло вызывающее выражение, уступив место блеску, смягченному чем-то похожим на скорбь; потускневшее сияние падшего ангела озарило на мгновение ее нищету и усталость.
Мать, следившая за ней молча, осмелилась потихоньку протянуть к ней через стол иссохшую руку и, убедившись, что дочь не отстранилась, коснулась ее лица и погладила по голове. Почувствовав, кажется, что эти ласки старухи были искренни, Элис не шевелилась; и та, осторожно приблизившись к дочери, заплела ей волосы, сняла с нее мокрые башмаки, если только можно было назвать их башмаками, накинула ей на плечи какую-то сухую тряпку и смиренно суетилась вокруг нее, постепенно узнавая прежние ее черты и выражение лица и бормоча себе что-то под нос.
– Я вижу, вы очень бедны, матушка, – сказала Элис, которая сидела так довольно долго и, наконец, окинула взглядом комнату.
– Ужасно бедна, милочка, – ответила старуха.
Она восхищалась дочерью и боялась ее. Быть может, ее восхищение, каким бы оно ни было, зародилось давно, когда в разгар унизительной борьбы за жизнь она впервые заметила красоту дочери. Быть может, ее страх имел какое-то отношение к тому прошлому, о котором она только что слышала. Во всяком случае, она стояла покорно и почтительно перед дочерью и жалобно понурила голову, словно умоляя избавить ее от новых упреков.
– Чем вы жили?
– Милостыней, дорогая моя.
– И воровством?
– Иногда. Или понемножку. Я стара и пуглива. Иной раз, милочка, я отнимала какую-нибудь мелочь у детей, но не часто. Я бродила по окрестностям, милая, и кое-что знаю. Я следила.
– Следили? – повторила дочь, взглянув на нее.
– Я выслеживала одну семью, – сказала мать еще более смиренно и покорно.
– Какую семью?
– Тише, милочка! Не сердись на меня. Я это делала из любви к тебе. В память о моей бедной дочке за океаном!
Она заискивающе протянула руку, потом прижала ее к губам.
– Много лет назад, милочка, – продолжала она, робко посматривая на внимательное и строгое лицо, обращенное к ней, – я встретила случайно его маленькую дочку.
– Чью дочку?
– Не его, Элис, милая. Не смотри на меня так. Не его! Ты ведь знаешь, у него нет детей.
– Так чью же? – спросила дочь. – Вы сказали – «его».
– Тише, Эли! Ты меня пугаешь, милочка. Мистера Домби – всего только мистера Домби. С тех пор, дорогая, я их часто видела. Я видела его.
Произнеся это последнее слово, старуха съежилась и попятилась, словно испугалась, что дочь ее ударит. Но хотя лицо дочери было обращено к ней и горело безумным гневом, она сидела неподвижно и только все крепче и крепче прижимала руки к груди, словно хотела их удержать, чтобы не причинить вреда себе или другим в слепом порыве бешенства, внезапно овладевшего ею.
– А он-то и не подозревал, кто я такая! – сказала старуха, грозя кулаком.
– Ему никакого дела до этого не было! – сквозь зубы пробормотала дочь.
– Но встретились мы лицом к лицу, – сказала старуха. – Я говорила с ним, и он говорил со мной. Я сидела и смотрела ему вслед, когда он шел по длинной аллее; и с каждым его шагом я проклинала его душу и тело.
– Это не помешает ему благоденствовать, – презрительно отозвалась дочь.
– Да, он благоденствует, – сказала мать.
Она замолчала потому, что лицо сидевшей перед ней дочери было искажено неистовой злобой. Казалось, грудь ее готова разорваться от ярости. Усилия, которые она делала, чтобы сдержать ее и обуздать, были не менее страшны, чем сама ярость, и не менее красноречиво свидетельствовали о необузданном нраве этой женщины. Но ее усилия увенчались успехом, и, помолчав, она спросила:
– Он женат.
– Нет, милочка, – сказала мать.
– Собирается жениться?
– Нет, милочка, насколько мне известно. Но его хозяин и друг женился. О, мы можем пожелать ему счастья! Мы можем им всем пожелать счастья! – вскричала старуха в сильном возбуждении. – Нам всем эта женитьба принесет счастье. Попомни мои слова.
Дочь смотрела на нее и ждала объяснения.
– Но ты промокла и устала, тебе хочется есть и пить, – сказала мать, ковыляя к шкафу. – А здесь мало что найдется, и тут тоже, – она опустила руку в карман и выложила на стол несколько полупенсовиков, – да, тут тоже. Элис, милочка, у тебя нет денег?
Алчное, хитрое, напряженное выражение, появившееся на лице у старухи, когда она задавала этот вопрос и следила за тем, как дочь достает из-за пазухи недавно полученный подарок, бросило свет на отношения между матерью и дочерью едва ли менее яркий, чем слова, сказанные раньше дочерью.
– Это все? – спросила мать.
– Больше у меня ничего нет. И этого бы не было, если бы мне не подали милостыню.
– Если бы не подали милостыню, дорогая? – повторила старуха, жадно склоняясь над столом, чтобы посмотреть на деньги, как будто не доверяя дочери, которая все еще держала их в руке. – Гм! Шесть и шесть – двенадцать, и шесть – восемнадцать… так… Нужно потратить их, и потратить расчетливо. Пойду куплю чего-нибудь поесть и выпить.
С большим проворством, чем можно было ожидать от нее, судя по виду – ибо старость и нищета сделали ее не менее дряхлой, чем уродливой, – она завязала дрожащими руками ленты старой шляпки и завернулась в изодранную шаль, все с тою же алчностью глядя на деньги в руке дочери.
– Какое счастье принесет нам эта женитьба, матушка? – спросила дочь. – Вы мне так и не сказали.
– Счастье для нас в том, – ответила та, дрожащими пальцами оправляя шаль, – что любви там вовсе нет, моя милочка, но зато много гордости и ненависти. Счастье в том, что между ними нелады и борьба, и им грозит опасность – опасность, Элис!
– Какая опасность?
– Я видела то, что видела! Я знаю то, что знаю! – захихикала мать. – Пусть кое-кто смотрит в оба! Пусть кое-кто остерегается. Моя дочка, быть может, еще попадет в хорошее общество.
Затем, видя, что дочь, смотревшая на нее серьезно и недоумевающе, невольно сжала руку, в которой были деньги, старуха засуетилась, чтобы поскорее их получить, и торопливо добавила:
– Ну я пойду куплю чего-нибудь. Пойду куплю чего-нибудь.
Пока она стояла с протянутой рукой перед дочерью, та, взглянув еще раз на деньги, поцеловала их, прежде чем с ними расстаться.
– Как, Эли! Ты их целуешь? – хихикнула старуха. – Вот это похоже на меня! Я это часто делаю. О, они нам приносят столько добра! – И она прижала к обвисшей груди потускневшие полупенсовики. – Столько всякого добра они нам приносят, жаль только, что не текут к нам потоком!
– Я их целую сейчас, матушка, – сказала дочь, – вряд ли я когда-нибудь делала это раньше, – ради той, которая мне их дала.
– Ради той, которая их дала, милочка? – повторила старуха, чьи тусклые глаза вспыхнули, когда она взяла деньги. – Я тоже их целую ради того, кто дает, если это может заставить его раскошелиться. Но я пойду истрачу их, милочка. Я сейчас вернусь.
– Вы, кажется, сказали, что много знаете, матушка, – заметила дочь, провожая ее взглядом до двери. – Вы стали мудрой с тех пор, как мы расстались.
– Знаю! – прокаркала старуха, отступая на шаг от двери. – Я знаю больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем он думает, милочка, и об этом я тебе скоро расскажу. Я все о нем знаю.
Дочь недоверчиво улыбнулась.
– Я знаю его брата, Элис, – сказала старуха, вытянув шею со злорадством поистине страшным, – который мог бы очутиться там, где была ты, – за кражу. Он живет со своей сестрой на Северной дороге, за городом.
– Где?
– На Северной дороге, за городом, милочка. Если хочешь, можешь увидеть их дом. Похвастаться нечем, хотя у того, другого, – дом отменный… Нет, нет! – воскликнула старуха, качая головой и смеясь, потому что ее дочь вскочила со стула. – Не сейчас! Это слишком далеко; это у придорожного столба, где свалены в кучу камни… 3aвтра милочка, если погода будет хорошая и тебе захочется посмотреть. Но я пойду истрачу…
– Стойте! – Дочь бросилась к ней с бешенством, снова вспыхнувшим, как огонь. – Сестра – красивая чертовка с каштановыми волосами?
Старуха, удивленная и испуганная, кивнула головой.
– В ее лице есть что-то от него! Это красный дом, стоит в стороне. Перед дверью зеленое крылечко. Снова старуха кивнула.
– На котором я сегодня сидела! Отдайте назад деньги.
– Элис! Милочка!
– Отдайте деньги, не то вам не поздоровится!
С этими словами она вырвала деньги из рук старухи и, совершенно равнодушная к ее жалобам и мольбам, надела плащ и стремительно выбежала из дому.
Мать, прихрамывая, последовала за ней, стараясь не отставать и уговаривая ее, но эти уговоры производили на нее не больше впечатления, чем ветер, дождь и мрак, окутавший их. Упрямо и злобно стремясь к своей цели, равнодушная ко всему остальному, дочь не обращала внимания на непогоду и расстояние, как будто забыв об усталости и пройденном пути, и спешила к дому, где ей была оказана помощь. После четверти часа ходьбы старуха, выбившись из сил и запыхавшись, осмелилась уцепиться рукой за ее юбку; но на большее она не отважилась, и они молча шли под дождем и во тьме. Если у матери изредка срывалась жалоба, она сейчас же ее заглушала, опасаясь, что дочь убежит и бросит ее здесь одну; а дочь не нарушала молчания.
Был двенадцатый час ночи, когда они оставили позади городские улицы и вышли на те пустыри, среди которых находился дом. Мрак здесь был еще гуще, город раскинулся вдали, призрачный и хмурый; холодный ветер завывал на просторе; все вокруг было черно, дико, пустынно.
– Вот подходящее место для меня! – сказала дочь, останавливаясь, чтобы оглянуться. – Я уже подумала об ртом, когда была здесь сегодня.
– Элис, милочка! – воскликнула мать, тихонько дергая ее за юбку. – Элис!
– Ну, что еще, матушка?
– Не отдавай денег, милая. Пожалуйста, не отдавай. Мы не можем это делать. Нам надо поужинать, милочка. Деньги – это деньги, кто бы их ни дал. Скажи им все, что хочешь, но деньги оставь себе.
– Смотрите! – сказала в ответ дочь. – Вот дом, о котором я говорила. Это он?
Старуха утвердительно кивнула головой, и, пройдя еще несколько шагов, они подошли к запертой двери. Комната, где Элис сушила платье, была освещена пламенем камина и свечой; и когда она постучала в дверь, из этой комнаты вышел Джон Каркер.
Он удивился, увидав таких посетителей в столь поздний час, и спросил Элис, что ей нужно.
– Мне нужна ваша сестра, – сказала она. – Женщина, которая дала мне сегодня деньги. На громкий ее голос вышла Хэриет.
– О! – воскликнула Элис. – Вы здесь! Вы меня помните?
– Да, – с недоумением ответила та.
Лицо, которое днем было смиренно обращено к ней, дышало теперь такой неукротимой ненавистью и презрением и рука, несколько часов назад мягко касавшаяся ее плеча, сжалась в кулак с такою злобой, что Хэриет, ища Защиты, прижалась к брату.
– Как могла я говорить с вами и вас не узнать! Как могла я приблизиться к вам и не почувствовать по жару в моей крови, чья кровь течет в ваших жилах1 – воскликнула Элис угрожающе взмахнув рукой.
– Что вы хотите сказать? Что я сделала?
– Что вы сделали? – отозвалась та. – Вы посадили меня к своему очагу. Вы накормили меня и дали мне денег. Вы из жалости подарили мне свое сострадание! Вы, на чье имя я плюю!
Старуха со злорадством, делавшим ее безобразное лицо поистине страшным, погрозила брату и сестре своею иссохшей рукой в подтверждение слов дочери, но в то же время снова дернула ее за юбку, умоляя оставить у себя деньги.
– Если я уронила слезу на вашу руку, пусть она ее иссушит! Если я сказала вам ласковое слово, пусть оно вас оглушит! Если я прикоснулась к вам губами, пусть это прикосновение будет для вас ядом! Проклятье на этот дом, где мне дали приют! Горе и позор на вашу голову! Да погибнут все ваши близкие!
Произнеся эти слова, она бросила на землю деньги и отшвырнула их ногой.
– Я втаптываю их в грязь! Я бы их не взяла, даже если бы они открывали мне путь к небу! О, лучше бы окровавленная нога, из-за которой я пришла сюда сегодня, сгнила прежде, чем привела меня в ваш дом!
Хэриет, бледная и дрожащая, удерживала брата и не перебивала ее.
– А вышло так, что в первый час моего возвращения меня пожалели и простили вы, носящая это имя! Вышло так, что вы обошлись со мной, как милая, добрая леди! Я вас поблагодарю, когда буду умирать. Я помолюсь за вас и за весь ваш род, можете быть в этом уверены!
Злобно взмахнув рукой, как будто окропляя ненавистью землю и обрекая на гибель тех, кто перед ней стоял, она бросила взгляд на черное небо и ушла в ненастную ночь.
Мать, тщетно дергавшая ее за юбку и с неутолимой алчностью смотревшая на лежащие у порога деньги, которые, казалось, поглощали все ее внимание, готова была слоняться вокруг, пока угаснут в доме огни, а потом ощупью искать деньги в грязи, надеясь вновь ими завладеть. Но дочь увлекла ее за собой, и они немедленно отправились в обратный путь; дорогой старуха не переставала хныкать, оплакивала потерю и горько сетовала, поскольку хватало у нее храбрости, на свою не признающую долга красавицу дочь, которая оставила ее без ужина в первый же вечер после своего возвращения.
И спать она легла без ужина, если не считать каких-то жалких объедков; и эти объедки она, бормоча, пережевывала, сидя над угасающими углями, когда ее дочь, не признающая долга, давно уже спала.
Не являются ли пороки этой жалкой матери и жалкой дочери всего лишь самой низшей ступенью социальных пороков, столь обычных иной раз среди тех, кто стоит высоко? В этом шарообразном мире, в коем одни круги включены в другие, нужно ли нам совершать утомительное путешествие с верхней ступени на самую нижнюю, чтобы в конце концов убедиться в том, что они находятся по соседству, что крайности соприкасаются и что конец нашего путешествия совпадает с исходной его точкой? Отдавая должное разнице в материале и окраске, неужели образец такой ткани нельзя найти среди людей высшего круга?
Ответьте, Эдит Домби! И вы, Клеопатра, лучшая из матерей, дайте нам послушать ваши объяснения!








