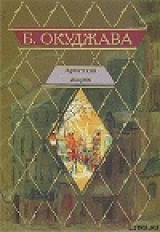
Текст книги "Новенький как с иголочки"
Автор книги: Булат Окуджава
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
КАРТОШКА
– Конечно, – говорит Маракушев, – без картошки мне нельзя. У меня четверо... Гы-гы... – И говорит Шулейкину благодушно: – Вот этот участочек мне подходит...
– Видите, как хорошо, – улыбается Шулейкин. – А в прошлом году вы все кричали...
– Гы-гы.. – говорит Маракушев, – чего вспоминать...
– А вы помните, как в прошлом году кричали? – говорит Шулейкин.
– Ну чего вспоминать, – говорит Маракушев. Шулейкин на плане участков делает пометки карандашом. Клара Ивановна записывает в блокноте.
– Мне бы вот этот участочек, – кто-то из учителей тычет пальцем в план.
– Вам ведь уже выделили, – говорит Мария Филипповна, и губы ее белеют.
– А мне бы вот этот, не этот, а вот этот...
– А у меня самый худший в прошлом году был, – смеется Виташа, – вот уж теперь я разговеюсь!
– А вам, Виктор Павлович, – говорит Шулейкин, – остается прошлогодний.
Картошка бессловесна? Это предрассудок. Виташа кричит. А перед моими глазами возникает желтоватое тело картофелины. Она таращит свой глазок. Кожура лохмотьями колышется на ее теле...
– Тише, – говорит Клара Ивановна и кивает на дверь учительской. – Там ведь учащиеся. Тише.
– Что тише? – говорит ей кто-то из учителей. – Себе лучший кусок забрали, а теперь – тише...
– Да с какой стати я опять ту же самую дрянь брать должен?! – кричит Виташа.
Он стоит у стола. Его растоптанные латаные валенки отбивают какой-то незнакомый танец.
– У меня тоже, разве это участок? – говорит Мария Филипповна словно сама себе. – Две березы посредине. Самый что ни на есть плохой участок...
– Давайте поменяемся, – говорит кто-то.
– А где у вас?
– У пруда...
– Ишь вы какой, – говорит Мария Филипповна. – Деловой какой!..
Шулейкин сидит, наклонив голову. Он делает вид, что углубился в план. У Клары Ивановны испуганное лицо. Растерянная улыбочка дрожит на губах.
– Тише, – просит она, – ну как вам не стыдно!
Желтая картофелина отскакивает от одного к другому. С нее срывают последнюю одежду. Она размахивает руками, пытаясь отбиться.
– Дверь, – говорит Шулейкин. – Закройте же дверь!..
А меня это не касается. Меня это не касается... А картофелина (еще сырая, еще не родившаяся даже) кричит душераздирающе.
– Перестаньте кричать, – морщится Шулейкин.
– Да перестаньте же,– почти плачет Клара Ивановна.
– Вы же учитель, – говорит Шулейкин.
– А чего же вы несправедливости...
– Что?
– Несправедливую...
– Что?
– Да дайте договорить! – кричит Виташа.
– Ну договаривайте, – мягко говорит Шулейкин, – ну договаривайте, пожалуйста...
– Ну? – говорит Клара Ивановна.
– Да брось ты, – говорю я Виташе. – Из-за картошки какой-то...
– Как не стыдно, – говорит Маракушев.
– Ты-то уж молчал бы, – говорит ему Виташа. – Мне бы твой участок...
– Гы-гы, – говорит Маракушев и уходит из учительской.
– Не умеют себя вести, – говорит Мария Филипповна и уходит следом.
И все расходятся постепенно. Только Виташа остается и я.
– Ну ладно, – говорит Виташа, – я ему припомню. Я о нем кое-что знаю... Ну ладно...
А в дверь учительской заглядывает Саша Абношкин.
– А тебе-то еще чего? – поворачивается к нему Виташа.
– А я не к вам, – говорит Саша.
И это как плевок. А мне хочется рассмеяться.
– Ты давно здесь стоишь? – спрашиваю Абношкина.
– Нет, – говорит он и краснеет.
И иду к нему туда, в коридор. Я ухожу совсем далеко. Но всё маячит перед моими глазами распростертая картофелина в изодранной кожуре...
ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ
Нас подобралась прелестная компания: председатель колхоза Абношкин, Шулейкин, Виташа, Мария Филипповна и я...
Мы идем на заём подписывать!.. Был я студентом, был я черт знает чем... Теперь включили меня в комиссию.
– Как это – чего тебе делать? – говорит председатель Абношкин. – Мы, стало быть, идем по избам... Все... Ну, стало быть, заходим...
– Да что он, не знает, как на заём подписывать? – говорит Виташа.
– Надо научить человека, – мягко говорит Шулейкин.
– Вы знаете, – говорит Мария Филипповна, – это очень просто. Значит, так...
– Да бросьте вы, ей-богу! – смеется Виташа. – Он вас разыгрывает, а вы...
– Я не разыгрываю, – говорю я.
– Послушай, – говорит Абношкин, – пойдешь – всё увидишь, как и чего. Надо, главное, чтобы все побольше подписали.
– Ну, у нас все сознательные, – говорит Мария Филипповна белыми губами.
Шулейкин подбородок теребит. Виташа на дорогу сплевывает.
– А может быть так, что не захочет кто-нибудь? – спрашиваю я.
– Ну что вы, – говорит Мария Филипповна, – мы же не себе собираем...
– Ну а если?
– Вот, ей-богу, сколько вопросов! – смеется Виташа. – Ты-то сам подписался?
– Люди ведь понимают, на что они деньги дают, – мягко говорит Шулейкин.
А впереди – Васильевка. Чернеют ее избы... Сейчас мы перебираемся через овраг, потом узкой тропинкой между двумя усадьбами – и улица... Я член комиссии. Мне, наверное, придется молчать. Мне, наверное, придется молчать, потому что ну что я скажу? Они это делают не впервые... Хорошо, я буду молчать. Я погляжу на них, как они это делают.
Нюра Осипова открывает нам дверь, а сама уходит в избу. Даже не здоровается. И мы молча идем за ней. У нее там ребенок по полу ползает. Маленький мальчик в ситцевой рубашке. Красный ситец с белыми рыбками.
– Ах ты, маленький, – говорит Мария Филипповна, – иди-ка сюда, иди-ка...
– Он ходить не может, – говорит от печки Нюра.
– Что ж это ты, молодой человек? – спрашивает Шулейкин. Он пальцем щекочет мальчика за ухом. Мальчику смешно. Он смеется беззубым ртом. Тянется к Шулейкину. И белые рыбки начинают плескаться в красном море...
– Ну вот, Нюра... – говорит Абношкин.
– Чего – ну вот? – говорит Нюра. – Мне давать нечего. Вот сам вернется, тогда... А мне нечего.
– А где он? – спрашивает Виташа.
– В город поехал... За сахаром, – говорит Нюра. А сама не отходит от печки. Тулупчик на плечах. Босые ноги в валенках.
– Ее муж, – говорит мне Шулейкин, – столяр. Первоклассный.
– Ты вот что, Нюра, – говорит Абношкин, тяжело дыша, – ты сама... Его ждать нам некогда. Хозяйка-то ты ведь?
– И чего вы с самого утра навалились?! – говорит Нюра. А лицо у нее молодое, некрасивое. Очень широкие скулы.
– Как вам не стыдно! – говорю я. – Мы все подписываемся. Мы же не себе это. Это для всех. Для всего народа.
– Стыдить ее не надо, – говорит Абношкин. – Она сама про всё это знает.
– Нюра – человек сознательный, – бодро улыбается Мария Филипповна. Но губы у нее белеют.
Нюра берет мальчика на руки.
– Меня стыдить нечего, – говорит она. – Сами б постыдились!
– Ты, Нюра, подпишись, – говорит Абношкин, тяжело дыша, – вот здесь...
Нюра смотрит в ведомость. Мальчик смотрит на меня. Шулейкин смотрит на Нюру, и Мария Филипповна смотрит на Нюру, и Виташа...
– Нет, – говорит Нюра, – пятьдесят не подпишу. На тридцать подпишу, а на пятьдесят – нет.
– Ты, Нюрочка, давай, давай, – подмигивает ей Мария Филипповна.
– Нет, – говорит Нюра, – на тридцать подпишу...
А мальчик вертится у нее на руках, и белые рыбки плывут куда-то за спину... Мы выходим на улицу.
– Вот кулачка-то!.. – говорю я.
– Какая же она кулачка? – говорит Виташа.
– Пять человек ее уговаривают, а она...
– Когда жрать нечего, не пощедришься, – говорит он шепотом. И оглядывается на остальных. Но остальные не слышат. – У них колхоз с войны всё не оправится...
Мы идем по Васильевке. От дома к дому. Абношкина совсем одышка замучила. Он идет всё медленнее. Все молчат. Не очень это веселое дело ходить вот так по дворам.
– Словно побираемся, – говорю я Виташе.
– Тшшш... – Он оглядывается. – Ты что, ополоумел?
Мы поднимаемся на крыльцо. И тотчас дверь распахивается.
– Здорово, Настасья, – сопит Абношкин.
– Здорово, старый черт, – говорит Настасья и ведет нас в избу. – Всё ходишь? Всё в карманы глядишь?
– Да что вы, Настасья Иванна, – говорит Мария Филипповна, – не надо его обижать.
– Ты бы уж помолчала, пионерка брюхатая! – говорит ей Настасья.
Она стоит перед нами, маленькая, смуглая, давно уже не молодая. Руки на груди сложены...
Мария Филипповна стоит красная вся. Действительно живот уже заметно выпирает из-под пальто. И красный пионерский галстук выбился на воротник...
– Умора, – шепчет мне Виташа, – пионерка беременная...
– Ты, стало быть, Настасья, знаешь, зачем мы к тебе? – говорит Абношкин.
– Уж мне ли не знать, – говорит Настасья. – Первый раз, что ли, ты ко мне, старый черт, приходишь? Партизан...
Абношкин садится к столу. Расправляет ведомость.
– Ну что я тебе платить буду? – говорит Настасья. – Ты подумал?
– Надо, Настя. Подпишись, и всё тут.
– А в сорок первом, когда я тебя, раненого, прятала, ты в глаза смотрел, – говорит Настасья, – а теперь-то не глядишь...
– Ну ладно, ладно, – бормочет Абношкин.
– Стыдно тебе, да?
– Ты подписывай, – говорит Абношкин, и толстое его лицо словно плачет.
Она подписывает, не глядя на лист.
...Мы прошли уже по двадцати избам. Скоро и конец. Я иду по Васильевке, а лица, лица, лица мелькают передо мной... и пальцы, которые коряво держат ручки, и желтая помятая ведомость, по которой эти ручки бегут неохотно.
Мы стоим на крыльце предпоследнего дома. Это маленький дом. В два окна.
– Вот сейчас будет, – говорит Виташа.
– Чего вы смеетесь, Виктор Павлович? – горько говорит Шулейкин.
– Ничего, мы старую уломаем, – говорит Мария Филипповна.
А Абношкин тяжело дышит, со свистом, и молчит. И я молчу.
Потом открывается дверь, и уже в избе я замечаю хозяйку. Она как грибок маленький, сморщенный.
А у окна стоит мой ученик – Ваня Цыганков. Толстые губы его отвисли. Рыжие вихры разлетаются в разные стороны. Он покачивается на длинных своих ногах, как на ходулях.
– В гости пришел, Ваня? – спрашиваю я.
– А не, – говорит он.
– По делу?
– Я живу здесь, – говорит он.
– Он с бабкой живет, – говорит мне Виташа, – это бабушка его.
А бабушка подходит ко мне.
– Вы, деточка, учитель Ванин? – говорит она. – Он всё про вас рассказывает, любит он вас... – Потом она поворачивается к Шулейкину: – И директора он любит... Всё старается, старается угодить... Ваня-то... Он сирота ведь...
– Тимофеевна, – говорит Абношкин трудно, – на-ка вот, подпишись.
– Что, что ты, деточка, – говорит бабка, – я ж неграмотная.
– Всякий год подписываешься, а тут неграмотная? – говорит Абношкин и пальцем по столу постукивает.
– Вы подпишитесь, Анисья Тимофеевна, – говорит Мария Филипповна, – не первый уж раз.
– Да что ты, деточка!.. – торопится бабка. – Из чего подписывать-то? Мне ведь сироту кормить! Что ты, миленькая...
Врет?.. Притворяется?.. Что это происходит?..
– Какой позор, – говорю я Виташе.
– Тшшшш... Ты потише, – говорит он и оглядывается. Но все заняты бабкой.
И тут вдруг срывается со своего места Ваня Цыганков, натягивает на ходу шапку и бежит к двери.
– Они все по домам сидят... Не работают, что ли? Что это у них ничего нет? Что это за колхоз такой?.. Или врут они все?..
– Тшшшш...
– Ну яички дам... – говорит бабка, – а денег нечто я наберу?..
– Давай, ладно, – говорит Абношкин, – по тридцать в месяц...
– Да что, деточка!..
– Анисья Тимофеевна, ведь на эти деньги, – мягко говорит Шулейкин, мы заводов настроим, больниц...
Я вспоминаю: она приходила ко мне в келью несколько раз. Я у нее яйца покупал. Она приносила их в лукошке и синими сморщенными пальчиками отсчитывала их. Я помню.
А в классе спрашиваю у Вани Цыганкова:
– Что это ты в резиновых сапогах ходишь? Холодно ведь.
– А он закаляется, – посмеивается Абношкин-сын.
Вот тебе и закаляется...
– Я ведь, деточка, яички продам... Мы с Ваней и проживем... Разве могу я больше-то вам отдать?.. – говорит бабка и подписывает ведомость.
Теперь дом Веры Багреевой.
Но тут всё происходит очень просто. Мы подходим к крыльцу. А на крыльце уже стоит прекрасная, как богиня, мать Веры.
– Давайте сюда, – говорит она цыганским голосом и протягивает руку Абношкину. Он дает ей ведомость. Она подписывает ее быстро, размашисто. Возвращает ему.
– Спасибо, – сопит Абношкин.
– Может, вы нас все-таки в дом пригласите? – спрашивает Шулейкин.
– Как ваши детишки поживают? – спрашивает Мария Филипповна белыми губами.
– А зачем в дом? – спрашивает мать Веры так, что хочется уйти поскорее.
Остается последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней – две белобрысые девочки. А чуть впереди – молодой мужчина в гимнастерке, и в руке у него топор, словно он дрова поколоть собрался.
– Здравствуйте, друзья, – говорит Мария Филипповна.
Они молчат.
– Эх, беда мне с вами, – хрипит Абношкин. – Ну чего ты, Коля? Чего? Впервой, что ли? – А сам глаза отводит.
– А что, председатель, – говорит Коля спокойно, – я сейчас вот их всех порешу,– и показывает на свою семью,– а посля за вас примусь...
– Хулиганство какое, – шепчет Мария Филипповна.
– Партизанский сын, – подобострастно смеется Виташа.
– Вот он весь как есть, – говорит Коля.
– Ну ладно, Николай, – говорит Абношкин, – выходит, мы с тобой после поговорим. Другие вон все подписались...
Мы уходим в поселок.
– Ладно, – хрипит Абношкин, – идите, схожу коровник посмотрю.
– Почему это одни женщины в избах? – спрашиваю я Виташу.
– Или войны не было? – спрашивает меня Абношкин.
Мы идем молча.
Вдруг что-то похожее на резкий трамвайный звонок прокатывается над Васильевкой... Когда мне исполнилось пять лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие. И уже другие вагоны сновали вокруг так, что дух захватывало... Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия... А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытался пошевелиться, но не мог и не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше... Куда-то... Все кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плющиха. Куда я попал?.. И я заплакал. Ах как страшно было потеряться! Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамваи возвращаются обратно. И я втиснулся в вагон, и он понес меня со звоном, с громом и молниями мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего дома! Я стоял оглушенный, а он умчался дальше – спасать кого-то другого. И другие красные трамваи, добрые и надежные, бежали мимо меня. И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому...
Вечером собираемся в учительской. Приехал инструктор из района. У него усталое, небритое лицо туберкулезника.
– Ну как у вас? – спрашивает он у Шулейкина.
– У нас очень хорошо, – говорит Мария Филипповна, – все как один... Все ведь понимают, не первый год...
– В прошлом году сумма-то больше была, – говорит инструктор, поглядывая в ведомость.
– Трудно, – говорит Шулейкин, поглядывая в окно.
– Там ведь ни одного почти мужчины нет, – говорю я, – неужели никто об этом не думает?..
Виташа толкает меня в бок.
– Мы знаем об этом, – говорит инструктор.
– Пошли бы сами, посмотрели бы, что там творится... – говорю я, позор просто...
– Вы напрасно горячитесь, – говорит мне Мария Филипповна, и губы ее белеют, – товарищ инструктор не мог ведь... Он доложит кому следует...
ВСЁ, ЧТО ВОКРУГ...
– Вот так мы и живем, – говорит председатель Абношкин, тяжело дыша. Садитесь. Ну хоть сюда вот... – Он усаживает меня на красный облупленный табурет. – Сашки дома нету... – Он говорит с трудом. В груди у него хрипит что-то. – Поговорим... Ты ведь поговорить пришел?
– Поговорить.
– Ну и ладно, поговорим. Может, выпьешь?.. Ну не надо...
– А у вас всё заботы?
– Заботы, они всегда, – хрипит он. – Без забот разве жизнь бывает? Это и хорошо, что заботы. Вот только до сына рук не дотяну... Плох он, наверное?
– Саша ваш? Нет, он хорошо учится. Он такой самостоятельный.
– Ишь ты... Строптив?
– Бывает, что и строптив... Разве это плохо?
– Ишь ты, – посмеивается он. – Разве хорошо? – И, помолчав: Попробовал ты крестьянской работы? Ну, как она?
На его мясистом, красном лице – хитроватая улыбочка. Он думает – я сейчас плакаться начну. Сейчас он будет говорить, что не посеешь – не пожнешь, что городу без деревни не прожить. "Хлеб!" – скажет он многозначительно.
– Скучища у нас, а? – говорит он.
– Это есть.
– Ты бы организовал чего-нибудь, учитель.
– А Шулейкин?
– А чего Шулейкин? Мишка на директорстве своем запутался. Все ведь смеются. Он человек темный. Дела своего не знает.
– А вот вы сельское хозяйство знаете?
– Я знаю, – хрипит он. – Давай по маленькой? Нет? Ишь ты...
– Что же колхоз ваш скрипит?
Он тяжело дышит и смотрит в окно. Там быстро сумерки густеют. От печки тянет кислым чем-то. Я смотрю ему в глаза. Они громадны и печальны.
Он садится напротив. Подпирает голову широкой ладонью. И молчит.
Он симпатичен мне, этот человек. И убогая его изба не кажется мне убогой. Это ведь прекрасно, когда человек задумывается, пусть даже печально. Тогда его лицо словно освещается, и ты видишь, как оно удивительно со всем, что на нем имеется.
– Понимаешь, парень, – хрипит Абношкин, – я бы тебе сказал, как оно всё получается... Да откуда я знаю, кто ты есть? Поймешь ли?
– Я пойму.
Он вертит косматой головой с сомнением:
– Хочешь понять, да не поймешь... Не поймешь.
– Пойму. Что я, идиот, что ли?
– Я сам всего понять не могу... Думаю. По ночам проснусь – а вот здесь схватывает, – он тычет толстым пальцем в темя, – и никуда не денешься... Мокрую тряпочку прикладываю. Говорят, помогает... – Он смеется невесело. Так это ж голова... На заботы мокрой тряпочки не положишь ведь, а?
Потом он зажигает лампу. И она стоит, как часовой, на самом краешке стола, вытянув свою длинную шею. И большая тень Абношкина медленно шевелится на стене, и хрипит, и стонет. И изба становится похожей на учительскую: там тоже одинокая лампа по вечерам замирает на краю стола.
– Могу тебе ответить, как положено, – хрипит он, – мол, была война... Вот и трудно...
– Это я и без вас знаю.
Он тяжело смеется:
– Это-то ты знаешь, а чего дальше – не знаешь.
– Вот и пришел, чтобы узнать. Ребята ведь спрашивают.
– Нет, этого тебе не понять. Это надо жизнь прожить.
– Живу...
– И живи. Ты человек хороший. Ребята тебя уважают... – И опять после паузы: – А у меня домашняя есть... Высший сорт... А?
– За что же они уважают, когда я ничего сказать не могу?
– Да это они без тебя разберутся. Ты их произведениям всяким учи, стихам, в город их в театр свози... Ну что, по маленькой?.. Несговорчивый ты какой...
Он мне очень симпатичен, этот Абношкин. Как это раньше я мимо проходил? Почему не бывал в этой избе, не сидел на этом красном табурете?
– Гости идут, – хрипит он. – Теперь не миновать разговеться.
Кто-то скрипит дверью, идет через сени.
– Да, – говорит Абношкин, – заходи... Я думал, мужик идет...
Мать Веры, слегка кивнув мне, подплывает к столу.
– Ваших нету, председатель? – низким голосом, по-цыгански спрашивает она. – Нету, да? Жаль. Хотела кое-чего из посуды взять.– Голос ее становится вкрадчивее и тише: – Кажется, Верку сватать приехали. Не пойму что-то... – Она смотрит на меня пристально. Глаза у нее такие же, как у дочери. Только Вера смотрит вниз... Да, вниз...
– Событие, – говорю я спокойно.
– Дождалась, – как-то слишком громко говорит Абношкин. – А Верка-то нарядилась?
– Нарядилась, нарядилась, – смеется мать и смотрит на меня.
– А Шулейкин, дружок твой, пришел?
– Пришел, пришел, а как же, – говорит мать. – Может, и ты зайдешь поглядишь. Да у тебя самого гости.
– Ты бери из посуды сама чего,– говорит Абношкин. – У меня гость.
– А вы идите,– говорю я.– А я по своим делам пойду.
– Посидим, посидим, – хрипит он, – и без нас справятся...
Всё происходит мгновенно: тарелки гремят, дверь хлопает... Событие! Разве меня это касается?.. Но почему кто-то другой?.. Да разве меня это касается?.. Я же не влюблен... Ах, просто странно: почему кто-то другой!.. Да разве меня это касается?.. Надо мною же смеяться будут там, в Москве... А может, пойти туда и спокойно, как Печорин: "Вера, я пришел за тобой..."
– Что-то она темнит, – хрипит Абношкин, – какие еще сваты? Она женщина железная. На порог-то пускает не каждого. Того и гляди, ухватом сработает. Темнит... И слуху такого раньше не было.
...И вот я говорю это. В комнате молчание. Гости смотрят на меня с ужасом. Мать Веры с грохотом отодвигает стул и выходит из комнаты прочь. А Вера вдруг, такая тоненькая, в черном платье с широким вырезом, и высокая, зажмурившись, словно слепая шаря руками, идет в мою сторону. Плавно идет, едва касаясь пола носками туфель.
– Нет! – кричит главный сват.
Но она идет, идет. Я кладу ей на плечо руку.
– Что же это такое?! – кричат гости.
– Пойдем отсюда, – говорит она сухими губами. И плечо ее горячее...
– Ты всё обдумала, Вера?
Она уводит меня из избы. И там, на улице, обняв меня, прижавшись всем телом, с благодарностью:
– Хочешь, я тебе правду скажу?
– Ну...
– Я знала, что ты придешь... Хоть и говорили все, что не ровня я тебе, чтоб не ждала...
– Чепуха это, не ровня!..
...Никто меня не ждет. Может быть, ее уже сосватали?.. Да разве меня это касается?.. Может быть, она и правда ждет меня?.. Никто меня не ждет... Всё идет своим чередом. Спокойно. Ничего непредвиденного не произойдет. Я буду ночевать в своей келье как миленький... Да...
– Темнит она что-то, – хрипит Абношкин, – ну да, темнит... – он вдруг тяжело встает, и лампа начинает покачиваться. – Верка-то с моими в Козельск на базар поехала!.. Ах ты, паралик тебя расшиби! Я ж говорю, темнит.
– А отца у нее нету, – слишком радостно говорю я.
Он садится на свое место. Долго молчит. С трудом дышит. Большая его грудь с клокотанием вздымается и оседает.
– Отец ее до войны в райкоме работал. Вредителем оказался... Видишь как...
– А Шулейкин, значит, тут как тут?
– Он от нее не отступился. Вот как. Не отступился. Понимаешь, как оно... Помогает ей. Верке – тоже. В войну помогал...
– А говорят, он...
– Да это все говорят! – хрипит он яростно.
Он снова встает и начинает тяжело, как медведь, ходить по избе:
– Тяжело мне, черт! Будто воды в меня налили.
Неладное с ним что-то.
– Ты видал осенью, какие луга у нас? – вдруг спрашивает он. – Видал, травки сколько?
– Видал, – говорю я.
– Ага... А скот с голоду ложится... Ну?
– Ну?..
– А к Семеновым нынче зашел, а ребятишки кисель картофельный хлебают. Из крахмала. А я зашел и говорю: давайте, отец и мать, на работу. Что это вы, мол, расселись, а?
– Да?
– А с Васькой Семеновым мы вот здесь в партизанах ходили. Вот на этом самом месте... И по Смоленщине...
– А вы бы плюнули на это... Поехали бы полечились.
– Ишь ты, – хрипит он. – Это ты можешь плюнуть, а мне нельзя. Это же мое всё кругом. А?
Лампа отчаянно борется с темнотой. Она как маленький стеклянный донкихотик. Разве ей справиться?
Абношкин подходит к полке, отодвигает марлевую занавесочку:
– Ну что, по маленькой?
– Нет, спасибо...
Жаль его обижать, да неудобно как-то сейчас пить.
– Ребята затеяли столбы ставить, свет проводить, – говорит он.
– Слышал, – говорю я.
– Столбы я дам, – хрипит он. – И ты будешь?
– Буду, – говорю я.
Он мне кажется очень большим, этот председатель. Он до конца не раскрылся. Он велик, как вся Васильевка. Но что-то с ним неладное происходит. Это я вижу по его глазам.
– Вы песни любите?
– Было, было, а как же,– хрипит он.– Самый заводила был.
Мне хочется погладить его по щеке. Хочется посентиментальничать. Но я креплюсь. И воспоминания собственные делают меня (на один час хотя бы) суровее и строже. Я был солдатом. Я воевал. Я!.. Я многое успел уже попробовать. И он воевал... Мне хочется говорить с хрипотцой, встать перед ним с распахнутым воротом, сказать: "Вот так, брат Иван..." – и, попрощавшись, выйти и услышать вслед калужское "до свиданьица", теплое, как парное молоко.
– Туман какой-то, – говорит Абношкин, – с глазами что-то. Вот в двадцать первом было ой как худо кругом, а здоровья хватало... В войну – и говорить нечего, а не жаловался... Машину за передок поднимал будь здоров. И видел всё. Далече. Вот – я, а вон – мироед... И в войну: вот – я, а вон фриц... Поистрепался, ну что ты скажешь?! Вот беда... Может, пропустим, а?
– А давайте, – говорю я.
И потом, опрокинув стопочку и прокашлявшись, он говорит:
– Голод был на Волге в двадцать первом ужас какой... А нас у самих вот-вот... Мы, значит, комсомолия голожопая, ну чего делать? Чем помогать?.. Где чего возьмешь?.. А ну, ребята, айда побираться! Братья с голоду пухнут! Наши!.. Вот, значит, ходим по дворам, просим. Кто что дает... Разжалобить ведь тоже уметь надо, а как же... Ну, значит, дают. Ну там горсть проса, корочку, огурец соленый, лепешку. Так до вечера ходим с торбами. Вечером в общую торбу сыплем. И опять с утра понеслись. По всему уезду три подводы собрали... Скорей, скорей!.. Ребятишки мрут!.. Собрали и в Калугу. Вот скрипят наши возы, а мы – рядом. От мешков едой пахнет, а у нас ноги от голода не идут... А никто ни крошечки ни махонькой не берет. Агитировать не надо было. Видишь как...
Он долго и с трудом кашляет. Потом молчит. Смотрит в темные окна большими своими глазами.
– Ну, давай еще по одной?
– А давайте. За вас...
– А это всё равно, – хрипит он. – Наши чего-то запаздывают... Может, в кино зашли... Я вот прошлым летом картину смотрел. Такую жизнь хорошую показывали. Колхоз тоже какой-то... – он смотрит на меня прищурившись, земля у них лучше, что ли?.. Или, может, климат такой подходящий, а? Ты как думаешь?
Неладное с ним что-то.
– Не знаю, – говорю я. – Может, и климат. Я этой картины не видел.
Потрескивает огонек в лампе. Словно она рассказывает что-то. А что, никак я понять не могу. Слов расслышать не умею.
– До света тоже руки вот еще не дотянулись, – говорит Абношкин и смотрит на лампу. – Мужиков мало...
– А Вере, наверное, и в самом деле замуж пора, – говорю я.
– Приглянулась она тебе?
– Ну что вы!
– А что ж? Она красивая, скромная. Тут за ней один инспектор молодой бегал, – он смеется с натугой, – потом узнал про нее: батюшки, отец вредитель. И всё. Кому охота с пятном-то ходить. Верно?
– Неверно, – говорю я.
– Ну, как знаешь, – хрипит он и смотрит на меня с прищуром, словно изучает.
Ладно, Абношкин, я ведь не ребенок. Нечего меня изучать. Я не из пугливых. Нечего...
– Только ты учителей-то ваших не соблазнишь столбы копать, – говорит он.
– Почему это?
– Они свое любят... А бесплатно-то копать...
– Что же, я один буду? – говорю я. – На черта мне...
– А это как хочешь... – хрипит он. – Ты огурчика возьми. Они в самый раз. Бодрые...
И большой огурец с хрустом исчезает в его губах, больших, мягких и медленных.








