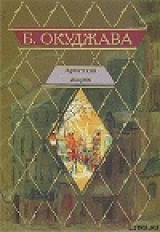
Текст книги "Новенький как с иголочки"
Автор книги: Булат Окуджава
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
ЧЕРНАЯ КОШКА
– Грязно-то у вас! – говорит Маша Калашкина. Она стоит на пороге. Холод плывет в комнату. – Хотите, я полы вымою?
– Что я, сам не могу?.. Ты двери закрывай.
– Женской руки вам не хватает.
И это она всерьез... И без хитрости... Это сразу видно.
– Я вымою вам, приберу, ладно? А деньги в получку отдадите, ладно?
Она подбирает юбку. Журчит и плещется вода. Отступает грязь, отступает... Резиночки фиолетовых штанишек виднеются.
– Как твой тракторист?
– Ничего... Любит меня. Сватается.
– Маша, трудно тебе живется?
– А не, мы хорошо живем. Папка-то мой стрижет всех. У нас парикмахера-то нету. И валенки кому подошьет, и галоши залить может. И я кому полы вымою, кому еще как помогу... у нас деньги всегда есть... Хотите, вам одолжу?
– Спасибо, у меня пока есть.
– Конечно, учителям хорошо платят.
Пахнет свежевымытым полом. И дрова горят в печи лучше. Тепло.
– А ты почему учишься плохо, а, Маш?
– У меня мозги такие... Меня и папка бил всё раньше... Верка вот Багреева способная... Сила...
– Чего она грустит всё?
– А влюбилась...
– Тоже в тракториста?
Она не отвечает. Постукивает мой будильник. Вот так штука! Кто же это? К кому подходишь ты, Вера Багреева, походкой балерины? Меня учили быть решительным, учили... В двадцать шесть лет пора бы уж, а?
– Влюбилась она, – говорит Маша.
Может быть, он на гармонике играет?.. Потом она нарожает ему детей... Будет стряпать... Белое тесто будет красными пальцами замешивать... на желтой доске... "Что это ты не улыбаешься, Вера Багреева?" – "А не с чего..." И Калашкина хороша! Лишь бы растрепаться.
– Когда тебя не любят, веселого-то мало, – говорит Маша.
– Не любит он ее?
– Не замечает.
– Другого найдет. Трактористов много.
– Не, она исплачется вся.
Исплачется... Позову ее... Книги предложу почитать... Пока будет выбирать, буду с нею разговаривать... Я сам виноват, она меня не знает... Вера, всё, что у меня есть, понимаешь?.. Всё, что у меня... Или я пойду сам туда, к ней... Поедем в Москву, а?.. Воистину: человек сложен, а поступки его примитивны. "Что вы..." – скажет она нараспев низким своим сопрано, по-цыгански. И будет красными пальцами, тонкими своими пальцами отвороты пиджака теребить...
– Она-то вообще не грустная, – говорит Маша.
– Ты что это всё на дверь смотришь?
– Я ничего...
– Там что, есть кто-нибудь, в коридоре?
– Не.
Уже давно в келье убрано, а она всё возится.
– Хватит дрова подкладывать. Жара.
– Грейтесь. – Она улыбается.
Хорошо, что природа не забыла дать ей эту улыбку! Ну что бы она без нее?!
– Бабы у нас в монастыре болтают, что вы пьете сильно.
– С чего это они?
– А я почем знаю.
– Я не пью, Маша.
– Они жалеют вас.
– Себя пусть жалеют.
– Верка пьяных не любит...
– Это она про меня, что ли?
– Что вы!..
– Ну кто там в коридоре?.. Может быть, кошка?
– А кто ее знает... Да вы сидите. Это помстилось мне. Я нервная стала.
И я словно вижу сквозь дверь: большая черная кошка медленно идет по темному коридору. Она ступает мягко, бесшумно, презрительно.
Дверь закрыта. Маши уже нет. За черными стеклами медленно поднимается луна. Она движется очень заметно. Она приближается. Я сижу боком к окну, но я хорошо вижу, как она плывет по зимнему ночному небу. Это я хорошо вижу. Бледный круг ее движется наискось через всё окно. Скоро он достигнет верхней планки. Это какой-то световой эффект.
Калашкина, всё шито у тебя белыми нитками. Ты – простофиля, Калашкина. А луна добирается до верхней планки и застывает неподвижно.
Слегка скосив глаза, я вижу это... Я отчетливо вижу сомкнутые ее губы, лоб... Я поворачиваю голову, и луна уносится в мировое пространство. И уже ничего нет, только черное стекло.
– Кто там?!
В коридоре тишина. На дверях Клары Ивановны – замок. Свежий наст у порога хрустит и потрескивает сам по себе.
– Эй!.. Эге-гей!..
Там, в поселке, – свежий наст. Я слышал его сытый скрип. Но нужно еще прожить ночь, чтобы наступило утро. И тогда снова – промерзший класс, и Вера теребит отвороты пиджака красными... Не буду ее вызывать! Пусть тревожится. Буду вызывать других. Потом она подойдет: "Почему вы меня не вызываете?" – "Вера, – скажу я, – ты взрослый человек. Ну сколько же можно в прятки играть?.." Ничего я ей не скажу... Завтра снова – учительская. Там некоторые меня недолюбливают: "Он кичится..." А некоторые равнодушны. А может быть, я не знаю их.
...Я иду с Верой днем мимо домов!.. Учитель чертов!..
– Разговоры всякие идут,– сказал мне вчера Шулейкин. И попытался обнять себя правой рукой, и посмотрел в меня маленькими глазками, и замолк, и притаился, пока я сам не расскажу...
– О чем это вы? – удивленно спросил я.
А рядом сидела Мария Филипповна, поджав губы, в красном пионерском галстуке и тоже ждала, что я скажу, чтобы ринуться с проклятиями...
Я смотрел на Шулейкина, и молчал, и улыбался. Это его всегда очень мучает. Ну же, Шулейкин! Смелей, смелей! Говори! У него даже уши зашевелились, как у гончей, когда она по следу идет. Смелее, Шулейкин... А сам молчу.
– Калашкина заходит к вам часто...
– Мы друзья с Машей.
– А знаете вы, на каком она счету?
– Что?!
– Я хочу предупредить вас, – он очень дружелюбен, – она девочка глупая... Ее засекали неоднократно...
– Как это засекали?
Мария Филипповна засмеялась иронически.
Потом я спросил у Виташи:
– Послушай, что это Шулейкин плетет?
Виташа поплевал на пол:
– Шулейкин спал с ней. Потом скандал был. Потом замяли это дело... Она ему не дает теперь...
– А я-то при чем?
– А ты его класс ведешь теперь... У него все отличники они были... раньше, – он подмигнул мне, – а теперь? У тебя?..
– Какие же они отличники, когда элементарных вещей?..
– Вот то-то и оно-то... – И он засмеялся. – Теперь Шулейкин всем будет доказывать, какой ты плохой.
Скрипит свежий наст. Кончается воскресенье. И нет никакой луны...
КАТАСТРОФА
На пороге класса стоит Виташа. Он – в своем неизменном офицерском кителе. Белые валенки – как ботфорты Петра Великого. А за его спиной покачивается круглое лицо Марии Филипповны.
Класс молчит. Ваня Цыганков смотрит на меня, приоткрыв рот, Саша Абношкин – прищурившись.
– Мы к вам на урок,– говорит Виташа.– Извините...
Ко мне на урок?.. Пожалуйста. Сделайте одолжение. Милости прошу, Виташа. Вы, как-никак, литератор. А вот почему пионервожатая должна контролировать урок литературы – не понимаю...
– Пожалуйста, – говорю я. – Последняя парта пустая. Устраивайтесь, пожалуйста.
– Извините, – говорит Мария Филипповна и закрывает за собой дверь.
– Пожалуйста, – говорю я.
Они на цыпочках, осторожно крадутся к последней парте.
Им нужно доказать, что я плох. Сбываются пророчества Виташи.
Ваня Цыганков смотрит им вслед, приоткрыв рот. Абношкин смотрит на меня прищурившись. Ты злой человек, Абношкин. Ты будешь рад, если у меня что-нибудь не получится. Но ничего... Уж как-нибудь я справлюсь.
– Мы вот здесь будем сидеть, – говорит Виташа. – Вы не обращайте на нас внимания.
– Пожалуйста,– говорю я спокойно, даже равнодушно.
Я смотрю в классный журнал. Я вожу пальцем по фамилиям. Теперь главная задача – вызвать таких учеников, которые говорят свободно, без запинки. Они расскажут о Татьяне Лариной, о ее пристрастии к Руссо, о том, как она любит свой народ, и как она вообще незаурядна и прекрасна, и как жалка рядом с ней ее сестра Ольга, пустая и легкомысленная, похожая на нынешних городских девиц, потому что она любит одеваться и развлекаться, и рядом с ней Татьяна, натура богатая, мягкая, широкая, но решительная в нужный момент, собравшая в себе лучшие черты... Господи, какая скука!
Мария Филипповна застыла напряженно. Виташа приоткрывает один глаз и подмигивает мне незаметно.
Они – комиссия. Комиссии существуют для того, чтобы вскрыть недостатки в работе. Эти двое тоже призваны вскрыть недостатки. Мои. Если бы существовали комиссии по вскрытию достоинств!
Я должен вызвать лучшего ученика. И ты, комиссия, вздрогнешь от удивления и восторга, и ты разведешь руками и будешь везде и всегда говорить во всеуслышание, как хорошо, когда есть полное слияние интеллекта и чувств, методики и материала.
Комиссия – для того, чтобы вскрыть недостатки.
Я должен вызвать лучшего ученика.
Это похоже на игру "кто – кого". Вечная игра. В нее играют взрослые и дети, играют мудрые и легкомысленные... Впрочем, легкомысленные играют в нее редко. Они не умеют заботиться о своем будущем, о своем престиже. А мне надо заботиться, мне надо расти.
У Марии Филипповны щеки горят от возбуждения. Может быть, ей хочется, чтобы я допустил промах? Не потому, что она относится ко мне плохо. Просто трудно уходить с пустыми руками. От волнения у нее белеют губы. Две белые полоски – на красном лице. Ее самолюбие похоже сейчас на раскаленную печь. Пионервожатой с семилетним образованием поручено вскрыть мои недостатки. Это ли не штука?
Я должен вызвать лучшего ученика. И комиссия знает об этом. Она не первый год играет в эту игру. Кому охота самому вскрыть свои недостатки? Смотрите на мои достижения! Не правда ли?..
Вот Коля Зимосадов – серьезный ученик. Сейчас он вам расскажет о Татьяне и цитаты приведет наизусть. Маленький и коренастый, в больших сапогах, он будет смотреть в твои настороженные глаза, комиссия, своими синими глазами, и он приведет тебя в изумление, и ты не сможешь ко мне придраться.
Лучшего ученика ждет и Виташа. Я знаю. Все учителя перед комиссиями вызывают лучших учеников. И все на белом свете поворачиваются друг к другу тем боком, который более совершенен. Может быть, считанные олухи не заботятся о том, как повернуться. Каждому хочется услышать в свой адрес приятное. И споров не хочу, и тяжб не хочу тоже. Не хочу доказывать свою правоту. Кому?! Не хочу подводить философские обоснования под каждый шаг свой. Это, наконец, унизительно.
Комиссия напряглась. Ждет. Тогда я швыряю им Колю Зимосадова. Подавитесь!.. Вы знали, что я вызову именно его. Тем лучше. Вот вы его и слушайте. Он говорит, что Татьяна Ларина – пленительный образ русской женщины... Прав он? Прав Коля Зимосадов? А как он говорит! Это я научил его так говорить. Расскажите об этом всем. Татьяна противопоставлена Онегину, человеку слабому и никчемному... Прав Коля Зимосадов?.. Ага!.. Потом, уже позже, Онегин поймет, как он ошибся, но – дудки... Величественная, как королева, и недоступная, как небо, Татьяна отвергнет его... Поняли? Так было, так есть и так будет... Господи, какая скука!
Коля Зимосадов никогда не ошибается. Он знает учебник почти наизусть и даже то, что напечатано мелким шрифтом. Комиссия, запиши в своем белом блокноте, как прекрасно, как гладко, как без сучка и задоринки, как благополучно протекает...
– Может быть, кто-нибудь хочет добавить? – спрашиваю я, хотя знаю, что добавлять-то нечего.
Но между мною и комиссией медленно поднимается широкая ладонь Абношкина! Она слегка покачивается, как очковая змея, а большой палец, желтый от табака, чуть оттопырен.
– Абношкин? – спрашиваю я.
– Да, – говорит он.
– Ну, говори, – предлагаю я.
Что он может добавить? Еще раз утомительно и трудно будет пересказывать учебник? Или он тоже хочет меня увидеть побежденным?
– Не нравится мне Татьяна, – говорит Абношкин и смотрит на меня прищурившись.
А Маша Калашкина толкает его в бок, смеется громко. И Ваня Цыганков присоединяется к ней. И уже весь класс смеется. И Мария Филипповна смеется, потому что Абношкину, видите ли, не нравится Татьяна Ларина! Пленительный образ русской женщины, самая яркая фигура в галерее образов, созданных великим русским поэтом Пушкиным. Не нравится... Абношкину...
Вера Багреева не смеется. Она смотрит в пол, словно смеются над нею.
А Саша Абношкин стоит, высоко подняв голову, и губы его кривятся и дрожат. Он всегда говорит что-нибудь неожиданное. Мне не следует удивляться. Он всегда петушится, этот паренек. Теперь ему не нравится Татьяна Ларина. Вот он стоит передо мной, и губы у него дрожат, и в глазах – злой огонек...
– Ты что, Абношкин? – спрашиваю я.
– Это он спросонок, – смеется Маша Калашкина.
Но Абношкин на нее не смотрит. Он стоит прямо. Комиссия, ты ждала чуда? Вот оно! Свершилось! Теперь мне следует выгнать этого распоясавшегося громилу из класса? Или позволить ему безнаказанно расправляться с самым дорогим? С привычным?
Абношкин волнуется, он не может говорить дальше.
– Ну же, – говорю я, – продолжай. Значит, Татьяна тебе не нравится? Да? Ну говори... Значит, Пушкин ошибся?
Комиссия смотрит на меня как на сумасшедшего. Мария Филипповна вожделенно глотает слюну: надо же – такое делается! А у меня захватывает дыхание. Так бывает, когда летишь с высокой горы на лыжах. И мне не страшно. Мне даже радостно.
– Ну же, Абношкин, – уже прошу я, – договаривай, если начал.
Абношкин встряхивает головой. Вера Багреева что-то шепчет ему, поглядывает в мою сторону.
– А она, – говорит Абношкин, – Онегина вроде любила, а с другим жила...
Сказал...
В классе тишина. А мне слышатся грохот и крики. И мне хочется кричать самому, словно с меня свалился нелепый и давний груз, но я сижу неподвижно и молча. С каменным лицом. Ай да Абношкин! Если бы ты знал, что ты сделал. Если бы ты знал, что происходит со мной.
И вдруг в тишине раздается отчетливый и тонкий смех. Смеется Мария Филипповна. Я смотрю на нее не очень доброжелательно, и она смолкает.
– Всё? – спрашиваю у Абношкина.
– Всё, – говорит он.
Класс молчит настороженно.
И вдруг я вижу, отчетливо вижу, как прямо через класс, размахивая черным зонтиком, скользит по проволоке Мария Филипповна. На ней красная блузка и желтая юбка. А Виташа по полу за ней и нелепо подпрыгивает и взмахивает руками. Его рыжий парик сбился на сторону, вымазанное красками лицо плачет...
– Извините, – говорит Мария Филипповна.
– Пожалуйста, – говорю я.
Я вижу всё это, и мне не страшно. Меня это не удивляет. И наверное, потому я говорю совершенно спокойно:
– Ничего смешного. Каждый имеет право на собственное мнение.
Класс шумно и с облегчением вздыхает. Маша Калашкина торжествующе смотрит на Марию Филипповну. Виташа улыбается и подмигивает мне уже откровенно.
– Что-то есть в том, что ты сказал, Абношкин, – говорю я. – Это даже интересно, то, что ты сказал. Вы подумайте над этим, – говорю я классу. – А тебе я поставлю пятерку, – говорю я Абношкину. – Просто это прекрасно, когда мозги работают по-своему.
И мне даже жаль становится Татьяну Ларину, которой произнесен приговор вот этим пареньком, а мною – подписан.
Мне жаль ее, словно она, живая, стоит передо мною и просит снисхождения, отсрочки. Для нее ведь это так неожиданно! Она привыкла к поклонению. Ну хоть несколько дней, чтобы пересмотреть пережитое.
А Саша Абношкин, как самый неумолимый судья, и бровью не ведет. Он как должное берет эту пятерку из моих рук, как леденцового петушка, купленного на честные деньги... и кладет его за щеку...
Мне очень радостно это видеть.
Теперь мне уже всё равно. Комиссия, я вышел из-под твоей опеки!
– Калашкина, – говорю я, – прошу!
Я вызываю ее к доске, как будто приглашаю к танцу. Она медленно и испуганно идет к моему столу и смотрит на меня с недоумением. Держись, Маша. Кто это выдумал, что нужно вызывать только лучших? Комиссия, ты еще не то увидишь!
Я распоясался.
– Судя по всему, урока-то не было, – говорит Шулейкин. – Так, Мария Филипповна?
– Так, – говорит Мария Филипповна, и губы у нее становятся белыми. Уж такого я нипочем не ожидала.
– Вы, наверное, плохо к уроку готовитесь? – спрашивает меня Шулейкин.
– Бедный Пушкин, – говорит Мария Филипповна.
Она начинает тоненько хохотать.
– Что с вами? – спрашиваю я резко.
– А грубить не надо, – говорит мне Шулейкин.
Виташа молчит.
Они сидят вокруг меня, как кочевники вокруг костра. Словно они долго мерзли и теперь можно погреться.
– Вы записываете? – спрашивает Шулейкин у Марии Филипповны.
– А как же, Михаил Андреевич, – говорит она, – ну конечно... – и записывает. Ведет протокол.
– А что вы скажете об уроке, Виктор Павлович? – говорит Шулейкин.
– Что я скажу... – говорит Виташа и незаметно по-приятельски мне подмигивает. – Так уроки проводить нельзя, конечно... Всякую чепуху несут учащиеся. Их нужно направлять. А то сегодня им Пушкин не нравится, завтра Толстой...
– Правильно, – говорит Мария Филипповна. – А еще университет кончили! – говорит она радостно.
– Вы бы лучше на уроки литературы не посылали пионервожатых, – говорю я Шулейкину. – Делу от этого пользы нет.
– Вы так думаете? – улыбается Шулейкин.
– А вы не кичитесь, – говорит мне Мария Филипповна.
– Класс доведен до катастрофы,– говорит Шулейкин.
– Да, – говорит Виташа. – Теперь до конца года и не выправить.
– Кошмар какой-то, – говорит Мария Филипповна.
– Надо в облоно сообщать, – говорит Виташа, – доигрались.
И он тоже!..
Я встаю:
– Теперь мне остается сдать дела, наверное?
Как я могу объяснить им всё? Всё, что произошло? Всё, что произошло с мной и с ребятами? Что-то рухнуло, упало. Пыль и обломки. А поднять-то и некому.
– Это уже трусость, – говорит Шулейкин. – Надо не бежать, а бороться. Исправлять положение.
– Лучше мне уехать. Это не моя стихия – учительство. Я желаю вам всего лучшего. Я не сержусь на вас нисколько. Просто мне показалось, что что-то мы делаем не так... Ничего я исправить не смогу, – говорю я.
– Нет таких крепостей, – говорит Виташа и смеется, поглядывая на Шулейкина.
– Не буду я ничего исправлять, потому что я ничего не портил.
Не может все-таки быть так, чтобы я был прав, а все не правы.
– Не можете – научим, не хотите – заставим, – смеется Шулейкин.
– Это вы серьезно?
– Что вы, что вы, – говорит он, уже не улыбаясь, – это же армейская поговорка.
...Виташа догоняет меня на улице:
– Абношкин-то, а? Мария Филипповна чуть не подавилась.
– А ты? – спрашиваю я.
– А что я? – говорит Виташа. – Что мне с Шулейкиным спорить? Это ведь ничего не даст. Он за свое место держится будь здоров! Он спец других давить.
Большие валенки Виташи похожи на заношенные ботфорты Петра Великого.
ПОТАСОВКА
Ночь.
Грипп, который душит меня, невысок и вкрадчив. Он весь в белом. Только кончики пальцев черны. И глаза у него горят неясным, тусклым пламенем.
Слышали ли вы рассказы о гриппозной иголке? Что-то кружится перед глазами, мягкое и ускользающее; кружится то медленно, то неистово; то становится почти микроскопическим, готовым вонзиться; то разрастается невероятно; и всё время слышится звук, похожий чем-то на беспрерывный злорадный хохоток, на вой ветра, на пение пчелы. Почему это названо иголкой, не знаю. Но в детстве я кричал сквозь бред: "Иголка!.. Иголка!.." – и старался укрыться от нее, и никто из взрослых не мог меня понять.
– Иголка!..
Ни на фронте, ни в госпитале она не возникала передо мной. А вот сейчас закружилась снова.
Я слышу ее почти забытый голосок и опять, как тогда, не могу ее разглядеть.
И вдруг из облачка, которым она окружена, проявляется лицо Шулейкина. Он смотрит на меня маленькими глазками.
– Здорово вас прихватило, – говорит он.
– Здорово, – говорю я. Шепчу.– Иголка, – говорю я.
– Давайте я вам полотенце на лоб мокрое... – говорит он.
– А-а-а, – говорю я, – полотенце на лоб?.. А потом пальцами за горло?..
Опять визжит иголка и устремляется в меня. Распухает, распухает... Холодное, мокрое ложится на лоб... И из этого вылезает Шулейкин. Он отряхивается от воды. Он пытается обнять себя правой рукой. Как это смешно...
– Зачем вы это делаете?.. Что это должно обозначать?
– Мокрое – это хорошо, – говорит он.
Я ведь не о том его спрашиваю.
Жужжит иголка, похожая на веретено.
– Сильно вы простудились, – говорит Шулейкин. – Надо одеваться потеплее...
– Все вы жулики, подделыватели оценок, – говорю я.
– Беречься надо, – говорит он. – У нас ведь врача не дозовешься...
– Вы меня подлогам учите?.. – спрашиваю я.
– Тут с врачами туго,– говорит он.– Это не Москва.
– А мы ведь налоги платим, – говорю я.
– Ну ладно, ладно, – говорит он, – при чем тут налоги?
– У нас ведь бесплатная медицинская помощь! – говорю я.
– Тсс, – говорит он.
– Вот я умираю, – говорю я, – и никому я не нужен. Разве это справедливо?
– От этого не умирают, – смеется он. Он смеется всё громче, всё громче, и смех его сливается с воем иголки, она уже совсем рядом... Сейчас!..
Я просыпаюсь.
Ночь.
Шулейкин ходит по келье. Он весь черный. Он ходит вкрадчиво, тихо, словно и не касается пола. Он что-то переставляет с места на место. Мне страшно и смешно.
– А вы откуда взялись?
– Спите, спите, – говорит он и спрашивает сам себя: – Разгорелся примус? – И сам себе отвечает женским голосом: – Еле разожгла черта!..
Я смеюсь. Он думает, что я сплю, и сам с собой разговаривает так странно.
Иголки нет. Прекрасно!.. Тишина.
– Клюквы хочется, – говорю я.
– А чтобы мама ладонь на лоб положила, не хочется? – спрашивает он.
– Хочется...
Он добр невыносимо!.. Мучил меня, мучил, а теперь добр.
– Да, в Москве всё это удобнее, – говорит он, – паровое отопление, телефон... Мне иногда хочется всё это бросить к черту – и туда. Серо мы живем...
– А здесь кто останется? – спрашиваю я.
– А гори оно всё! – говорит он и машет черной рукой. И снова, словно из-под подушки, выныривает иголка, и истошно орет, и, приплясывая, движется на меня.
– Иголка!..
Шулейкин наклоняется надо мной и клювом ударяет меня в лоб.
– Пошел прочь! – кричу я и просыпаюсь.
Ночь.
Шулейкин сидит над книгой, скрючившись.
– Зачем вы пришли?
– Вас нельзя одного оставлять... То да сё... Я тут почитаю...
– Почитаю... почитаю... – говорю я. – Почитай отца с матерью... – я смеюсь. – Вы ведь директор все-таки. Поручили бы уборщице не спать всю ночь.
– Да бросьте вы, ей-богу, директор... директор... Я – Мишка из-под сохи. Сегодня директор, а завтра – говновоз... А вам уже полегче стало... Это я вам две таблетки аспирина запихнул. Великое средство.
– А от геморроя оно помогает? – смеюсь я.
– Хорошо бы еще лимончик съесть, – говорит он.
– А вам в любви везет? – спрашиваю я.
– Одну любил, да она меня не любила, – говорит он.
– Только одну?
– Говорила, что дурак я, деревенщина... Вот так...
– Ну дальше, – говорю я. – Люблю трагедии.
– Какие там трагедии, – смеется он. – В жизни все проще, смешнее.
– Она красивая была?
– Казалась красивой... И вот она меня отвергла... За то, что я – серый деревенский кобелек... А она – городская интеллигентка, с образованием, через день в филармонии бывает...
– Ну, это еще не образование, – говорю я.
– ...Да еще от меня казармой пахнет. Я тогда только что с фронта демобилизовался...
Теплый воздух в келье то сжимается, то разжимается, и, наверное, потому Шулейкин, как лодка, то проваливается куда-то, то взлетает... Смотреть больно. Я закрываю глаза.
– ...Она надо мной посмеивается. "Хорошо, – говорю я, – я тебе покажу..." А у меня – восемь классов образования. Нос брюквой.
Он замолкает.
– Я не сплю, – говорю я. – Просто у меня глаза устали.
– ...Тогда кругом голодно было. А у матушки моей – картофель. Я гружу его на подводу и – в Тулу. И – в институт педагогический. За аттестат зрелости на барахолке мешок отдаю. Два мешка – профессору привожу на дом. Он краснеет весь. Кричит на меня: "Это что, взятка? Взятка, да?!" А сам слюну глотает... "Да не взятка, – говорю я, – какая взятка? Вон у вас дети голодные, да и сами вы..." Одним словом, взял он картошку и заплакал... Вот так. После экзамен у меня принял.. Куда ж ему деваться? И поступил я в институт.
– Эээ, – говорю я, – вот вы как всех облапошили.
– Это для начала, – говорит он, – потом всё своим горбом брал. Диплом в кармане. Возвращаюсь. А здесь – три учителя и два ученика. Да и учителя-то все липовые, без дипломов. Назначают меня директором. А я люблю рыбу ловить... Но я помню эту гражданку. И соглашаюсь быть директором.
– Интересно! – говорю я.
– Начинаю командовать. Мне смешно: я – Мишка из-под сохи – за картошку аттестат купил. Директором стал! Дают мне оклад. Покупаю я драповое пальто. Иду к ней... к той самой...
– Ааа, – говорю я, – интересно.
– Ничего интересного: дура дурой...
– И ничего? – спрашиваю я.
– Что – ничего? Ну, переспал я с ней... раз, другой... Ничего... Так вот и ничего. Смешно и скучно. И удрал обратно. Чуть было пальто драповое не оставил... Работаю. Привожу первые сведения по успеваемости в район. Одни двойки... Они – на меня! Угрозы... Я думаю, зачем мне это? Выгонят... Теперь снова за картошку не купишь, не то время... Собираю своих инвалидов и говорю им, что за двойки не с учеников, а с них спрашивать буду... Ну куда им деваться?.. Они ставят тройки... Им-то что? Всё идет прекрасно.
– А женщина та?
– А черт ее знает. Я ее не встречал больше.
– А мать Веры Багреевой?
Он сверлит меня своими маленькими глазками.
– Сплетни это, – говорит он.
– Говорят, что вы эту школу создали, – говорю я.
– Говорят, – смеется он.
– Это что, враки? – спрашиваю я.
– Может быть, и не враки, – смеется он.
Он куда-то вдруг проваливается. Потолок бесшумно обрушивается и заслоняет от меня всё.
И я просыпаюсь.
Ночь. Лампа еще светит. Шулейкин читает книгу. Нос его выступает из темноты розовым таким уголком.
– Мне сны снятся или это явь? – спрашиваю я.
– Сны, – говорит он. – Это бывает при гриппе... Реальные картины.
– Вы мне свою жизнь рассказывали, – говорю я.
– Теперь такой грипп свирепствует, азиатский, – говорит он.
– Значит, мать Веры Багреевой – это сплетни? – спрашиваю я.
Он кивает и смотрит на меня внимательно.
– Здесь сплетни любят, – говорю я.
– Конечно, место маленькое. Все на виду.
– И в учительской что ни скажи – сразу везде известно.
Он смеется, потом говорит:
– Анекдот вспомнил. Один жалуется. Безобразие, говорит, вчера одному человеку сказал: так твою мать, а сегодня уже весь город повторяет!..
Он смеется. Действительно смешно. Так твою мать – и весь город повторяет.
– Вы еще молоды, – вдруг говорит он. – В учительской не нужно особенно откровенничать. Люди ведь разные бывают...
– А что мне люди?
– Так, на всякий случай.
– Да плевал я на всё.
– Вы ведь говорили, что в нашем просвещении сплошные подлоги?
– Ну и говорил. Плевать мне...
– И что колхоз в Васильевке развалился?
– А что? – спрашиваю я. – Разве не так? Ну и что?
– Ничего, – говорит он.
– А, наплевать, – говорю я.
– Надо поосторожнее, – говорит он.
– А я ничего не говорил! – кричу я. – Не говорил...
И просыпаюсь. Утро. В келье никого нет. Солнце заглядывает в окно. Как хорошо, что весна наконец! И грипп меня оставил. Только слабость – руки не поднять.
Вдруг Вера Багреева зайдет навестить. А может быть, приснилось... А может быть, и не приснилось...








