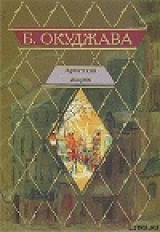
Текст книги "Новенький как с иголочки"
Автор книги: Булат Окуджава
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Окуджава Булат
Новенький как с иголочки
СВЕРЧОК – ВЕЧНЫЙ ТРУЖЕНИК
Сутилов похож на маленького Наполеона перед маленьким Ватерлоо. Он уже всего хлебнул на своем веку. Он знает, что почем на свете. Маленькие его руки скрещены на маленькой груди. Он, конечно, знает наизусть всю Калужскую область, как Наполеон – свое поле сражения... Сюда – батальон, сюда – полк, сюда – армия...
Сутилов распределяет учителей по школам области. Я понимаю, как это трудно. Но ведь и мне нелегко. У меня свои планы...
Сюда – батальон, сюда – полк... А меня?..
– В Шамордино, – говорит он, не глядя в глаза.
– Это что еще?
– Деревня, – говорит он.
– Что?!
Я кричу так звонко, так истошно, что самому страшно. Ничего, пусть знает... У него ощерены крупные желтые зубы. Он часто глотает слюну... Ничего, пусть знает... Но я беру себя в руки. И усмехаюсь прямо в глаза ему. И вдруг мне становится жаль его. За окном – серый полдень. А Сутилову приходится всегда смотреть в это окно. На нем серый мятый костюм из дешевого коверкота. Лицо серое, скучное, как последний липовый лист. Он даже звона трамваев не слышит!
Калуга... И все-таки я усмехаюсь, потому что думаю, как теперь каждый входящий будет кричать на него и топать ногами. Ничего, пусть знает...
– Я могу только в городе работать, – говорю миролюбиво, – мне деревня противопоказана. В городе – это другое дело. А деревня мне противопоказана...
– Нет, – говорит он.
– Да, да, – говорю я, чтобы окончательно его подавить.
– Город не получится, – говорит он спокойно, словно ничего не произошло.
С ума сошел!.. Что он, не понимает ничего?.. Или разыгрывает?..
– Может, я сам могу выбирать себе место под солнцем?!
– Нет, – говорит он.
– Может быть, в вашем ШамординЕ и публичная библиотека имеется?
– В ШАмордине, – поправляет он.
– Значит, я должен плюнуть на аспирантуру ради ваших интересов?
– Нам учителя нужны.
– А мне какое дело?
– А мне какое дело? – говорит он.
Поле боя покрыто пороховым дымом. У маленького Наполеона всё продумано. Его не страшат атаки моих легкомысленных гусар. Он и не такое видывал. Он держит меня своей широкой заскорузлой пятерней за горло. Я чувствую, как она жестка.
– Послушайте, – говорю я, – в ваши обязанности входит считаться с запросами людей?
– Да, – говорит он.
– Мне нужна городская школа... Город мне нужен...
– Нет, – говорит он.
В холодных глазах его – только опыт, много опыта и усталость. Он не хитрит. Он прост, как его кабинет, где – только стол, три стула и карта области на стене.
– Вы хотите, чтобы учитель работал с полной отдачей сил?
– Да, – говорит он.
– Радостно, без раздражения?
– Да, – говорит он.
– Так оставьте меня в городе!
– Нет, – говорит он.
– Я не могу ехать в деревню!.. Мне нельзя приказывать!.. Я литератор, а не солдат!.. Чего вы жмете?.. Не желаю в грязи утонуть!..
Он снова обнажает зубы. Может быть, это улыбка? Так улыбаются, когда хотят ударить, когда можно наконец ударить и не получить сдачи.
– Значит, деревня – это грязь? – спрашивает он шепотом. – Колхоз – это грязь?.. Мы двадцать лет создавали грязь?..
– Вы меня не так поняли, – говорю я шепотом.
– Значит, вы считаете, что наши колхозы – это грязь? – шепчет он.
– Я не то хотел... – шепчу я.
Я знаю, как это бывает, знаю. Теперь не будет ни деревни, ни города... Вот почему небо такое серое, и улыбка на сером лице... Я знаю, как это бывает!..
– Я не то хотел, – шепчу я.
Он отпускает мое горло и кладет пятерню на телефонную трубку. И смотрит на меня выжидательно...
До пятидесятого года я дополз, докарабкался... Теперь – всё. Я знаю, как это бывает.
– Я этого не говорил, – говорю я.
– А я и не утверждаю, – говорит он. – У тебя хорошее, открытое лицо...
– Как жалко, что ни одного места нет в городе,– говорю я.
– Жалко, – усмехается он.
Он дипломат. Хоть это и не нужно. Куда я денусь? Артиллерия его мощна. Он много лет стреляет в одну цель. Что я могу?
Пока я со школьной скамьи тешил себя – он пристреливался. Теперь его снаряды, каждый весом с корову, летят в меня.
– Может быть, найдется одно местечко?
– Нет.
Это потом я буду смеяться над собой и над ним. Сейчас мне не до смеха. Еще один залп – и мои бастионы рухнут. Это потом я буду смеяться. А еще позже я буду вспоминать, даже с уважением и... с ненавистью. От ненависти отделаться не смогу. Но это потом. Сейчас я просто презираю его. Мне не остается ничего другого – я разбит. Презрение – это единственное, что можно себе позволить после того, как ты твердо был уверен в выигрыше и вдруг проиграл.
– Неужели нет ни одного места?
– Нет.
Маленький Наполеон стоит передо мной, скрестив на груди руки. Может быть, все-таки угрызения совести мучат его?.. Или воспоминания о собственной юности?..
В серых глазах его – серое калужское небо. Я кажусь себе жалким под его взглядом.
Ну хорошо, я разбит, разгромлен, но ведь можно сказать что-нибудь человеческое!.. Скажи, ты, недоносок!.. Стань теплее! Положи руку мне на плечо, сними ее с горла!.. Мне ведь немного надо... Я ведь уже твой... Пообещай что-нибудь доброе... Но он смотрит на карту. Сюда – полк, сюда батальон, сюда – дивизия...
– Может быть, хоть какое-нибудь место, а?
– Нет.
А то, что я представлял себе вчера? Как быть с этим? Я в черном пальто, в руке – портфель. Я медленно иду из школы. Кружатся золотые листья. Вечер. Я живу на тихой улице, где липы и одинокая рябина меж ними. Старинный дом. Скрипучая лестница – туда, наверх, где моя комната. Книги, книги... Милая немолодая хозяйка, которая по вечерам играет Сен-Санса. Идет дождь. Потрескивают в печи дрова. Сверчок какой-то трудится в углу.
– Сверчок, – говорю я, – вечный труженик.
– Он живет у нас с незапамятных времен, – говорит хозяйка.
– Опять дождь, – говорю я.
– Что-то есть в этом очаровательное, – говорит она, – сверчок... дождь...
– Сыграйте еще что-нибудь, – прошу я.
Она играет. Идет дождь. Глухо звенят часы со стены... Сутилов подходит ко мне.
– Может быть, временное место есть какое-нибудь? – спрашиваю я.
– Зачем так унижаться? – говорит он.
– Мне в городе нужно, – говорю я расслабленно.
– А там, в Шамордине, – говорит он, – бывший женский монастырь. Там Толстой бывал. Можно про это статью написать, диссертацию...
Он даже улыбается. Он заглядывает мне в глаза, словно хочет полюбоваться на мою слабость. Крупные желтые зубы его обнажены в улыбке.
– Чудак, – говорит он, – я же добра тебе хочу. Я ведь любого туда не направлю... Чудак! Понимаю – Москва... А Калуга?.. Разве это город?
Он кладет руку мне на плечо.
– Я тебе честно скажу, – говорит он, – есть в городе одно местечко. Пятый класс. Но неужели ты, филолог, удовлетворишься этим? Городская школа... казарма... штамп... Затеряешься... А там ты – бог, царь, всё. Всё твое. Там грамотные нужны, а здесь – что? Я ведь специально тебя посылаю, говорит он шепотом, – именно тебя... – и подмигивает. – Сюда я какую-нибудь дуру бездарную ткну, и сойдет.
Он совсем приблизился ко мне. Прощай, Калуга. Прощай, город. Не вышел наш роман.
Прощай, незнакомая женщина, играющая Сен-Санса...
– Договорились? – спрашивает он.
– Нет, – говорю я.
– А что же ты поделаешь? – улыбается он.
– Почему это вы на "ты" со мной? – спрашиваю я. И снова – руки на груди. Он презирает меня за слабость. Он отпускает меня на все четыре стороны.
– Черт с вами! – говорю я. – Найду другой город.
Он провожает меня к дверям. Широко распахивает их.
– Видишь? – говорит он.
Я вижу... Вижу. Вся приемная забита вот такими же, как я. Они смотрят на нас выжидательно. Они ждут своей очереди. Там даже такая красивая москвичка мелькает. Она вытягивает шею и подобострастно смотрит на Сутилова.
– Видишь? – смеется он. – Без кадров не останемся.
– Ну и черт с вами, – говорю я и иду через приемную, расталкивая своих коллег.
– Если надумаешь, – кричит он, – возвращайся, примем!
...И я вернулся.
КЕЛЬЯ МОНАСТЫРСКОГО КАЗНАЧЕЯ
Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.
Чемодан и одеяло. И авоська с копченой колбасой. И тючок из зимнего пальто.
Мне немного смешно: сельский учитель. Чем я учить буду? Но здесь прекрасно!
Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг... А там, за оврагом, – Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся детскую гармошку.
Куда ты попал, мой милый, мой дорогой?
Мне немного смешно: у жизни свои планы, их не предусмотреть.
Откуда-то из-за деревни выглядывает испуганное и высокомерное лицо Сутилова. Он поглядывает настороженно: а не переменю ли я планов? А не смеюсь ли? Дам ли ему наконец покой?
Как хорошо! Как тихо! И солнце... Внизу, под холмом, счастливой подковкою изогнулась река. На горизонте – лес. Почему я отказывался ехать сюда? Не помню. Уже не помню... Солнце. Ранний вечер. И ни души. Что может быть лучше после грохота поездов, духоты вагонов, суеты большого города, тряских грузовиков, равнодушных чиновников?
Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.
Вот здесь мне работать, в этом двухэтажном старинном кирпичном доме.
– У монахинь здесь трапезная была, – говорит мне Шулейкин, директор школы.
– Петухи поют, слышите? – говорю я, улыбаясь.
У Шулейкина маленькие добрые глаза. Он немного смущен. Это хорошо видно.
– Из университета к нам еще не присылали, – говорит он. – Университет – это не пединститут.
– Конечно, – говорю я значительно. – Впрочем, разве в этом дело? говорю. – Университет, правда, дает больше знаний, но ведь дело-то в человеке...
– В душе, так сказать, – говорит Шулейкин.
– Конечно, – говорю я.
– В умении найти общий язык, – говорит Шулейкин.
– Еще бы, – говорю я.
Потом приходит завхоз.
– Готова квартира, – говорит он.
Мы берем по вещи каждый и идем по дорожке, и лопухи бьют нас по икрам.
– Хорошо у нас, – говорит Шулейкин. – Жаль, что в войну часть дубов повырубили...
– И так хорошо, – говорю я.
Он улыбается. Я улыбаюсь. Солнце садится.
Коридор каменного домика. Прямо – дверь. Небольшая комната. Белая. Большое окно с видом на реку и луг.
– Вот ваша келья, – смеется Шулейкин.
– Чудо! – говорю я.
– Здесь раньше жил монастырский казначей.
– Ого!
– Вид хороший, – говорит завхоз и уходит.
– А не боитесь глухомани? – говорит Шулейкин. – Серости не боитесь?
– Чепуха!
Знал бы он, как это прекрасно, когда солнце и простор... И нет дождя, проливного, осеннего...
– Тут у всех хозяйство. А вы что есть будете? Магазинов-то нету.
Прощупывает!..
– Буду пить молоко.
– Обзаведетесь хозяйством, – говорит Шулейкин. – Приживетесь. Невесту подыщем, – он смеется. – Не захочется уезжать. – Он говорит об этом недоверчиво и потом – тихо: – Народ здесь у нас не очень добрый. Вы это учтите.
– Чепуха, – говорю я.
Вот она, моя келья!..
– Ремонт сделаем, – говорит Шулейкин.
– Какой еще ремонт? Зачем?
– Дыры везде... Замерзнете...
– Чепуха.
– Это не чепуха, – мягко говорит он. – Пойдемте походим.
Мы идем с ним по поселку.
– А вон Виташа, – говорит Шулейкин.
Возле школы играют в волейбол.
– Виташа – это учитель, – говорит Шулейкин. – Виктор Павлович. Любит действовать исподтишка...
Поют пчелы. Пахнет медом.
ПОСТУПАЮТ В СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО
Разве мог я понимать, как прекрасны люди, пока не попал сюда?
Мои восьмиклассники сидят передо мною неподвижно. Они еще многого не знают, но они прекрасны и они мои. Им еще сладка неграмотность, но это не их вина. И холодная осень стремительно кружится по монастырю и обрамляет их лица.
Лица моих учеников неподвижны, но в их глазах давно горят огоньки здравого смысла, иронии, доброты, непримиримости и надежды.
А в это время на деревьях, что раскинулись вокруг, сидят птицы. И они поют. Они похожи на последние осенние листья. Я отчетливо слышу их звонкое пение даже сквозь двойные рамы окон.
Коля Зимосадов входит в класс в стоптанных сапогах, в залатанном пальтишке, с офицерской сумкой через плечо. Это уже через много лет он станет офицером. А пока он садится на свое место, коренастый и неторопливый, и устраивается, и всё раскладывает по своим местам, и смотрит на меня, словно надеется, что именно сейчас-то и раскрою я ему все премудрости учености. Он давно уж перерос свои пятнадцать лет, взрослый маленький мужичок с грубоватыми руками.
– "Окно" пишется, Коля, через "о"... Забыл?
Он краснеет, крутит головой, старательно исправляет ошибку. Кто-то обучал их не очень влюбленно.
– Нравится вам ваша школа?
– Хорошая школа, каменная, – говорит кто-то.
Мне вспоминаются испуганные маленькие глаза Шулейкина, когда я объявил ему, что первый диктант весь класс написал на единицу.
– Что с вами? – спрашивает он.
– Всё в порядке, – говорю я. – Вот посмотрите.
Он дрожащей рукой перелистывает странички.
– Может быть, у вас с дикцией не всё хорошо?
– С чем?..
– Может, вы диктовать не умеете?
– Ну, знаете!..
– Такой грамотный класс, и нате...
Он так говорит об этом, что я чувствую себя виноватым, хотя и недели не прошло, как я вошел в этот класс.
– Вы отметки в журнал не ставьте, – говорит он. – Кошмар какой-то...
– Что случилось? – спрашивает Клара Ивановна.
Она завуч. Она преподает ботанику. Ботаники они почти не знают. Она просто читает ученикам главы из учебника. Наверное, потому лицо у нее всегда испуганное.
Она смотрит то на меня, то на Шулейкина круглыми коровьими глазами, и полные ее губы слегка приоткрыты в томительном ожидании.
Потом она всплескивает руками:
– Что же вы наделали?!
– Я думаю, нужно еще один диктант провести, – говорит Шулейкин. Полегче...
– Катастрофа, – говорит Клара Ивановна.
Виташа подмигивает мне по-дружески из другого угла учительской.
– Ну что же, – говорю я, – давайте попробуем.
Мы пробуем.
Шулейкин приносит мне новый текст для диктанта. Текст примитивен и короток.
– Это же для учеников пятого класса, – говорю я.
– Вот и хорошо, – говорит он. – Будет положительный результат.
Он при этом смотрит мне прямо в глаза, и я чувствую себя дураком.
– Вот и хорошо, – говорит он, – сложное мы еще успеем.
– Дурак, – шепчет мне Виташа, – начнешь с простого, отметки будут хорошие, а потом перейдешь к сложному – колы пойдут... А кто обучал? Ты... Кто виноват? Ты... Дурак.
Я диктую этот примитивный текст. Я диктую, как Левитан. Я декламирую, как Яхонтов. Пусть они не думают, что у меня с дикцией слабо.
А птицы поют. Красные, желтые, зеленые, черные, они поют, сидя на ветках деревьев.
А Шулейкин медленно ходит по рядам. Он иногда останавливается. Тычет пальцем в тетради моих учеников.
– Разве здесь одно "н"?..
– Подумай-ка над этим словом... Вот теперь другое дело.
– Запятые-то позабыл...
– Зачем вы подсказываете? – говорю я шепотом.
– Какие же это подсказки? – говорит он громко. – Они волнуются... Это помощь маленькая. Потом мы вместе проверяем диктанты.
– Ну это можно за ошибку не считать, – говорит он, – и это, пожалуй, тоже...
Он улыбается мне:
– Теперь вам будет легче. Не помоги я, кто знает, что было бы...
Он делает жест правой рукой, словно пытается понять себя. Он доволен. Единиц нету. Двоек нету. Троек много, но это не страшно. У Гены Дергунова пятерка.
– Ничего не понимаю, – смеется Шулейкин, – это же самый слабый ученик...
– Вы ему много подсказывали.
– Да помогал я! Какие это подсказки? Даже не помогал, а подбадривал.
Потом он сам, собственноручно выставляет отметки в журнал.
Потом он говорит по телефону с заведующим районо. Я слышу:
– Новенький?.. – говорит Шулейкин и улыбается мне. – Отлично. Успеваемость дает стопроцентную...
Я делаю ему знаки. Я пытаюсь его остановить. Это очень неудобно, когда тебя хвалят при тебе же. И за что?
Но что-то теплое обволакивает меня. Теплое и волнующее. На одно мгновение. В детстве, когда тетка говорила обо мне кому-нибудь: "Он самый хороший мальчик", я испытывал то же самое.
Неужели так просто и покупается покой? Я смотрю на Шулейкина. Он скромен, вежлив, сдержан... Он хочет мне добра... Но он учит меня подлогам!.. Нет, он хочет мне добра... и себе... и всем. Он учит меня подлогам.. Легко возмущаться и обвинять... Нет, он учит меня подлогам... Нет, он хочет мне добра... Вот он улыбается и кивает мне. Он улыбается, потому что скрутил меня!.. Но в его улыбке – что-то дружеское и теплое. Приятна его улыбка и нужна. Я совсем одинок. Я пока никого не знаю. Кто-то нужен рядом. Клара Ивановна глупа и истерична. Виташа смотрит в свой огород... Шулейкин тоже одинок... Нельзя видеть в людях только плохое, нельзя... У него нелегкая жизнь... Ему приходится бороться... За что?.. И Клара Ивановна улыбается...
А птицы горланят во всё горло. Их пестрый хор отчетливо слышен сквозь двойные рамы окон.
И Ваня Цыганков, рыжеволосый и косматый, разинув рот, влюбленно вслушивается в их пение. И мне не хочется его будить, отрывать, мешать ему.
Он сидит за партой неуклюже, рассыпавшись на составные части: нога там, рука – в другом месте, голова под солнцем, под последним... Впрочем, никакого солнца и нет...
А Саша Абношкин, сын председателя колхоза, продолжает свою речь:
– ...После этого они поступали в светское общество...
– Как это "поступали"?
Он мнется. Он самолюбив. И колок. Ну ладно, я ведь тоже всё это прошел и знаю. Я тоже самолюбив... Мне только двадцать шесть, а не пятьдесят.
– Как это "поступали"? Это что, учреждение? Школа?
Он молчит. Я сбил его.
– Ну как ты это себе представляешь? Здание такое, да?
– Ну, здание...
– Двери, окна, вывеска над входом, да?.. Написано: "Светское общество", да?
– Кто его знает...
Потом, когда я с грехом пополам вдалбливаю в их неприспособленные, практичные головы эту абстрактную чепуху, Саша Абношкин говорит мне, прищурившись:
– А зачем это нам? Трактор и без этого пойдет.
– Ты это серьезно?
Он усмехается.
– Ладно, – говорю я миролюбиво, – будем считать, что теперь истина установлена.
– А я и раньше знал, – говорит Саша Абношкин.
Голова его вздернута неимоверно. Он старается смотреть на меня сверху вниз. Он из тех, кто участвует в соревнованиях только тогда, когда абсолютно уверен в своей победе. Если он не уверен, он откажется от соревнований. Он будет тайком тренироваться до тех пор, пока не почувствует, что готов выйти и победить. Он начинает огрызаться, презирать, ненавидеть...
– Всякий нормальный человек должен любить читать, – говорю я.
– А вот бабка Прасковья не любит, – медленно говорит Гена Дергунов. Что ж она, ненормальная?
Они объявляют мне войну. Не кровавую, не смертельную, не ожесточенную... Но такую, что держи ухо востро перед их ранней земной мудростью и насмешливостью. Это война добрая. Это означает, что тебя признали... Наверное, это честь для меня, что они снизошли до единоборства со мной. Легкое, изящное "кто – кого", оно ведь нам не в тягость...
– Но оно мешает, – мягко говорит Шулейкин. – С ними нужно быть построже... Распускать нельзя... всякие вопросики... каламбурчики... Ученик учиться пришел? Вот и пусть учится, а над учителем подтрунивать...
– Мне видней, – говорю я.
– Нет, мне видней, – мягко говорит Шулейкин. – По диктанту тоже спорили, а вышло...
– Вышел подлог, – говорю я шепотом.
Почему я говорю об этом шепотом?
Он молчит.
– Здорово ты его рубанул, – смеется на улице Виташа.
– А ты-то что же молчал? – спрашиваю я.
– Да я не успел, – говорит он растерянно.
Ужасно заставлять людей врать и оправдываться...
– Ладно, – говорю я, – замнем. Я пошутил.
– Мне здесь жить, – говорит Виташа. – Ты-то уедешь. Ты сегодня здесь, завтра – там... А мне здесь оставаться.
А птицы поют...
ПОХОДКА БАЛЕРИНЫ
Она кутается в мамкин платок. И переминается с ноги на ногу. А на ногах ее – старые валенки, подбитые резиной, и большие нелепые латки на тех валенках.
Но когда она делает шаг, в классе становится тихо.
Или это мне кажется?
И она идет в мою сторону. Она идет плавно, слегка покачивается на ходу, как балерина. Это такая особая походка, словно кончиком ноги слегка прикасаются к воде: не холодна ли?
– Скажи-ка мне, Багреева...
А о чем спрашивать – не знаю.
За окнами – голые холмы, серое небо. А может быть, и дождь сыплет... А Багреева держит высоко прекрасную свою голову. Она стоит прямо передо мной, только на меня не смотрит.
В классе очень тихо. Я не должен был ее вызывать первою. Она слишком необычна для этого. Хороша слишком. Еще подумают... Видят ли они, как она хороша?
А она стоит, не глядя в мою сторону, и ее большие ресницы (господи, как нарисованные!) колышутся слегка, подобные мягким темным крыльям.
– Возьмите мел, Багреева.
Для чего этот мел?.. Ну что она будет писать?..
Она берет мел. Маленькая, тонкая ее рука высовывается из рукава. На ней старомодный пиджак. Мужской. А рука маленькая и тонкая. А пальцы красные, и кожа на них потрескалась. И в этих красных, озябших пальцах белый мел...
Я должен обучать ее прекрасным стихам, и она должна научиться не смотреть мне в глаза так пугливо и даже не отворачиваться, и она должна знать себе цену... Бред какой-то!
Там, за окнами, ветхие крыши Васильевки темнеют над оврагом. Знают ли они, для чего я сюда приехал?
– Вы знаете, кто такой Сен-Санс?
Кто-то тихо смеется. Она вздыхает. Она смотрит на меня громадными карими своими глазищами. Она вздыхает. Кто-то смеется. Я листаю журнал и ничего не могу прочесть в нем. Почему я на "вы" с ней?..
Вот она стоит передо мной, Багреева Вера. Что она думает о себе?.. Хоть бы согрела руки, чтобы пальцы оттаяли, чтобы мел не дрожал и не крошился... Она вздыхает. Почему это я говорю с ней, с восьмиклассницей, на "вы"?..
– Вы не знаете, кто такой Сен-Санс?
– Что?..
За окнами – голые холмы, серое небо. Скоро снег, скоро снег...
– Положи мел, Багреева.
Она кладет мел. Она краснеет. А там, в Васильевке, уже зажигаются огни. Керосиновые лампы с закопченными стеклами стоят, как солдатики, на столах. Туда, через овраг, на те огни, по мокрой скользкой осенней дороге пойдет Багреева Вера. Походка ее будет плавна, как у балерины.
– Багреева, ты была когда-нибудь в театре?
– Нет.
Она вздыхает. Неужели она не знает, как она красива?
– Кто из вас бывал в театре?
Все сидят неподвижно.
– А знаете ли вы, что такое трамвай?
Да, конечно, они слышали. Он гремит по утреннему городу. Я вижу напряженное лицо вожатой и заспанные губы кондукторши. Я покачиваюсь на задней площадке, трясусь... вместе со всеми своими радостями, и раздумьями, и печалями... И пассажиры толкают меня под бока...
Это старое уродливое электрическое животное – трамвай! Но на нем я уезжал в будущее, когда еще не существовали троллейбусы...
...Она будет идти по скользкой дороге. Будет уже темно вокруг. Ведь теперь темнеет рано. Осень ведь... Знает ли она о том, как она красива?.. И в губах – ничего детского, уже ничего... В деревнях взрослеют рано.
– Что ты будешь делать, когда домой вернешься?
Кто-то смеется. А может быть, кашель сдерживает...
– Воды наношу, – говорит она и смотрит в окно.
И уже ни пиджака мужского на ней, ни старого платка, ни валенок разбитых, ни красных, озябших пальцев... Что-то светлое, легкое, гордое...
Она идет по проходу к своей парте. Вот так она и будет идти всегда мимо молчаливых товарищей, мимо Васильевки, и проход меж рядами – это как продолжение поздней осенней дороги...
– В деревне часто встречаются великовозрастные ученики, – говорит Шулейкин в учительской.
– Какие?
– Ну, переростки. Условия труда, и всё такое прочее. Вот, например, Вера Багреева...
Он смотрит мне в глаза прямо и подозрительно.
– Не помню, – говорю я.
– Вера Багреева... Красивая такая...
– Не помню, – говорю я.
– Ей вот, к примеру, семнадцать, а она в восьмом...
– Она что, тупая?..
Он смотрит прямо в меня. Маленькие глазки его не моргают.
Шалишь! Ничего не получится. Я не таковский. Я тоже не дурак.
А за окном – темень. И три керосиновых солдатика с трудом освещают учительскую. И Вера Багреева носит воду. И коромысло изгибается на ее плече. И красными, озябшими пальцами она придерживает мокрое дерево. Сыплет дождичек осенний, а она идет медленно, но легко, покачивается. Она ступает так, словно пробует воду в реке кончиками пальцев.
– Неужели вы не заметили Багрееву? Такая красивая, стройная девица. У нее мать тоже... Особенно раньше... А у этой, у дочери, ресницы мохнатые...
– Не помню, не заметил.
– Городским она нравится. Нынешним летом инспектор молодой из Калуги приезжал... Возвращаться не хотел.
– Не помню, – говорю я. – Не помню Багрееву.
Конечно, если снять с нее эти валенки... Мне двадцать шесть – ей семнадцать. Это значит, девять лет разницы. Не так уж много...
– Вон вы какой красивый, – говорит Шулейкин.
– С чего это вы взяли?
– У вас усики черные, и вообще брюнет...
– Ну так что же?
Девять лет – такие пустяки...
– Непросвещенное мнение русских женщин относительно брюнетов... поясняет Шулейкин.
– Да ну что вы...
– Они считают: раз темный, значит, хорошо. Контраст.
Свет падает Шулейкину на лицо, и шрам на носу словно налился кровью. Набух. А в маленьких глазах его – боль и вопрос. Он подстрижен и выбрит на славу. Как это он здесь умудряется?.. Толстые монастырские стены холодные. Печи едва живы. Вот если бы на этом прекрасном холме выстроить прекрасное здание, стеклянное и прозрачное и теплое...
– От холода у учеников руки краснеют, – говорю я.
Он смотрит на меня и слегка улыбается.
– Я видел сегодня: руки красные, озябшие, мел не держат... Обидно...
– У Багреевой Веры руки от кипятка красные, – говорит он, – обварила. – Он смотрит на меня и слегка улыбается. – Конечно, обидно, – говорит он, такие красивые руки...
Ей семнадцать?.. Вот почему уже ничего детского в молчаливых и неподвижных ее губах.
– Мать у нее красавица, вот увидите... Так сказать, красит наш унылый пейзаж. А летом у нас хорошо.
И он продолжает внимательно вглядываться в меня. И что-то жалкое мелькает в его взгляде. Мне грустно и не по себе. Хочется уйти из этой комнаты, где, кроме стен и стола, покрытого красным сатином, больше ничего нет.








