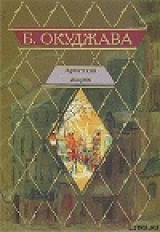
Текст книги "Новенький как с иголочки"
Автор книги: Булат Окуджава
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
ПУСТЬ КОЛ, ДА СОБСТВЕННЫЙ
И здесь, оказывается, льют дожди. И здесь – холодно и сыро. И келья моя протекает. И четыре кубометра осиновых дров гниют под дождем. Чем я буду зимой отапливаться?
– Еще будут хорошие деньки, – говорит Мария Филипповна, пионервожатая. – Еще в колхозе наработаемся.
– То есть как это?
– Обязательно, – говорит она. – Все пойдем: и ученики, и учителя.
Если бы я был посчастливей, сидел бы сейчас в публичке. Завтракал бы дома. Ходил бы в кино, когда хотел...
– Вы приходите к нам пообедать, – говорит Мария Филипповна. – Что ж на молоке на одном сидеть... Разве можно?.. Живот испортите.
– Я солдат, – смеюсь я. – Я привык ко всему.
А у них дома, наверное, тепло. Они обжились... Дом!
– Мне бы вот сахару достать, – говорю я.
– А вот мы в воскресенье в Козельск за продуктами поедем... Давайте с нами...
Чаю хочется!.. Обыкновенного горячего чаю... Раньше мне хотелось быть великим, хотелось попасть на Северный полюс... Хотелось написать роман... А сейчас хочется чаю...
– А я примус в Козельске куплю. Чай буду варить себе.
Она смотрит на гнилые дрова. Покачивает головой.
– Безобразие, – говорит. – Человек университет окончил, а они дров хороших дать не могли!.. – И оглядывается.
– Кто о н и?
Она смеется. Оглядывается по сторонам.
– Вы потише, – лицо у нее растерянное, – у нас в поселке слышно очень.
– Колхоз тут у вас развалюшка какая-то, – говорю я.
– Тшшш...
Губы у нее становятся белыми. И она шепчет этими белыми губами:
– Что вы... что вы... – И снова громко: – Послевоенные трудности. Ничего, это мы наладим... – И снова шепотом: – А то еще ученики услышат. Белыми губами: – Они знаете какие?.. – И снова, извиняясь: – Вы мне всю работу испортите...
...Я говорю своим восьмиклассникам:
– Результаты третьего диктанта – колы. Нравится?
Они молчат.
– Не нравится?
Они молчат.
– Цыганков Ваня, тебе нравится?
Он стоит за партой. Крутит рыжей кудлатой головой.
– Ну, нравится тебе такой результат?
– Не-е...
– Кому нравится?
Они молчат.
– Вот и выбирайте. Сами выбирайте, – говорю я. – Как скажете, так и буду поступать.
Что-то подкатывает к горлу. Что-то душит меня. Ну вы, ну поддержите хоть вы меня! Скажите хоть одно слово. Я не знаю, чем это кончится, но давайте воевать...
– Мы можем писать легкие диктанты, как тогда... Если вы хотите. Я даже могу подсказывать вам. Вы меня любить будете за доброту мою... А?
Они молчат.
– Меня все хвалить будут... Хороших дров мне привезут. Будет большой праздник...
Кто-то фыркает. Или я напрасно взываю к ним?
– И спрашивать я буду очень облегченно. И когда буду спрашивать, буду в окно глядеть, чтобы не мешать вам в учебник подсматривать...
Коля Зимосадов сидит насупившись. У Маши Калашкиной растерянная улыбка на некрасивом лице. Шура Евсиков барабанит по парте пальцами. Он очень сосредоточен.
– Хотите такую жизнь? Да? Одно слово, и всё будет по-вашему.
Они молчат.
– Хотите?
– Не хотим, – говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.
– А ты за всех не отвечай, – говорит Саша Абношкин.
– Хотите?
– Лучше, чтоб полегче, – улыбается Маша Калашкина.
Подвел ты меня, Абношкин!
– Полегче не будет, – говорю я.
Они молчат. Бунт?
– Пусть кол, да мой собственный, – говорит Шура Евсиков. – Мне чужие четверки не нужны.
Ааа... Вот оно!
– Зимосадов.
– А мне тоже не нужны...
– А ты, Абношкин?
– А чего я?..
– Нагорит вам потом, – говорит мне Маша Калашкина. – Вам Шулейкин даст...
– Не твоя забота, – говорит ей Саша Абношкин.
– Выставлять колы в журнал? – спрашиваю я.
Они молчат.
– Выставлять?
Они молчат.
– Выставлять или нет?
– Ставьте, – говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.
– Кто за?
Они поднимают руки.
Ну вот, теперь и начнется!.. Зачем мне это? Друг мой, друг мой, за то ли ты взялся?.. А в монастыре бывал Толстой... Забыл ты об этом, забыл... Хватал бы ниточку за неверный ее конец... Потомки спасибо сказали бы!..
– Не тем вы занимаетесь, – мягко говорит мне в учительской Шулейкин. Возбудили детей.
– Детей? – смеюсь я.
Теперь наши позиции стали хоть определеннее. Теперь легче. Вот – я, а вот – он. Главное теперь – это не нарваться, не раскричаться, не устроить истерику.
– Детей? – смеюсь я.
– Вы еще очень неопытны, – мягко говорит он. – Можете споткнуться...
Я улавливаю легкую угрозу. Она едва ощутима, как в жару – будущий дождь.
– Они не так безграмотны, как вам кажется, – говорит Шулейкин.
– Вы мне угрожаете?
– Вот видите, как вы поняли товарищеский совет? – качает он головой. Вот видите?..
– А может быть, и в самом деле, – говорит Клара Ивановна, – начать с колов?.. Ну пусть уж...
Он останавливает ее едва заметным движением руки, и она послушно смолкает.
– Послушайте, Михаил Андреевич, – говорю я Шулейкину, – вы что, боитесь меня? Или я ваши планы нарушил? А?
– Я ничего не боюсь, – говорит он.
– А чего вас бояться, – говорит Маракушев Николай Терентьевич вызывающе, а сам смотрит на Шулейкина, словно ждет его распоряжений.
Я резко поворачиваюсь к нему.
– А вы еще откуда взялись? – говорю я ему очень обидно. Но он не обижается. Только бы не сорваться. Пусть знают!.. Еще бы мне широко улыбнуться, помахать им рукой и выйти... Не могу...
– Вы не вмешивайтесь, – говорит Маракушеву Шулейкин.
Они уже между собой воюют. Ладно, у меня тоже свои соображения на сей счет...
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
– И всю ночь будем работать? – спрашиваю я.
– Всю ночь и будем, – говорит Виташа. – Это вам не в городе в постельке спать. – Он смеется. Он смотрит на меня. – Ничего, мускулы развивать надо. Покрутите машинку!.. – Потом он успокаивается, говорит серьезно: – Надо ведь колхозу помочь...
Как ему приятно сообщить мне это!
– А ты что, против постельки? – спрашиваю я. – Ты считаешь, что это только для городских сибаритов? Да, Виктор Павлович?
– Я пошутил, – говорит он, и сплевывает на пол, и наступает валенком на плевок.
Нет, нет, никаких вопросов. Разве я возражаю?.. Хоть и есть во всем этом какая-то несуразица... Ладно, учись, дурак. Учись высокому искусству веяния овса... Ладно, не спрашивай. Жизнь так коротка... А что, если тот мешок овса, что тебе суждено провеять, и есть главное, во имя которого всё? Учись, дурак... И торопись... Виташа посмеивается, но у него узловатые сильные руки... Черт! Неужели до сих пор сильные руки – самое прекрасное, что создал человек?.. Ладно, не спрашивай... Ладно. Молчу... Мы будем веять ночью... Ладно. Днем мы будем учить крестьянских детей быть прекрасными. Ладно, мы пренебрежем постельками... Лейся, золотой овес!.. Трещите, закрома!.. Что делают из овса? Крупу "Геркулес", печенье, овсом кормят лошадей... Машинам нужен бензин...
– А вы тоже идете в ночной поход? – спрашиваю у Шулейкина.
– А как же, – говорит он и пытается обнять сам себя правой рукой. Странная манера.
– Почему это он так делает? – тихонько спрашиваю у Виташи.
– А черт его знает. – Виташа сплевывает и растирает плевок валенком.
– Ну, теперь началось, – говорит Маракушев, – теперь на месяц... Понеслась!..
– Вам-то уж не впервые, кажется, Николай Терентьевич, – говорит Шулейкин обиженно. – Вы-то чего возмущаетесь?
– Гы, гы, – растерянно смеется Маракушев, – я не возмущаюсь, я так...
Мы шагаем по грязной дороге. Впереди – овраг. За оврагом – Васильевка. Там – редкие огоньки. Там – Вера Багреева. Она воду несет на длинном изогнутом коромысле.
Все растянулись цепочкой. По одному. Только Виташа идет со мною рядом.
– Надо бы попроще одеться, – говорит он.
– Опроститься? – смеюсь я.
– Пылью всё забьет... Грязь...
Воздух ночной свеж и чист. И холодок бодрящий. И что-то есть прекрасное в том, как мы движемся по этой дороге. И я иду... Где-то, куда-то, в какую-то Васильевку. Ладно, Виташа, твоя снисходительность великолепна, но я вдоволь порылся во фронтовой земле, и если ты не знаешь, что это такое...
– Ты знаешь, почему у Шулейкина шрам через весь нос? – спрашивает Виташа шепотом.
Откуда же мне знать...
– Он приударял за одной вдовой тут, а она не хотела... А он в окно к ней полез... Она взяла серп... – Виташа смеется прямо мне в ухо, – и тем серпом его по носу...
– А может, он любил ее?
– Любил, – шепотом смеется Виташа. – Любил, – смеется он, когда Васильевка почти вся остается сзади. – Любил, – смеется он мне в ухо и кивает на крайнюю избу: – Вот здесь она живет. Дочка ее, Вера Багреева, у тебя учится. Как утка ходит... Это мать ее... Вдова эта, – он вертит головой и сплевывает на дорогу. – Любил... – смеется он украдкой.
...Я стою у веялки. Я верчу ручку барабана. Вертится легко. Хоть до утра верти.
По сараю гуляет сквозняк. Пыли действительно много. И полова золотая кружится в воздухе. Две керосиновые лампы на столбах висят. Лица у всех медного цвета. Из рукава матерчатого вытекает зерно. И какие-то бабы, закутав платками лица, отгребают его. И кто-то погружает в зерно лопату и сыплет его в подставленный распахнутый мешок.
А я кручу ручку. Рраз... рраз... рраз... Одно и то же.
Проходит с мешком Маракушев.
– Где Виктор Павлович? – кричу ему.
– Сено в сарае укладывает.
Нашел работенку, сельский житель! Сено... Легкое, как пух, сухое, душистое... сено...
– А Шулейкин?
Маракушев сбрасывает мешок с плеча. Машет рукою куда-то в сторону. Ухмыляется неопределенно.
И этот смылся... Ну ладно. Берегись, Виташа. Я тебя перекручу, я над тобой посмеюсь...
– Вы крутите, крутите, – говорит мне баба.
– А я и так кручу, – говорю я. – Вот сейчас пиджак сброшу, еще веселей пойдет.
– Не надо сбрасывать, полова по телу разлезется, – говорит другая.
– Жарко, – говорю я.
Там, у Виташи, сено. Оно прохладное и ароматное. Виташа стреляный воробей. Он знает, где получше...
– Вы ее крутите получше, ручку-то...
– Как еще получше? Так, что ли?..
– Да хоть так...
Пожалуйста, могу и так. Как угодно могу. Лишь бы полова эта проклятая не летела в мою сторону... Она забирается за воротник, и маленькие колючие зверьки разбегаются по всему телу, и нет от них спасения. И пыль смешивается с потом. Лезет в нос, в уши, в рот, в легкие...
А вот ходит в распахнутом полушубке председатель колхоза Абношкин (фамилия-то какая!). Он толст и угрюм. И сопит громко. Даже сквозь грохот веялки слышно. Он ходит и понукает... Почему я должен крутить эту ручку?..
Дышать этой пылью?.. Может быть, он будет собирать материал для задуманной монографии о Толстом? А может быть, она и не нужна? И ничего не нужно? Только овес, золотой овес, душистый овес, ядовитый... Только этот несовершенный механизм, унижающий человека?.. Что нужно?
А у Виташи – сено... Проморгал я. Лечь бы лицом в прохладное сено и раскинуть руки, чтобы они отдохнули. И чтобы поясница отдохнула...
Я меняю руки. То левой кручу, то правой. А крутить все тяжелей и тяжелей. А Маракушев по-прежнему щедро овес засыпает в веялку. Так долго не выдержать.
– Вы что-то помногу сыплете! – кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеваной пыли и летит в глубину сарая.
А Маракушев всё сыплет. Медное его лицо сосредоточено. Лампы подмигивают со своих столбов. Кружится золотая пыль...
– Давай, давай! – кричат бабы.
Где это Шулейкин прячется, интересно?
– Директор-то ваш опять у Багреихи под окнами пасется, – говорит мне баба.
Ааа... Ему серпа мало. А может, это любовь? Ну не может он без нее, и всё...
– Она ему не даст, – говорит другая, – разве он ей подходит?
Сейчас, когда кончится всё, я пойду к тому дому. Я его там застану. Я ему всё скажу... Что? Всё, всё. Плевать, пусть обижается! Свет клином, что ли?.. Плевать.
– Покрутите кто-нибудь, – говорит одна из баб, – уморился ведь человек.
– Не надо, – говорю я.
Умру, а не отойду. Сейчас придет второе дыхание. Станет легче... Сейчас придет второе дыхание. Там, у Виташи, свежее сено... Ладно, крути, дурак! Крути, дурак, свою дурацкую ручку, учись высокой мудрости простоты, потом учи других любви к прекрасному... Всё встанет на свои места... Когда-нибудь ты вспомнишь об этом с нежностью...
– Устали? – спрашивает
– Нет.
– Тогда пошибче давайте.
– Еще шибче?!
– Стало быть, еще.
Невозможно. Пот глаза мне заливает. Он жжет мое тело. Почему это мы должны страдать за этот слабый и нелепый колхоз? Почему всё – такой ценой? Почему учитель истории Маракушев должен носить мешки с овсом?.. И всю ночь?.. И не спать?.. И еще целый месяц?..
Завтра иезуит Шулейкин побежит к нему на урок, потом скажет:
– Вы плохо подготовились.
Самое смешное – это то, что мне не хочется думать о Вере Багреевой... Мне хочется упасть лицом в свежее сено... Хитрец Виташа!..
И снова появляется похожий на ямщика председатель Абношкин. Он стоит и сопит. Он смотрит на Маракушева. Маракушев сидит на мешке.
– Рано отдыхаешь, Николай Терентьич, – говорит Абношкин.
– Гы, гы, – смущенно посмеивается Маракушев и встает.
– Давай, давай! – кричат бабы.
Я кричу из-за веялки Абношкину, прямо в медную его рожу:
– Какого черта вы еще замечания ему делаете?! Вы ему спасибо скажите!
– За что же спасибо? – сопит Абношкин. – До утра успеть надо.
– Да он же не обязан овес ваш носить! Он учитель! Он ведь не обязан! Черт вас возьми!
– Да вы крутите, – говорят бабы.
– А вы если устали... – говорит Абношкин.
– Я не устал! – кричу я. – Я на фронте и не такое пробовал.
– Мало ли что на фронте, – говорит Абношкин, – каждому делу привычка нужна...
А веялка тарахтит. Уже какая-то баба крутит ручку. И Маракушев засыпает зерно. Я поднимаю над головой совсем чужие руки.
Мы идем по спящей Васильевке. Говорить не хочется. Еще темно, но в окнах желтый свет колышется. И хлопают калитки.
Я не виноват, что не выдержал, привычки нет. Никто и не подтрунивает надо мной... Спокойно.
Когда я притащился к сеновалу, Виташа стоял под самым потолком.
– О, – сказал он, – ну-ка покидай, я покурю пока.
Я взобрался на гору пахучего сена, и чужими деревянными руками схватил вилы, и от кого-то внизу принял первый вилок, и хотел было его поднять, но не выдержал и сел, широко расставив ноги... Виташа не видел. Он сидел внизу, покуривая. Потом он крикнул мне:
– Ладно, хватит. Слезай, покурим. Тут уж всё, последний. Я его потом сам кину.
Я устроился прямо на сене. Оно не показалось мне прохладным. Но тело словно пролилось на него.
– Я здесь посижу! – крикнул я сверху. И тут же словно провалился. И только издалека слышал неторопливый разговор.
– Все руки сбил, – сказал Виташа. – Такую гору первый раз один навалил.
– А он устал,– сказал Шулейкин,– без привычки трудно.
– Еще бы не трудно, – сказал Виташа. – Даже веялку крутить трудно без привычки.
– Я ему уроки переставлю, пусть подольше поспит, – сказал Шулейкин. И всё это обо мне.
СНЕГ ИДЕТ
Снег идет. Белый, как сахар, как вата, как бумага. Он белый, как бумага, на которой написаны эти слова, простые и таинственные: «...поздравляю вас с праздником. Ваша ученица».
Праздники давно прошли. Письмо опоздало. И почерк изменен. Это сразу видно. Он аккуратный ученический, девчачий, но изменен. И только характерная завитушка у буквы "а" осталась. И что-то беспомощное проглядывает из нее.
Мне не надо быть следопытом, чтобы не сбиться. Эта буква словно синий четкий след на белом снегу, по которому можно идти до самых дверей. Там высокое крыльцо, запорошенное снегом, дверь, плотная и отполированная временем. Там – сени, в которых бродит знакомый запах первого тепла, бедности и ожидания.
Снег идет. Скоро к келье моей не пробраться. Он идет, но след отчетливо синеет на его поверхности. И я не пойду по этому следу.
– В деревнях взрослеют рано, – говорит Маракушев. – Я сам женился, когда моей Евдокии шестнадцать было.
– А закон?
– Гы...гы...
– К чему вы об этом?
– Слухи ходят... гы...
– Сплетни...
– Да я ничего... слухи...
Снег идет. Темнеет рано. Он уже синий, этот снег. И след по нему черный. И эти слова: "Ваша ученица"... Ученица...
Чему я успел научить ее за несколько месяцев? Читать стихи нараспев?
– Багреева, почему ты в пол смотришь?
– Я не в пол.
– Смотри прямо, перед собой. Читай вот так:
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей...
Вот так. Это вдохновенно надо читать.
– Я читаю...
– A y нас в программе этого нету, – говорит кто-то.
Программа? Откуда им известно это слово?! Это в программе, а это не в программе... Не выходите за рамки программы... Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца "Я памятник себе воздвиг...". Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил. Не делайте серьезных физиономий! А вам, чудаки, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь нам немного отпущено.
– Давайте дополним программу, а? – смеюсь я.
А они молчат.
– Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил...
Они молчат. И лица у них неподвижны. Но что-то все-таки теплится в глазах.
– Он был ханжа. Он думал, что он бессмертен, и не торопился...
– А что такое ханжа?
– Вера, неужели тебе не нравятся эти стихи?
Она торопливо проводит красными пальцами по отворотам пиджака, и с трудом поднимает голову, и смотрит на меня. Одно мгновение.
...Шулейкин говорит мне в учительской:
– Вы там, в классе, своевольничаете.
– Я хочу их разбудить...
– Скажите пожалуйста!
– Я хочу...
– А может быть, вам только кажется, что они спят?
...И снова:
Но пусть она вас больше не тревожит...
И красные пальцы замирают на груди. Теперь она смотрит в окно. Дрожат мохнатые ресницы.
Я не хочу печалить вас ничем.
А была ли счастлива та, кому посвящались эти стихи? Или она равнодушно тряхнула плечиком? Или словам нужно пожить и состариться, чтобы они приобрели смысл? Может быть, им стоило большого труда выкарабкаться из альбома и пойти по свету?
Снег идет.
– Зажгите лампу.
Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне... Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным.
Ты проговори, Маша Калашкина, эти слова своему лохматому трактористу, когда он поведет тебя в клуб... Вот уж он удивится! Ты даже покажешься ему чужой на мгновение. А ты не теряйся, Маша, ты говори их, говори... И вдохновение на твоем некрасивом лице будет ярче, чем самая дорогая корона на голове безобразной королевы... Ты говори, Маша...
Ты станешь стройным и прекрасным, Ваня Цыганков, когда ты проговоришь это, и твои рыжие лохмы покажутся золотыми, и веснушки будут светиться, и толстые губы приобретут изящество и строгость. Даже в старых своих валенках ты будешь поражать совершенством.
Я тоже меднолиц. Мы из одного племени. Вера Багреева сидит в конце класса за своей маленькой партой. Платок сполз с ее головы. И каштановые ее волосы обнажились. Даже отсюда видно, как огромны ее глаза. И в каждом – по огоньку лампы.
– Так нельзя вести себя с учениками, – сказал Шулейкин, – так нельзя. Нельзя с ними запанибрата. Скоро они вас на "ты" начнут...
– Не начнут.
– Это распускает, – сказал Виташа.
– Ученик должен знать свое место,– сказал Маракушев.
– О чем вы беспокоитесь?
– Так нельзя, – сказал Шулейкин. – Вы человек неопытный, а я знаю.
– Да вы не беспокойтесь...
– Так нельзя.
– Не беспокойтесь...
– Так нельзя.
– Да что я, маленький?
– Гы...гы...
...Снег идет. Плывут ко мне мои меднолицые ученики. Это последний урок. А по дороге домой будет пахнуть снегом. То, что полагается узнавать всю жизнь, за один урок не узнать. И за год не узнать. А школа холодна, как склеп...
– Что там случилось?
– Багреева плачет, – говорит кто-то.
– Что случилось? – спрашиваю я громче.
Я иду меж партами. Жалкий огонек лампы, словно пес, бежит за мной следом. Тени мечутся по стене. Багреева уронила голову на руки.
– Что случилось?
– Она не говорит...
– Верк, а Верк, – говорит Маша Калашкина, – да ты что?
– Может, у нее чего болит? – шепчет губами Цыганков.
– Влюбилась, – смеется Абношкин.
– Иди ты! – оборачивается к нему Маша.
Я учитель. Я педагог. Я старший. А она плачет, Вера Багреева. Трясутся ее плечи. Сильно плачет и молча.
– Что случилось?.. Ну что?..
– Можно, она домой пойдет? – спрашивает Маша.
– Проводи ее, – говорю я.
Вера, не поднимая головы, натягивает тулупчик.
– Застегнись! – кричу я вслед.
Свет лампы бежит за ними до самых дверей. Потом он медленно возвращается на свое место.
Снег идет. Желтые хлопья ударяются о черное стекло.
Я вас любил безмолвно, безнадежно...
Когда-нибудь вы поймете, черт вас возьми, что это всё значит. И я слышу голос Маракушева.
– Гы... гы... – говорит он.
Ему торопиться некуда. Он любит историю. В его громадном теле есть место для всей истории. Но я жалею его. Сам не знаю почему, но жалею. Мне жалко этого громоздкого испуганного историка.
– А если выгонят? – спрашивает он.
– Да за что же?..
– Гы...
– Не может этого быть.
– Ну, сократят.
– Другое место найдется...
– Адом?.. Гы...
У него две кельи. Это его дом. С видом на речку Серену. И громадная керосиновая лампа. И кадушка с солониной в сенях. И тощая, похожая на старую корову, истеричная жена. И трое детей.
– Чего жалеть об этом доме? Сырость, теснота...
– Гы... Две комнаты, а?
– Да лучше уж в какой-нибудь городишко. Там хоть свет есть, в кино сходить можно...
– Это-то всё верно... А у меня здесь поросенок...
– Мясо купить можно...
– А купилка?.. Гы... Я своего осенью под нож – всю зиму щи с мясом. И картофель свой...
Щи с мясом – это хорошо. А у меня в келье – кастрюля вареного картофеля, и ничего больше.
– А нельзя у вас сала немного раздобыть? – спрашиваю я. – Пока в город выберусь...
– Грамм пятьсот смогу, – говорит Николай Терентьич, – пятнадцать рублей. Сало розовое.
– Что?
– Розовое.
Снег идет. Плачет Багреева Вера. Школьный колокольчик раскалывается от усердия. Вот сейчас звон прекратится и трамвай тронется с места.








