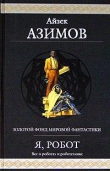Текст книги "Информаторы"
Автор книги: Брет Истон Эллис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
– Тебе чего, мужик? – спрашиваю я.
– Ищу кое-кого, – отвечает он, прибавив: – …мужик.
– Кое-кого тут нету, – говорю я и почти закрываю дверь. – Прием окончен.
– Отец, – говорит парень.
– Просто уходи, ладно?
Парень толкает дверь и проходит мимо меня.
– Ох, мужик, – говорю я, – какого черта тебе надо?
– Где Питер? – спрашивает он. – Я Питера ищу.
– Его… нету.
Парень озирается, все осматривает. Наконец прислоняется к спинке дивана и, оглядев меня, спрашивает:
– Ты какого рожна уставился?
– Я даже не особо рехнулся, – говорю я. – Просто очень устал. Просто хочу, чтобы все закончилось, потому что больше уже сил никаких нет.
– Скажи только, где, блядь, Питер, – просит этот пижон.
– Откуда мне, блядь, знать?
– Ну, отец, – смеется он, – ты лучше выясни. – Смотрит на меня, прибавляет: – Знаешь почему?
– Нет. Почему?
– Ты правда хочешь знать?
– Ну да, я же сказал – хочу знать почему. Давай, мужик, не говнись. Неделя была кошмарная. Мы можем подружиться, если…
– Я тебе скажу почему. – Он умолкает и театрально, тихим голосом, к которому я уже начинаю приспосабливаться, говорит: – Потому что он в полной, – пауза, – абсолютной, – еще пауза, – беспросветной жопе.
– Вот оно что, – роняю я.
– Да, правда, – говорит загорелый парень. – Sefior .
– Ага. Ну, я ему передам, что ты заходил и все такое. – Я открываю парню дверь, и он к ней подбирается. – И я, кстати, не мексиканец.
– Все очень просто, – говорит парень. – Я вернусь, и если у Питера этого нет, вы все – покойники. – Он долго смотрит на меня, этот парень, восемнадцать лет, девятнадцать, губы толстые, пустое красивое лицо, такое невнятное, что через пять минут я его не смогу вспомнить, не смогу Питеру описать.
– Ну да? – Я сглатываю, закрываю дверь. – И что ты сделаешь? Поджаришь нас до смерти на солнышке?
Он мило улыбается, и дверь хлопает.
Я не еду на автомойку, остаюсь дома, жду Питера с Мэри, я даже не знаю, появятся ли они, я даже не знаю, что такое «это», про которое говорил серфер, и я сижу на диване, пялюсь в окно, ни на что не глядя. Я и думать не могу о том, как Питер явился и все изгадил, – начать с того, что все и было изгажено, и не явись Питер на этой неделе, явился бы на следующей или через год, и как-то не верится, что есть разница, потому что всю дорогу знаешь, что это случится, и вот сидишь пялишься в окно, ждешь, когда вернутся Питер с Мэри и ты сможешь капитулировать.
Я рассказываю им, что приходил серфер. Питер кружит по комнате.
– Я сейчас, наверное, обосрусь.
– Я говорила, я говорила, – начинает бубнить Мэри.
– Соберитесь, – говорит нам Питер. – Мы отсюда выметаемся очень быстро.
Мэри плачет.
– Мне с собой брать нечего, – говорю я. Смотрю, как он нервно вышагивает по комнате. Мэри уходит в заднюю комнату, рушится на матрас, сует в рот пальцы, грызет их.
– Ты какого хрена делаешь? – орет Питер.
– Собираюсь, – всхлипывает она, корчась на матрасе.
Тут Питер подваливает ко мне, достает из заднего кармана пружинный нож, протягивает, и я спрашиваю:
– Отец, а это зачем?
– Пацан.
Про пацана я забыл. Смотрю на дверь ванной, устал кошмарно.
– Если мы оставим пацана, – говорит Питер, – кто-нибудь его найдет, он заговорит, и мы будем в жопе.
– Пусть от голода умрет, – шепчу я, пялясь на нож.
– Нет, мужик, нет. – И Питер сует его мне в руку.
Я стискиваю нож, и он со щелчком открывается. Злобный на вид, длинный, тяжелый.
– Он, блядь, острый такой, – говорю я, рассматривая лезвие, а потом смотрю на Питера, жду указаний, и он на меня смотрит.
– В том-то и штука, мужик, – говорит он. Не знаю, сколько мы так стоим, а потом я открываю рот, а Питер говорит:
– Ну, давай.
Я хватаю его, напрягаюсь, говорю:
– Но я, заметь, не возражаю.
Я иду к ванной, и Мэри меня видит, бежит, хромает ко мне, но Питер бьет ее пару раз, отбрасывает назад, и я вхожу в ванную.
Пацан бледен, хорошенький, на вид слабый, он видит нож, начинает плакать, ерзает, пытается бежать, я не хочу делать это при свете, поэтому выключаю свет, пытаюсь ударить пацана в темноте, но при мысли о том, что я его заколю в темноте, психую, включаю свет, встаю на колени, тычу носком ему в живот, но недостаточно сильно, тычу снова, сильнее, он выгибает спину, и я тычу опять, пытаюсь его зарезать, но пацан все выгибается кверху животом, будто его скрутило, и я все тычу ему в живот, а потом в грудь, только нож застревает в костях, а пацан не умирает, и я пытаюсь перерезать ему глотку, но он опускает подбородок, и в итоге я тычу ему в подбородок, разрезаю его и, наконец, хватаю пацана за волосы, оттягиваю голову назад, а он плачет, все выгибается, пытается выкрутиться, вся ванна заляпана кровью из неглубоких ран, а в гостиной орет Мэри, и я загоняю нож ему в глотку, вскрываю ее, и у него глаза расширяются – понял, – и мне в лицо бьет фонтанище горячей крови, я чувствую вкус, рукой вытираю глаза, в руке по-прежнему нож, а кровь вообще везде, и пацан еще долго шевелится, а я стою на коленях, весь в крови, кое-где лиловой, местами темнее, а пацан дергается тише, из гостиной уже ничего не слыхать, только кровь течет в сток, а позже приходит Питер, вытирает меня, шепчет: «Все нормально, мужик, едем в пустыню, мужик, все нормально, мужик, тш-ш», – и мы как-то попадаем в фургон и уезжаем из квартиры, из Ван-Найса, и мне нужно убедить Питера, что я в порядке.
Питер тормозит на стоянке «Тако-Белл» на пути из Долины, а Мэри остается в фургоне, потому что у нее конвульсии, и Питер уже охрип все время ей орать, чтоб заткнулась, а она катается по полу, как младенец, и царапает себе лицо.
– Распсиховалась, – говорит Питер и бьет ее пару раз, чтоб замолчала.
– Да уж вижу, – отвечаю я.
Мы сидим за столом под сломанным зонтиком, жара, спецовка у меня вся в крови, скрипит каждый раз, когда я двигаю рукой, встаю, сажусь.
– Ты что-нибудь чувствуешь? – спрашивает Питер.
– Например?
Питер смотрит на меня, что-то понимает, пожимает плечами.
– Не нужно было нам пацана кончать, – бормочу я.
– Нет. Тебе не нужно было, – отвечает Питер.
– Я слыхал, мужик, ты что-то плохое в пустыне натворил.
Питер ест буррито, говорит:
– Я так думаю, Лас-Вегас. – Пожимает плечами. – Что плохое?
Я разглядываю тако – его Питер принес.
– Тебя там никто не найдет, – говорит он с полным ртом.
– Ты что-то плохое там сделал, – говорю я. – Мне Мэри рассказала.
– Плохое? – Он смущен и не притворяется.
– Мне так Мэри сказала, мужик. – Я вздрагиваю.
– Дай определение «плохого». – Он слишком быстро доедает буррито, повторяет: – Вегас.
Я беру тако, собираюсь его съесть, но тут замечаю на руке кровь, кладу тако, вытираю, и Питер съедает часть моего тако, и я тоже немножко, он его доедает, мы садимся в фургон и едем в пустыню.
глава 12. На пляже
– Вообрази, что снится слепому, – говорит она. Я сижу подле нее на пляже в Малибу, и хотя уже тотально поздно, мы оба в темных очках, и хотя я валяюсь рядом с ней под солнцем на пляже с полудня (она сама тут с восьми), у меня все равно типа еще похмелье после вчерашней тусовки. Тусовку помню смутно – по-моему, в Санта-Монике, но может, и дальше, может, в Венеции. Единственное, что застряло в мозгу, – три канистры веселящего газа на веранде, как я сижу на полу под стереосистемой, играет «Ван Чун»[94]94
WangChung (1979—1991) – британское трио «новой волны», популярное в США. Состав: Дэр-рен Костин, Ник Фелдмен, Джек Хьюз.
[Закрыть], у меня в руках бутылка «Куэрво Голд», вокруг море загорелых волосатых ног, кто-то визжит: «Пошли в „Спаго“, пошли в „Спаго“», – нарочито высоким голосом, снова и снова.
Я вздыхаю, молчу, слегка вздрагиваю и переворачиваю кассету «Машинок». По кромке пляжа бредут Мона и Гриффин. В очках слишком темно. Снимаю. Оборачиваюсь к ней. Парик больше не съезжает – поправила, пока я с закрытыми глазами лежал. Перевожу взгляд на дом, снова на Мону с Гриффином, они вроде ближе, но может, и нет. Спорю с собой на десятку, что они сюда не пойдут. Она не шевелится.
– Боль не понять, не постигнуть, – говорит она, но губы еле движутся. Посмотри на пляж, на плывущий розовый закат. Попытайся вообразить, что снится слепому.
Впервые она сказала мне об этом на выпускном.
Мы пошли с ней и с Эндрю, который встречался с Моной, и у нас был странный такой водитель лимузина, похожий на Энтони Гири[95]95
Энтони Гири (р. 1947) – американский киноактер.
[Закрыть], а мы с Эндрю надели смокинги из проката, с чересчур большими бабочками, пришлось заехать в «Беверли-Центр» купить новые, у нас было граммов шесть, мы с Эндрю их зарядили, и пара коробок с «Джарум», а она казалась такой худой, когда я прикалывал букетик ей на платье, и ее костлявые руки дрожали, когда она цепляла розу мне на рукав. Под кайфом я заткнулся, не сказал, что розу в другое место надо цеплять. Бал устроили в отеле «Беверли-Хиллз». Я заигрывал с Моной. Эндрю заигрывал со мной. Мы заныкались в «Поло-холл», зарядили кокаин в уборной. На балу она ничего не сказала. Только потом, на вечеринке после бала, на яхте Майкла Лэндона[96]96
Майкл Лэндон (Юджин Морис Хоровиц, 1936—1991) – американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер. Его сын, Майкл Лэндон-младший, тоже стал киноактером, но сниматься начал лишь в конце 1980-х.
[Закрыть], когда кокаин уже кончился, а мы трахались внизу в каюте, она вырвалась, сказала, что вот такая проблема. Мы пошли на верхнюю палубу, я закурил сигарету с гвоздикой, а она больше ничего не говорила, а я не спрашивал, потому что вообще-то и знать не хотел. Утро было холодное, все казалось унылым и серым, и я вернулся домой на взводе, усталый и с пересохшим ртом.
Она просит – скорее, шепчет – вынуть «Машинок» и поставить Мадонну. Мы уже три недели ежедневно валяемся на пляже. Она только этого и хочет. Лежать на пляже, на солнце, перед домом матери. Мать на съемках в Италии, потом в Нью-Йорке, потом в Бербанке. Последние три недели я тусуюсь в Малибу с ней, Моной и кем-нибудь из Мониных приятелей. Сегодня это Гриффин, пляжный обормот с кучей денег, дружелюбный, у него гей-клуб в Западном Лос-Анджелесе. Мона и ее приятели тоже иногда тусуются с нами на пляже, только недолго. Меньше, чем она. «Но она ведь даже не загорает», – однажды ночью сказал я. Мона помахала ладошкой у меня перед носом, зажгла свечи, предложила погадать по руке, отрубилась. Часто она еще бледнее, когда я или Мона втираем масло для загара в ее тело, на вид уже тотально отощавшее – крошечное бикини висит, прикрывает молочную кожу. Она перестала брить ноги, потому что нет сил, а за нее это делать никто не согласен, и темная щетина слишком заметна, липнет к ногам, жирная от масла. «Она раньше была тотально хороша», – заорал я Моне в прошлое воскресенье, когда собирал манатки, готовясь отчалить. Высокая (она и сейчас высокая, только, скорее, высокий скелет) и светловолосая (когда стала разваливаться, по какой-то идиотской причине купила черный парик), и тело было гибкое, натренированное тщательно, продукт аэробики, а теперь она вообще-то выглядит как не пойми что. И все знают. Наш общий друг Дерф из Южнокалифорнийского приезжал в среду трахнуть Мону – он сказал мне, полируя доску для серфа, кивнув туда, где она одиноко лежит в той же позе под облачным небом, без всякого солнца:
– Выглядит она, отец, весьма хреново.
– Но она умирает, – сказал я, сообразив, о чем он.
– Ну да, но все равно хреново выглядит, – сказал Дерф, натирая доску, а я оглянулся на нее и кивнул.
Я машу Моне и Гриффину, они идут мимо нас к дому, потом смотрю на пачку «Бенсон-энд-Хеджес» с ментолом возле нее, рядом с пепельницей из «Ла Скала» и плеером. Узнав, она стала курить. Я лежу у нее на кровати, смотрю MTV или фильм какой, а она все прикуривает, пытается затянуться, давится или закрывает глаза. Порой у нее и это не выходит. Иногда она кладет сигарету в пепельницу, где уже пять-шесть забычкованных, невыкуренных сигарет, и прикуривает новую. Она не выносит этот запах, первую затяжку, прикуривание, но хочет курить. Мы бронируем столик в «Козырях», в «Плюще» или у «Мортона», и в итоге я неизбежно прошу: «Зал для курящих, пожалуйста», – а она говорит, что теперь без разницы, и оглядывается на меня, будто надеется, что я возражу, но я лишь говорю «да, круто, наверное». И она прикуривает, вдыхает, кашляет, закрывает глаза, отпивает диетической колы, которая греется у нее на туалетном столике («Все отлично, – стонет она, – чертов „Нутрасвит“»). Иногда она два часа кряду сидит и смотрит, как сигареты превращаются в пепел, а потом поджигает новую, все это меня как бы изводит, и я лишь смотрю, как она открывает новую пачку, и Мона смотрит, а порой она надевает темные очки, чтобы никто не видел, как она плакала, она говорит, что ее солнце нервирует, а ночью – что огни в доме и она поэтому надевает «уэйфэреры» или что у нее глаза слезятся от мерцания большого телика, который она все равно смотрит, но я знаю, что ее достало, она часто плачет.
Заняться нечем – лишь торчать на солнце, на пляже. Она молчит, еле шевелится. Хочется курить, но я не выношу ментол. Интересно, осталась ли у Моны шмаль. Солнце уже низко, океан темнеет. Как-то ночью на прошлой неделе, когда она лечилась в «Кедрах», мы с Моной поехали в «Беверли-Центр», посмотрели дрянной фильм, выпили замороженную «Маргариту» в «Хард-роке», а потом вернулись в Малибу, занимались сексом в гостиной и, по-моему, много часов разглядывали завитки пара над джакузи. Мимо скачет лошадь, кто-то машет, но солнце позади наездника, я щурюсь, пытаясь разглядеть, кто это, и все равно не вижу. Начинается основательная мигрень, и спасет меня только шмаль.
Я встаю.
– Пойду в дом. – Смотрю на нее сверху. Солнце тонет, отражается в ее очках, вспыхивает рыжим, гаснет. – Я, наверное, уеду сегодня, – говорю я. – В город вернусь.
Она не шевелится. Парик все равно не выглядит натурально, как поначалу, он и тогда казался пластиковым, тяжелым, слишком огромным.
– Хочешь чего-нибудь?
По-моему, она качает головой.
– Ладно, – говорю я и иду в дом.
На кухне Мона смотрит в окно, чистит бонг, наблюдает за Гриффином. Тот снял плавки и на веранде голышом моет ноги. Мона чувствует, что я вошел, – жалко, говорит, что ее не взбодрили суси на завтрак. Мона не знает, что она грезит о тающих скалах, о встрече с Гретом Кином[97]97
Грег Кин (р. 1952) – американский поп-рок-музыкант.
[Закрыть] в вестибюле «Шато-Мармон», о беседах с водой, прахом, воздухом под попурри «Орлов», оглушительное «Мирное чувство покоя»[98]98
Композиция Джека Темпчина, вошла в дебютный альбом группы.
[Закрыть], и брызги бирюзового напалма расцвечивают текст «Любишь ее до безумия»[99]99
Композиция группыTheDoors, вошла в альбом «Женщина из Л. А.» (1971).
[Закрыть], нацарапанный на бетонной стене, в гробнице.
– Ага. – Я открываю холодильник. – Жалко.
Мона вздыхает, чистит бонг дальше.
– А что, Гриффин всю «Корону» выпил? – спрашиваю я.
– Наверное, – шепчет она.
– Черт. – Я стою, смотрю в холодильник, изо рта – пар.
– Она правда больна, – говорит Мона.
– Да неужели? А меня правда обломали. Я хотел «Корону». Ужасно.
Входит Гриффин, вокруг талии обернуто полотенце.
– А на ужин что? – спрашивает он.
– Это ты всю «Корону» выпил? – спрашиваю я.
– Эй, отец. – Он садится за стол. – Полегче типа, расслабься.
– Мексиканское что-нибудь? – предлагает Мона, выключая кран. Все молчат.
Гриффин задумчиво мурлычет песенку, мокрые волосы зачесаны назад.
– Ты чего хочешь, Гриффин? – вздыхает она, вытирая руки. – Мексиканского хочешь, Гриффин?
Гриффин глядит испуганно.
– Мексиканского? Ага, детки. Сальсы? Чипсов? Мне – в самый раз.
Я открываю дверь, иду в патио.
– Отец, холодильник закрой, – говорит Гриффин.
– Сам закрой, – отвечаю я.
– Тебе дилер звонил, – говорит мне Мона.
Я киваю, оставляю холодильник как есть, спускаюсь по ступенькам на песок, думаю, где бы сейчас хотел оказаться. Мона идет за мной. Я останавливаюсь.
– Я сегодня отчалю, – говорю я. – И так слишком долго протусовался.
– Почему? – спрашивает Мона, глядя в сторону.
– Похоже на кино, которое я уже видел, и я знаю, что дальше будет. Чем все закончится.
Мона вздыхает.
– Тогда что ты тут делаешь?
– He знаю.
– Ты ее любишь?
– Нет, ну и что? Что это изменит? Если б любил – помогло бы?
– Просто все как-то побоку, – говорит Мона.
Я ухожу. Я знаю, что такое «исчез». Я знаю, что такое «умер». Пересиливаешь, расслабляешься, возвращаешься в город. Вот я смотрю на нее. По-прежнему играет Мадонна, но батарейки садятся, и голос вихляющий, далекий, диковатый, а она не шевелится, даже не показывает, что видит меня.
– Пойдем лучше, – говорю я. – Уже прилив.
– Я хочу остаться.
– Холодно ведь.
– Я хочу остаться, – говорит она, а потом, слабее: – Мне бы еще солнца.
Из кучки водорослей вылетает муха, садится на белое костлявое бедро. Она ее не сгоняет. Муха сидит.
– Да какое ж солнце, мать? – говорю я.
Я иду обратно. Ну и что, вполголоса бормочу я. Захочет – придет. Вообрази, что снится слепому. Я направляюсь в дом. Интересно, а Гриффин останется, а Мона заказала столик, а Движок перезвонит?
– Я знаю, что такое «мертвый», – шепчу я как можно тише, потому что звучит знамением.
глава 13. С Брюсом в зоопарке
Я сегодня в зоопарке с Брюсом, и сейчас мы разглядываем грязно-розовых фламинго – некоторые стоят на одной ноге под жарким ноябрьским солнцем. Вчера вечером я ехала мимо его дома в Студио-Сити и видела, как силуэт Грейс скользнул на фоне гигантского телеэкрана, что стоит наверху в спальне напротив футона. Брюсовой машины возле дома не было – понятия не имею, что это значит, потому что машины Грейс там не было тоже. Мы с Брюсом познакомились на студии, которой теперь рулит мой отец. Брюс пишет сценарии «Полиции Майами. Отдел нравов»[100]100
«Полиция Майами. Отдел нравов» (1984—1989) – американский полицейский телесериал с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях.
[Закрыть], а я – на пятом курсе Калифорнийского универа в Лос-Анджелесе. Вчера вечером Брюс должен был расстаться с Грейс, но сегодня, вот сейчас, совершенно ясно, что он не решился. Мы едем по холму в зоопарк почти молча, не считая новой сальса-группы в магнитофоне и Брюсовых замечаний в паузах между песнями насчет качества звука. Он старше меня на два года. Мне двадцать три.
Будний день, четверг, скоро полдень. Мы разглядываем фламинго, а мимо кривой колонной проходят школьники. Брюс безостановочно курит. У мексиканцев выходной – они пьют пиво из банок в бумажных пакетах, тормозят, пялятся, бормочут, пьяно хихикают, тычут в скамейки. Я притягиваю Брюса ближе и говорю, что не помешала бы диетическая кола.
– Спят, как женщины. – Это Брюс про фламинго. – Не могу объяснить.
Мимо идут буквально сотни первоклашек, парами. Я толкаю Брюса локтем, он отрывает взгляд от птиц, и я смеюсь – какая толпа детей. Брюсу неинтересно смотреть на смущенные, улыбчивые лица, и он кивает на указатель: НАПИТКИ.
Дети скрылись из виду, и зоопарк словно опустел. По пути к киоску с напитками я вижу только Брюса, впереди. Так пусто, что кого-нибудь убьют – никто не заметит. Брюс не из тех, с кем я обычно встречаюсь. Женат, невысок, когда я подхожу, платит за колу моей сдачей с автостоянки. Жалуется, что никак не найдем гиббонов, вроде гиббоны должны быть тут где-то. То есть про Грейс мы не говорим, но я надеюсь, что Брюс сделает мне сюрприз. Ничего не спрашиваю: он ужасно расстроен, что не нашел гиббонов. Дальше еще звери. Видимо, несчастные, одуревшие от жары пингвины. Крокодил неторопливо ползет к воде, огибая большое мертвое перекати-поле.
– Крокодил на тебя смотрит, детка, – говорит Брюс, прикуривая. – Крокодил думает: ням-ням.
– Могу поспорить, эти звери не сказать чтобы сильно счастливы, – говорю я, глядя, как белый медведь с голубыми пятнами хлора на шкуре ковыляет к мелкой луже и поддельному леднику.
– Ой да ладно, – возражает Брюс. – Разумеется, счастливы.
– С чего бы?
– А чего ты от них хочешь? Чтоб они бенгальские огни жгли? Чечетку плясали? Я сказал, что блузка тебе очень идет?
В воде цвета мочи плавает бочонок, и медведь в воду не идет, бродит вокруг. Брюс шагает дальше. Я за ним. Теперь он ищет снежного барса – один из первых пунктов в Брюсовом списке обязательной к просмотру живности. Мы находим вольер, где должны быть снежные барсы, но те прячутся. Брюс снова закуривает, смотрит на меня.
– Не переживай, – говорит он.
– Я не переживаю, – отвечаю я. – Тебе не жарко?
– Не-а. Пиджак льняной.
– А это кто? – Я смотрю на большую, странную на вид птицу. – Страус?
– Нет, – вздыхает Брюс. – Не знаю.
– Может… эму?
– Я их впервые вижу. Откуда мне знать?
У меня дергается глаз, я выкидываю остатки колы в ближайшую урну. Брюс возвращается к белым медведям, а я нахожу уборную. В уборной теплой водой споласкиваю лицо, давлю в себе панику. На унитазе сидит маленький мальчик, негритянка его держит, чтоб не провалился. Тут прохладнее, воздух сладкий, неприятный. Я быстро поправляю линзы и иду к Брюсу, а тот показывает мне громадный красный шрам с большими черными стежками у одного медведя на спине.
Брюс смотрит, как кенгуру тревожно скачет к служителю, но погладить себя не дает. Несмело тянет лапу и шипит – кошмарный для кенгуру звук, – а служитель хватает кенгуру за хвост и уволакивает. Другой кенгуру в ужасе наблюдает, забившись в угол, нервно чавкает бурыми листьями. Он визжит, скачет кругами, потом, резко дернувшись, замирает. Мы идем дальше.
Мне по-прежнему хочется пить, но все киоски закрыты, а питьевого фонтанчика я что-то не вижу. Последний раз мы с Брюсом виделись в понедельник. Он заехал за мной на зеленом «порше», мы отправились на студию на пробы новой подростковой секс-комедии, потом ужинать в Малибу, какой-то мекситекс. В ту ночь перед уходом он рассказывал, что собирается бросить Грейс, которая теперь – одна из любимейших молодых актрис моего отца и которую Брюс, как он утверждает, никогда по-настоящему не любил, но все равно год назад женился по причинам, «по сей день не выясненным». Я знаю, что от Грейс он не ушел, и на девяносто девять процентов уверена, что потом он мне все объяснит, но все-таки надеюсь, что он решился и поэтому так молчалив теперь, сделает мне сюрприз потом, после обеда. Курит сигарету за сигаретой.
Брюсу двадцать пять, но выглядит он моложе – мальчишеский рост, безупречное лицо без малейших волос или щетины, волосы густые, светлый модный ежик, а из-за наркотиков Брюс худее, чем должен быть, но красив, и в нем есть достоинство, какого у большинства известных мне мужчин нет и не будет. Брюс исчезает впереди. Я иду за ним – теперь в абсолютно иной мир: кактус, слоны, еще какие-то странные птицы, громадные рептилии, камни, Африка. У нас за спиной бесцельно ошиваются мальчишки-латиноамериканцы, школу прогуливают, а может, и нет, я смотрю на часы и вижу, что лекцию в час пропущу.
Мы познакомились на студии, на отходном банкете. Брюс подрулил ко мне, вручил стакан льда и сказал: «Вы похожи на Настасью Кински[101]101
Настасья Кински (р. 1959) – американская киноактриса, дочь Клауса Кински.
[Закрыть]». Я потеряла дар речи и девять секунд сосредоточенно расшифровывала этот жест. После трех недель романа я выяснила, что он женат, и ужасно корила себя целый вечер и всю ночь, после того как он в пятницу сказал мне об этом в «Козырях», а на выходные собирался лететь во Флориду. Я не распознала симптомов романа с женатым мужчиной, потому что в Лос-Анджелесе таких вообще-то нет. Узнав, я все поняла, все встало на свои места, но к тому времени уже было «слишком поздно». Горилла валяется на спине, играет веткой. Мы стоим далеко, но вонь доносится. Брюс идет к носорогу.
– Им тут нравится, – говорит он, разглядывая носорога. Тот недвижно лежит на боку и, я почти уверена, уже помер. – С чего бы им не нравилось?
– Их поймали, – говорю я. – В клетку посадили.
Возле жирафов, закуривая очередную сигарету, сострив насчет Майкла Джексона, Брюс говорит:
– Не уходи от меня.
Он это говорил, когда британский «Вог» по протекции моей мачехи предложил мне до идиотизма хорошо оплачиваемую работу, которую я была не в состоянии выполнить, но, как я теперь понимаю, следовало согласиться, а потом Брюс опять это сказал, улетая на выходные во Флориду, сказал: «Не уходи от меня», – а если бы не попросил, я бы ушла, но поскольку он попросил, я осталась, оба раза.
– Ну-у, – шепчу я и осторожно тру глаз.
Все звери кажутся мне грустными, особенно обезьяны, они уныло слоняются туда-сюда, и Брюс сравнивает гориллу с Патти Лабелль[102]102
Патти Лабелль (Патрисия Холт, р. 1944) – американская соул-певица и киноактриса.
[Закрыть], и мы находим еще один киоск. Я плачу за гамбургер Брюса, потому что налички он с собой не носит. В зоопарк мы попали по членской карточке Брюсова друга. Я спросила, кому нужно членство в зоопарке, но Брюс меня заткнул нежным поцелуем, касанием, легко сжал шею сзади, протянул мне «мальборо-лайтс». Брюс отдает мне чек. Я сую чек в карман. За соседним столиком сидят молодожены с младенцем. Эта пара меня нервирует – мои родители никогда не водили меня в зоопарк. Ребенок хватает картошку-фри. Я содрогаюсь.
Брюс выуживает из гамбургера мясо, съедает, а к хлебу не притрагивается, потому что, говорит, «мне это вредно». Брюс никогда не завтракает, даже в те дни, когда замучен, теперь он голоден и шумно, благодарно жует. Я ковыряю луковое кольцо, хмыкаю про себя, сегодня он про нас говорить не будет. В уме проносится, замирает, плавится мысль: нет никакого развода с Грейс.
– Пойдем, – говорю я. – Еще зверей посмотрим.
– Расслабься, – отвечает он.
Мы идет мимо бессмысленно гордых лам, мимо тигра, которого не видно, вроде как побитого слона. Вот табличка на клетке какого-то «бонго»: «Их редко видят, поскольку они крайне застенчивы, а отметины на боках и спине позволяют им сливаться с тенями». Бабуины вышагивают, прямо натуральные мачо, бесстыдно чешутся. Самки умилительно перебирают самцам мех, чистят их.
– Что мы тут делаем? – спрашиваю я. – Брюс?
В какой-то момент Брюс говорит:
– Ну что, дальше некуда?
Я кого-то разглядываю – по-моему, страусов.
– Не знаю, – говорю я. – Да.
– Нет, еще нет, – отзывается он и идет дальше.
Я иду следом. Он останавливается, смотрит на зебру.
– «Зебра – поистине величественное животное», – читает он табличку возле карты ареала обитания.
– На вид весьма… мелроузская, – говорю я.
– Похоже, эпитет тебя бежит, детка, – отвечает он.
Внезапно возле меня появляется ребенок, машет зебре.
– Брюс, – говорю я. – Ты ей сказал?
Мы идем к скамейке. Небо затянуло, но по-прежнему жарко, ветрено, а Брюс курит очередную сигарету и молчит.
– Поговори со мной. – Я хватаю его за руки, сжимаю, но они лежат у него на коленях – немощные, безжизненные.
– Почему у одних зверей большие клетки, а у других нет? – удивляется он.
– Брюс. Прошу тебя. – Я начинаю плакать. Скамейка вдруг превращается в центр вселенной.
– Звери напоминают мне о вещах, которых не объяснишь, – говорит он.
– Брюс, – всхлипываю я.
Я быстро подношу ладонь к его лицу, касаюсь щеки, прижимаю.
Он берет мою руку, отодвигает от себя, кладет между нами на скамейке и торопливо произносит:
– Слушай. Меня зовут Йокнор, я с планеты Араханоид, это в галактике, которую Земля еще не открыла и, наверное, не откроет. Я жил на твоей планете четыреста тысяч лет по местному времени, меня послали сюда собрать психологические данные, чтобы однажды мы могли завоевать вас и уничтожить все существующие галактики, включая вашу. Кошмарный будет месяц, потому что мы станем уничтожать Землю постепенно, грядет страдание и боль такого масштаба, что ваше сознание никогда их не постигнет. Но ты сама так не погибнешь, потому что все произойдет в двадцать четвертом столетии, а ты умрешь гораздо раньше. Я понимаю, тебе трудно в это поверить, но я в кои-то веки говорю правду. Больше мы это обсуждать не будем.
Он целует мне руку, снова смотрит на зебру и на ребенка в футболке с надписью «КАЛИФОРНИЯ» – тот все стоит и машет.
На обратном пути мы находим гиббонов. Будто они появились из ниоткуда, исключительно для Брюса. Я раньше гиббонов не видела и не очень-то жажду увидеть сейчас, так что зрелище не слишком поучительное. Сижу на скамейке, жду Брюса, солнце жжет сквозь дымку, рвет ее, выкручивает, и до меня доходит, что, может, Брюс и не уйдет от Грейс, а еще – что я могу в кого-нибудь влюбиться и даже уйти из колледжа, поехать в Англию или хоть на Восточное побережье. Куча вещей способна отдалить меня от Брюса. И если вдуматься, велик шанс, что какая-нибудь сработает. Но ничего не поделаешь, думаю я, когда мы уходим из зоопарка, возвращаемся к моему красному «БМВ» и Брюс заводит мотор, – в этого человека я верю.







![Книга Солли [Салли] автора Айзек Азимов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-solli-salli-3685.jpg)