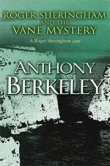Текст книги "Клипп"
Автор книги: Борис Крылов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Послушай! Неужели он мог это петь? – спросил я.
– Конечно. Он мог петь все.
"Разноцветной осенью я вхожу в лес.
...пытаюсь прикрепить их
Обратно к древу жизни:
Не получается они так и лежат
На земле – мертвые, но прекрасные".
– Он и это мог петь? Белые стихи под белую музыку?
Вейн кивнул.
– Ты идешь? – повторил Молчун.
– А... да, – и, толкнув дверцу, спросил: – Что с ним произошло?
– Он ушел.
– А когда он вернется, я встречусь с ним?
– Невозможно, – ответил Вейн, – он не вернется.
– Когда человек уходит туда, откуда не возвращаются... Что с ним случилось? Утонул? Разбился? Виски? Наркотики? мне было противно "давить" на Молчуна, но еще противней выглядеть полным идиотом. Прикидываться дурачком – одно, выглядеть – совсем другое, по крайней мере для меня. Люблю дурачить, но не терплю, когда дурачат, выставляют д...
– Ничего не случилось. Он просто-напросто ушел, – Вейн попытался выйти из машины, но я придержал его за локоть. Наши глаза встретились– мои вопрошающие, его прячущие – и я понял, что из Молчуна больше не иытянешь ни слива. Я отпустил локоть – Вейн резво выскочил на воздух. Еще одно ладно. Ладно, решил я, пусть Тилл У. ушел, если вам так хочется...
"Когда ты рядом – я жив.
Ты в сторону делаешь шаг – я мертв.
Обними меня, прижмись ко мне,
Мы ощутим дыхание жизни, любви..."
Опять знакомые слова. Не узнаешь, писатель? Память подводит. Как объяснить себе? Очень просто: мы все существа единого племени, наши чувства универсальны, наши стихи моноязычны. И все же...
– Эй, друг детства! – крикнул я. – Уважаемый мистер Вейн! Скажите, к чему вы меня стараетесь подготовить? К краю какой пропасти подталкиваете?
Но мистер Молчун, вместо ответа:
"... засунул руки в карманы и, неестественно выворачивая, с виду нормальные, не кривые ноги, поплюхал к служебному входу. Несмотря на внешнюю смехотворность походки, двигался он эффектно, а главное – эффективно. Я едва поспевал за ним. Стеклянная дверь с табличкой "Но! Стоп! Не входить!" оказалась ложным препятствием: мы играючи проникли внутрь вспотевшего от тумана здания, составленного, как из кубиков, из красных шершавых монолитных плит. Вейн кивнул дядьке, проснувшемуся от хлесткого дверного хлопка: швейцар открыл глаза, ущипнул козырек фуражки, дремавшей на его коленях, узнал Вейна, благожелательно прососал приветствие сквозь вставную челюсть и морщинисто растекся улыбкой. Левую ногу дядька хранил под стулом, а правая, тесьма на циркуле, упиралась в пол. Она-то и скакнула но паркету, вслед за Вейном, решив прошвырнуться. Дядька удивленно посмотрел на ногу, на меня, сообразил, что я тут ни при чем, мелко улыбнулся и тотчас же захрапел, оставив ногу пастись за пределами стула..."
Символы в стиле Тарковского.
"...Вейн, прошмыгнув по коридору, скрылся в тени зауголья – послышалось быстрое двойное простукивание каблуков о листовое железо. Я помчался за ним вслед, по винтовой лестнице: три шурупных круга по желобу каменного цилиндра. И скатился в затемненный Зал Воспоминаний..."
"...Откроет перед вами Золотые Ворота..."
"Золотые ворота" расступились, впустили меня в Зал Славы "Континуума": на полу и вдоль стен – стояли, лежали, сидели, улыбались, гримасничали, Паясничали, сердились хорошо знакомые мне лица – мои друзья – на бесчисленных фотографиях, рекламах, портретах, афишах... Сколько ж вас тут? Если поименно – раз, два, три, четыре, пять. Как в детской считалочке – все здесь.
Вот опьяненный успехом Боб "Киндер" – розовощекий гигант, одна из первых фотографий с безобразно пошлой надписью "Викинг и Его Любимая", имеется в виду гитара.
Стае – невысокого роста, с блестящим ежиком черных волос. Любитель раздавать интервью, в которых всегда величал себя "перкуссионистом". Политической окраски его бесед с журналистами не касаюсь. Профессиональная пригодность – мастер экстракласса. Я всегда поражался, как он, миниатюрный мужчинка, справлялся с диким набором барабанов и барабанчиков, тарелок и тарелочек.
А вот "Квант" Любен: тонкие черты лица, изысканно-артистические длинные пальцы пианиста и инженера. Четыре синтезатора изготовлены по его чертежам и при непосредственном участии. Но его хобби – играть на концертном фоно.
Мужская половина группы составляла блеклый фон фотографиям Сибиллы – объемность и многоликость которой превосходили все мыслимые и немыслимые ожидания: "Сиби в комбинезоне", "Сиби в концертном мини", если эту тряпочку можно условно назвать платьем. "Сиби на лоне природы". "Сиби на пляже" полуобнаженный вариант, "Сиби под водопадом" – вариант обнаженный. Надо отдать Сибилле должное, она любила и умела фотографироваться, как и раздеваться, что проделывала по любому поводу, как и без повода. После концертов со стриптизом. Боб "подвергал артистку насильственной дисквалификации". Сиби клялась, что это в последний раз, но не раздеваться не могла.
Лишь с одной фотографии на меня смотрел Вейн: он откинулся в глубину малиново-бархатного кресла, на спинку которого облокотилась все та же Сибилла, затянутая в глухое вечернее ретро-платье, как рыбка в блестящую чешую.
Я вертел головой, внимательно осматривая Зал Воспоминаний, но не находил... А на одном из щитов увидел фотографию, которой здесь было не место. Я все больше склонялся к мысли, что, вернувшись с Южного полюса, смотрю на быстротекущие секунды сквозь стойкий туман глаз. Стойкий и -плотный настолько, что его начинаешь воспринимать, как реальность, хотя она есть лишь жизнь сквозь матовое стекло...
– Эй, мистер журналист! – позвал Вейн от противоположной стены, чистой от фотографий. Он держался за прямоугольник двери.
– Иду, – ответил я и спросил: – Не вижу Его фотографии?
– Чьей фотографии? – поинтересовался Вейн.
– Тилла У.
– Ты никогда не видел Его... на сцене! – настойчиво произнес Вейн.
– Э-э, нет, я видел фотографию в Книге, на титульном листе.
– Это не его фотография! – злобно фыркнул Молчун.
– Как так?! Книга, значит, Его, а фотография? Постороннего человека? Может, моя?
– А знаешь, – Вейн задумался, склонил голову на бок, рассматривая меня внимательно, сравнивая, оценивая, как вещь, – ведь вы чем-то похожи... – и, без дополнительных комментариев, бросив одного, обалдевшего от "Откровения Молчуна №...", скрылся в тишине следующего Зала.
Сюжет закручивался спиралью: чья фотография в Его Книге? Может, перерожденца-послесловца? Ну, нет! Ту рожу я запомнил на всю оставшуюся жизнь: ехидная улыбка и прищур профессионального пакостника. Преувеличиваю? Свожу личные счеты? Ни на столько! Он всегда пользовался поддержкой великосветских карманов, окружавших трон, он имел такое право – выражать их дорогое мнение. Года три назад, исключительно с его подачи, в мусор полетели серии очерков молодых журналистов. Мотивировки? В статьях, якобы, искажались факты! Его подвал так и назывался: "Клевета на сверстников". Помню текст наизусть, потому цитирую: "... молодые неучи, псевдожурналисты, филонщики ратного труда, возомнившие, что им дозволено все... журналисты-извращенцы, превратившие сиюминутные временные трудности в сточную канаву своих амбициозных вывертов..." И далее в том we духе. Ни одной ссылки, только брань и восхваление себе подобных. И это об очерках о наркомании, проституции, об интервью с лидерами ультра-правых группировок, безработными. Да, интервью анонимные, но как иначе можно было их заполучить? Еще – статьи о молодежи, о том, как жить дальше, в какую сторону двигаться. Ведь именно молодежи решать – как! И направление выбирать – самим! А не следовать ложному курсу Онсвинов.
Уволили почти всех. Остальных разогнали. Сознаюсь, что я в той бойне не участвовал, о чем сожалею. Хотя, такие сожаления ничего не стоят, их и за бесплатно брать отказываются.
У меня хоть душа болит, а этот – ... м... оый (грубое антарктическое ругательство) – готовит предисловие к сборнику молодого автора: певца и поэта, но вклеивает чужие фотографии! Тьфу!
Успокойся, все в прошлом, сказал я себе, хватит мусолить в душе то, что нельзя изменить.
Я прошел сквозь открытую дверь в будущее, ставшее тут же настоящим, оставив за спиной, в прошлом, выставку-нераспродажу портретов "Континуума".
В отличие от предыдущего, переполненного, зал-близнец, в который приглашал меня Вейн, выглядел голым: блеклые стены, обшарпанные полы, минимум мебели. На подсценке, в противоположном углу, торчала стойка с барабанами. Чуть поодаль грустило фоно. Возле инструмента, на полу, теребя палочки, по-турецки сложился Стае. Справа, у стены, за круглым одноного-четырехпалым столом сидели Боб и Любен.
– Ура! Нас посетил Владислав В. младший, прессфлюгер! вскочил-набросился "Квант". Он жутко любил шутки и розыгрыши, за что неоднократно был бит, но – не унимался; подошел ко мне, хитро улыбаясь, крепко обнял, спросил:
– Подсаживайтесь к нам, специалист по отлову гусей с самопишущими перьями...
Я улыбнулся и прошептал: "А иди-ка-ты-на...". "Квант" растянул рот до ушей, так уж ему нравились подобные ответы...
– Ну что, беглец? – продолжал Любен, усаживая меня. – Получил заряд бодрости? Насытился свежеморожеными впечатлениями? Теперь, наверное, со стихами покончено засядешь за беллетристику? Или продолжишь писать пародии?
– Фельетоны, – поправил я, – ты же знаешь, на АМС-4 меня направила редакция...
– Ах, вот так! – воскликнул "Квант", – понимаешь, Влад, мы за этот год немного свихнулись, все, я в том числе. Сумасшедшая жизнь, суета, беготня, в голове все смешалось и перепуталось... Так что я хотел спросить: продолжишь писать фельетоны?
– Нет, – ответил я, вспоминая свою первую и единственную попытку... Даже внешность главного героя я пейзажно срисовал с Мэтра Города, отца Милены. Да так реалистично, так красочно, что расплата не заставила себя ждать: разговор с Прр-фи Нцессой закончился некрасивой ссорой и полным разрывом... На следующий день, в редакции, мне предложили отправиться на Четвертую Международную, на свежем морозном воздухе подправить отдельные болезненные черты характера.
– Ну-ну, мы понимаем, – закивал "Квант".
– Понимаем, да, и все помним, – подмигнул Боб.
– Ладно, Влад, не дуйся, ты же их знаешь, – это Стае, с заткнутыми за ремень палочками, подошел ко мне, крепко пожал руку, – все бы этим пошлякам лыбиться.
– Я вас па-пра-сю, – выпятился Любен, – мы не есть по-шля-ки, мы есть истинные правдолюбцы. Наш принцип существования – Истина. Она матери родной дороже, яволь? – и заржал во все горло.
Вейн пододвинул стулья, мы, все пятеро, расселись вокруг стола, тихо помянули Старые Добрые Времена...
Но меня интересовало Время Настоящее: я выждал с десяток поминальных минут, достал-положил на стол, раскрыл Его Книгу.
– Ребята, сознайтесь, чья это фотография?
– Я же просил, – вспыхнул Вейн, задетый моим вопросом, как затухающий костер порывом ветра. Он хватил кулаком по столу: – Я же тебе сказал – это не Он!
– Не кипятись, Молчун, – исподлобья посоветовал "Киндер".
Вейн хрюкнул, запихивая слова обратно внутрь себя: он ничего больше не сказал, так уважительно относился к мнению Боба. Но кулак Вейна, замерший на столе, еще сопротивлялся, сжимаясь, пульсируя – белое-красное-белое. Но и он согласился с "Киндером", расправился, потянулся и лег на ладонь, вниз лицом.
– Сходство несомненно, – сказал Стае, поднимая глаза от стола; тихо сказал и грустно: – Но Тилл У. никогда не отпускал бороду...
– Ты что, приятель! – помятым голосом возразил "Квант", Барабанов объелся? Светлая аккуратная бородка...
– Не кипятись, – исподлобья повторил Боб, но воспоминаниями не поделился: не решился или не пожелал?
Вейн торопливо зажал ладонями уши, что-то наговаривая внутрь себя, как молитву. Любен насупился. Стас отвернулся.
Что они разыгрывают передо мной? Комедию или драму? Ребята надолго замолчали, еще больше подтверждая мои сомнения. Сомнения? Скорее неясные предчувствия...
– А как дела у Сиби? – спросил я, сворачивая в сторону; информация о внешности Тилла У. – табу. Я уже понял.
– Чево? – не расслышал Боб.
Первым засмеялся Стас, глядя как "Квант" иллюстрирует Бобу мой вопрос, вычерчивая в воздухе силуэт незаостренного перевернутого сердечка, размером с тыкву, пронзенного восклицательным знаком.
– Сибилла?.. – догадался Боб, оставаясь серьезным, пролонгируя наш смех, – ... она... она обещала быть... – и, подмигнув мне, заулыбался, выкрикнул: – Ах ты... Антарктический Сердцеед!
Ребята нахохотались от пуза – ситуация, как полюса магнита, переменила знак на плюс. Даже Молчун оттаял: откинув со лба волосы, он вытер капли пота, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки...
Желание писать длинно и нудно пропало, растворилось в непринужденной веселости друзей. Как и болезненная тяга к неясным воспоминаниям. Хотелось жить, петь про день сегодняшний, про друзей, которые рады моему возвращению.
"Освобождение Души из Пут
оков сиюминутных..."
Еще один штрих и я заканчиваю:
– "... оторвавшись от белой холодной травы Южного полюса, приплюсовав многочисленные задержки, самолет-таки одолел воздушную трассу от Кейптауна до Триполи. В промежутках между импотентными попытками приподнять и перебросить железную птицу из одного часового пояса в другой, мы все – пассажиры и экипаж – просиживали штаны, просаживали остатки наличности в барах аэровокзалов – ко-фе-ко-фе-ко-феко... Надежды на скорую встречу с родной землей постепенно угасли, но уговор "не прикладываться" мы не нарушили: домой надо въезжать на коне, а не под конем. В пассиве – девяносто чашек кофе, в активе – девяносто потерянных часов и монет. Таков итог перелета. Плюс усталость и головная боль".
Вот и все.
Вместо многоточий ставлю одну, большую и толстую точку. ТОЧКА.
Часы на запястье Любена исполнили "Танец с саблями" – девять утра. "Квант" долго-любовно прослушивал точность воспроизводимых звуков – игрушки-тикалки он собирал своими руками – после чего поднялся, обошел стол и нажал кнопку подъемника, спрятавшуюся в стене. Мотор заурчал, втягивая в себя канаты, замер: Любен распахнул дверцу, выкатил трехъярусный стол-раздвижку, перегруженный яствами. На верхнем этаже, в дополнение к снеди, возвышался кувшин с розами.
...мы резко повернулись на скрип – дверь, молчавшая в руках Вейна, как и в моих, – пропустила Сибиллу, обтянутую чем-то блестящим; одинокий скрип – все внимание приковано к "Киске". И не напрасно: фигура Сиби за последний год обострилась до стандартов восковых музеев – аж дыханье перехватило, когда я вспомнил, что сжимал это чудо природы в своих объятиях... Да, снять бы с нее... гипсовый оттиск, изготовить тысячи литформ и заливать в них малоудавшиеся экземпляры – недовольство и неудовлетворенность в стане мужчин исчезнут, мир переродится, женщины за сутки соблазнят всех нас, включая политиков и любителей пострелять из пушек, и наступит на Земле Золотой Век – Век Любви. Что гораздо интереснее нынешнего перебрасывания взаимными угрозами, вызванного эпидемией сексопатологий. Лично я обязуюсь помочь даже Тому Самому Онсвину – имею знакомства, как в среде хирургов-практиков, так и в обезъяннике – подошьют по первому разряду...
"Здравствуй, Сиби..." – прошептал я.
"Женская интуиция, никогда не подводившая Сиби, сработала и на сей раз – "Киска" запустила в букет лакированные пальчики, вытянула записку. Отдав ее Бобу, она прожурчала один общий "привет", подошла ко мне и поцеловала в щеку так, так... как будто мы расстались только вчера.
– Разверни, – воскликнула она, обращаясь к Бобу. Он немо покачал головой, отказываясь, вернул Сибилле голубой листок, сложенный вчетверо. "Киска" развернула записку, пробежалась по ней глазами, хихикнула:
– Поздравляю, мальчики подземелья! Вам признается в вечной любви Кулинарная Элита города. И желает успешного выступления на Фестивале!
– А? Что? – засуетился я, сердце екнуло, но! Ушки навогтрил. – Фестиваль? Будете выступать? Что ж вы молчали?!
– Да, – Сиби хитро подмигнула мне, – сегодня в двадцать ноль ноль открывается первый Фестиваль "Живой" Музыки. А завтра, – она ткнула мне в грудь длинным блестящим коготком, – у Вас концерт.
– У н-нэ-на... вас? – сглотнул я, подозревая неладное.
– Боб, Стас... ничего еще не рассказали ему? – Сибилла задергала головой; впервые за долгие годы, если не за всю жизнь, ее мордашка выражала растерянность и недоумение.
– Объясните?! – гаркнул я, промычал нечто нечленораздельное, повторил: – Объясните?! – и хлопнул ладонью по столу.
– Сколько натикало? – спросил Боб.
– Семь минут десятого, – выдавил Вейн, сквозь сомкнутый барьер зубов, вытащил из нагрудного кармана крохотный транзистор... очень он напоминал плейер... я вспомнил ангельски нежное бедро стюардессы – условия загадочной игры мне начали нашептывать еще в воздухе, но!, в соседстве с облаками, я не догадался, что часы пущены – партия "на бильярде" состоится в любую погоду, а мяч покатится, как под гору, в одни ворота – мои.
Резко сменился ритм жизни: еще вчера событиями управлял я, как мне казалось. А сегодня они – события – повели меня, хладнокровно заламывая руки и толкая в спину.
– ... пип-пип... назад мы связались с руководителем "Континуума", Бобом "Киндером", и он... подтвердил, что завтра вечером состоится первый из трех запланированных концерт, входящий в программу Фестиваля. Знакомый вам, дорогие слушатели, автор стихов и... пип-пип... Владислав В. примет в нем участие, и... пип-пип...
Вейн выключил приемник – в подвальном помещении, под тоннами бетона, мрамора и стекла, голос диктора существовал, как наслоение помех... Но то, что я все же услышал... Похожее чувство я испытывал дважды: в далекой Антарктиде, когда мы с Василием провалились в расщелину, нас обнаружили через несколько часов. Первый раз – в детстве, когда меня застукали за...
– Да вы что, ребята! – взвился я. – Моя скромная сиротская персона не может иметь к концерту никакого отношения!
– Ошибаешься! – ответил Стае, указывая на меня барабанной палочкой. – Ты! Только ты можешь продолжить Его Дело!
– Какое дело? Каким образом? Я и петь-то толком не умею! Лишь для вас, под застолье...
– И на потребу элите, этому жирному борову... – прошипел Вейн.
– И дочери его Милены... – зевнула "Киска".
– Что ты споришь... остолбенело произнес Боб, – ведь мы вчера обо всем с тобой договорились...
– Мы с тобой? Это значит – ты и я?
– Да, – уверенно кивнул Боб.
Я сдвинулся на краешек стула: если услышанное и увиденное сейчас – сон – надо бежать. Если явь – придется бежать еще быстрее.
– Он ничего не помнит... – Боб развел руками – приехали...
– Сидеть, – прорычал Вейн, он лучше всех знал меня, потому рассек мои пораженческие настроения, – никто не собирается тебя насиловать! Мог бы догадаться, почему Боб подтвердил твое участие лишь сегодня утром.
Я промолчал, пожав плечами – откуда мне знать?
– А потому, – последовало объяснение от "Киндера", – что я вчера убедился – ты можешь заменить Его! Иначе – никаких концертов, никакой халтуры! Ты – тот, кого мы искали.
Боб подтасовывал факты, в чем я не сомневался, но что толку спорить: я неплохо помню лишь первую бутылку ликера. Что за ней последовало? И все же:
– Почему я?! – мне не нравилось, что они так уверенно, но бездоказательно обрабатывают меня. – Каждый из вас поет лучше!
– Только ты... – набычился Вейн. – Не в том суть.
– А в чем? Почему увиливаете: боитесь, не хотите? – я пытался расшевелить их, вызвать бурную ответную реакцию. Самое время разобраться, что они задумали со мной сотворить.
– Да мы хотим... – ответил "Квати", раскачиваясь на стуле, – но не можем, как в том анекдоте... – и скис.
– А я могу?
– А ты можешь... – ласково прошептала "Киска", нагнулась, обняла меня за шею, прижалась щекой к щеке, – ты сможешь еще лучше, Влад, если захочешь, если очень захочешь...
Вкрадчивый голос Сибиллы призывал к подчинению, поклонению, боготворению и еще-еще-еще чему-то. Я подчинился прикосновению ее тонких длинных пальцев, тело ослабло, но мозг сопротивлялся, противопоставляя себя безвольной биомассе.
– Не понимаю! Ничего не понимаю! – вырвался мозг. – Я не видел Тилла У., никогда не слышал Его "живьем"! О какой замене может идти речь?! Сиби, объясни хоть ты, как он выглядел?
– Опять он за свое! – рассвирепел Вейн.
Сибилла посмотрела на Молчуна, взмахнула рукой, что-то прошептала, как настоящая колдунья, – Вейн и впрямь успокоился, сжал рот, став молчуном.
– Он ушел от нас, мягко растягивая слова, объясняла Сиби, – высокий, мускулистый, с черным ежиком волос, как у Стаса. Однажды, пасмурным утром, когда Его позвали в путь другие дела, Тилл У. встал и вышел, вот и все...
– С черным ежиком волос? – я вернул разговор к Его внешности, – и с бородкой?
– Ошибаешься, Влад, – урчала и мурлыкала "Киска", – не терплю бородатых мужчин, разве не помнишь?
Нет, Сиби, помню, я все помню: и, на один бесконечный миг, мы слились с "Киской" в наших – только наших – воспоминаниях...
– Вот посмотри, – сказал Боб и достал из сумки небольшой металлический диск, положил передо мной.
– Что это? – ужаснулся я.
– Душепоглотитель! – воскликнула Сибилла.
– Все ясно, – кивнул я.
Вейн сердито кашлянул: Сиби явно сказала лишнее. Боб торопливо принялся объяснять мне, разгоняя грозовые тучи, пририсованные на безоблачном небе. Он говорил, улыбаясь после каждого слова:
– Это усилитель. Изобретение. Вернее, модификация Тилла У. Диск усиливает чувства человека. Особенно крик Души. Боль не жмется внутри. А вырывается наружу. Когда ты поешь, ты вкладываешь в слова не только мощь легких. Ты вкладываешь частицу себя. Диск позволяет тысячекратно усилить мысли и чувства. До уровня, когда они способны пропитывать слушателей. Но! Тысячекратно усиливая, диск высасывает живую энергию из твоего тела. Отсюда и словосочетание – "живая музыка". Диск высасывает из тебя силы, но наполняет удовлетворением. Это не домыслы. Так нам рассказывал Тилл У. Ребята могут подтвердить.
– Зачем? Я верю тебе.
– Что это за слово – удовлетворение? – включился в разговор Любен, его распирало желание "поделиться" со мной. – Как будто речь идет о женщине! Удовлетворение мгновенно и статично. Но! Как рассказать Владу о том, что творилось в Зале во время концертов? Помните? Ведь и мы все, каждый из нас, поочереди, спускались в Зал, наполненный Его "Живым" голосом, пропущенным через усилитель. Я иногда наблюдал за зрителями. Тилл У. мог делать с людьми буквально все – внушать любые мысли, чувства. И он пел! Он пел лишь о том, что волновало Его: Войне и Мире, Добре и Зле, Любви и Ненависти, Бедности и Богатстве. О том, что принято стыдливо обходить, ссылаясь на банальность...
– Кстати, – спросил Стае. – Ты прочел Его Книгу?
Я пожал плечами: что можно ответить? И да и нет.
– Мы, наверное, ошиблись, вот так, напрямик, подсунув Его Книгу, ничего не рассказав, – вздохнул Боб. – Понимаешь, Влад, нам трудно объективно оценивать Его Стихи – все строки имеют для каждого из нас свою тональность, свое настроение, ответную реакцию. Мы предвзятые ценители Его таланта, оставившего в нас индивидуальные отпечатки... – Боб замолчал, не закончив фразы.
Разговор замедлился, сбившись с пути...
– Неужели так просто: надеваешь на шею металлическую игрушку и превращаешься в Нью-Мессию? – спросил я.
– О-хо! Если б все было так просто, как с женщинами! воскликнул Любен. – Голос Тилла У. помогал лишь тем, чьи души оставались живыми, не потерявшими способности деторождения. Он вкладывал в них частицу себя, как семя в благодатную почву... И они покидали Зал, взявшись за руки... Они... голос Любена задрожал. – Конечно, когда он стал популярен, под него подстроились и стар и млад. Так что сегодня невозможно сказать: вот этот действительно страдает и мучается, а этот лишь наигранно закатывает глаза. Знаешь, сколько друзей в одночасье появилось у Тилла У.? И врагов, – добавил Вейн.
– Конечно, – кивнул Любен, – жаль только, что многие из них никогда не слышали Его голоса...
– И не стремятся услышать, – проворчал Молчун.
– Ребята, – перебил я и намекнул, – все же – вас пятеро, м-м?
– Нас пятеро, а ты один! – разозлился Вейн.
– Не ругайся! – закричал на него Стае, – лучше объясни!
– Что тут объяснять, – Любен развел руками – жест обозначал начало импотенции, – мы не можем! Мы фригидны! Усилитель не реагирует на нас! Мы бесплодны – хотим, но не можем.
– Хуже того, – сбивчиво добавил Стас, – сами нуждаемся в живой музыке, как пиявки, привыкшие сосать кровь наркомана. Без нее мы вялы, апатичны, никчемны и слепы...
– Нуждающийся в Его голосе не может петь сам, – подытожил Вейн.
– Тогда почему я, не слышав Его голоса, могу? А как же другие группы? Что, и Джеббер перестал петь? И Джон? И Роберт? Или они не слышали Его? Тилл У. пел только для вас, да?! – разозлился я.
– Отнюдь! – оборвал меня "Квант". – Я не согласен с Вейном. И мы можем петь, но после Тилла У. "Континуум" – бессмыслица.
– Ну, хватит учить, моралист нашелся, – огрызнулся я и спросил: – Что мне делать с диском: на шею надеть?
Все дружно закивали. Дружно-молча.
Я протянул к диску руку. Ребята замерли, ожидающе насторожились. Только Боб, как ученый-теоретик, знающий итог опыта, не сомневающийся в правильности своих постулатов, сложил на груди руки, улыбаясь многозначительно-спокойно.
Я осторожно взял цепочку, приподнял диск, перекатил на ладонь: он пульсировал – измученное живое существо, прячущееся от погони. Или бедро стюардессы...
– Стучит, как сердце, – сказал я.
– Ага! – воскликнул "Квант", глаза его блестели, – а в наших руках, – он протянул-показал свои трясущиеся кисти, он остается безжизненной металлоломиной.
Стас заскрежетал зубами. Боб глубоко вздохнул и подмигнул мне. Только Вейн не выразил своего отношения – как сидел глаза долу, так и продолжал сидеть, напоминая предводителя "тайного" заговора. А Сибилла, стоя у меня за спиной, уже застегивала на моей шее цепочку усилителя.
Я бережно-осторожно спрятал диск под футболкой... он прилип к телу, слился с ним, вторя тактам сердца, ритмам души, призывая ее петь, говорить и читать стихи.
– Ну... – прошипел я, прокашлял иссохшее горло, – чего бы глотнуть, да попробуем спеть?
Эхо радостных возгласов-вздохов послужило мне ответом.
– Для того и собрались! – воскликнул Стас, размахивая палочками. А Любен, подхватив стул, направился к фоно.
– Начинаем? – переспросил Боб.
– Да. Только с чего? – подумал я вслух и вспомнил: Завтра вечером концерт! Хватит ли времени?
– Времени хватит: всегда и на все. – Многозначительно ответил Молчун. – Было бы желание. Так говорил Тилл...
– Тилл У?
– Тилл У. И еще он говорил, что не стоит стучаться в запертые двери – за ними нет ничего, кроме духовной пустоты. Именно ее и прячут от посторонних взглядов... Он говорил, что надо пользоваться тем, что просто, доходчиво, что трогает сердце и душу, и заходить в те двери, в которые пускают, в которые не надо стучаться: за ними нас встретят с радостным нетерпением. Таких, какие мы есть на самом деле... Он нахлынул на наши головы, как сумасшествие, как потоп, он захлестнул нас... – монотонно восторгался Вейн, раскачиваясь из стороны в сторону, как при чтении молитвы. Остается напоследок пропеть: "Славься!". Раза три, для полного кайфа.
Я неспешно обтер ладонью лоб: цирк, да и только. Ребята так убедительно вжились в новые роли, что и я им начал подыгрывать. Единственно, кому перевоплощение не требовалось "Киске", ее роль основана на смене грима, а текст остается тот же. Резонно? Или я, как обычно, несправедлив к Сиби? А к Вейну, Бобу, Любену и Стасу? Их вздохи, крехи, стоны, вопли, крики, объяснения нелогичны, они разнородны и не складываются в едино-законченную мозаику. Столько вопросов к ним накопилось... Или пресс-конференцию отложить? Прочесть, для начала:
"Выходите на улицы, бегите за город,
Ложитесь в траву: смотрите и слушайте!
Птицы, кузнечики, бабочки, мураши
Они умнее нас, они – часть природы.
Они святы в своем неведении
Ложных преимуществ цивилизованности..."
– Что-то не нравится? – спросил Стас.
– Точно сказать не могу... – уклончиво протянул я. Мелькают неуловимые образы, ассоциации... кажется, все это уже было со мной. Или не со мной? Но я знаю, я слышал... чувствовал похожее.
– Ты перестанешь сюсюкать и рассусоливать! – выкрикнул Вейн. Его агрессивность мне не нравилась. Утром, да и возле моря, он был другим. – Разве так важно! К черту твои ассоциации!
– Что в таком случае, важно?
– Подсказать? – прищурилась Сибилла, – вот послушай:
"Не проходи мимо плачущего ребенка:
Любой ребенок – твой ребенок.
Любые слезы – твои слезы.
Детей чужих, как слез чужих – не бывает!
И дети, и слезы – твои!"
– Это ты о чем? – спросил Боб.
Сиби отвернулась, отошла к стене.
– Что? – не понял я. Вейн пожал плечами. Мы переглянулись и подошли к ней.
– Влад, у меня будет ребенок... – прошептала Сибилла, сопя мокрым носом... – от Него.
– Что? – процитировал меня Вейн, вытягивая шею. Я удивленно посмотрел на него: как можно вытянуть то, чего нет?
– У меня будет ребенок! – рявкнула "Киска". – От Него!
– У тебя? От Него? – переспросил Вейн, открыл было рот, но захлебнулся на первой ноте смеха, оглядел Сиби: – По тебе не скажешь!
– Господи, Молчун, ты наивен, как мальчик! – отрывисто произнесла "Киска", – до трех... месяцев... не видно...
– Извините, что вмешиваюсь, но, если мне память не изменяет, уже пять месяцев как... – напомнил Боб. Он так же, как Любен и Стае, стоял рядом, слушая признание Сибиллы. Любен на счет: "семь", а Стас "девять"...
– Не имеет значения! – огрызнулась Сибилла, пытаясь заглушить их счет...
– Сказки братьев Гримм! – оценил Стас, добравшись до пятнадцати – Сиби находилась в глубоком нокауте.
– Да-да, – прошептала она. – Сказочки! Я всю жизнь мечтала иметь ребенка... если хотите знать...
– Твое личное дело, – резко произнес Веян; оставаясь жестким, – где, когда и от кого?
– Это-о... – я соображал медленнее, чем мои друзья, потому влез в разговор, надеясь вернуться на несколько фраз в прошлое:
– Что значит, не имеет значение?
– А разве так важно? – вскинулась "Киска".
– Заколдованный круг, – я покачал головой.
– Лишь одно имеет значение – будешь ты петь или?! Понятно! Но ты, Влад, боишься! – Сиби прищурилась. – И еще: я не уверена, что ты сможешь петь, как Он! Петь не жалея себя. Ты же не веришь! Ни единому нашему слову, сидишь, как в театре марионеток с мороженым в одной руке и с программкой в другой!
Положим, сценария я не знаю. Наоборот, каждая последующая сцена загоняет меня в очередной тупик. Но! Тут Сиби попала не в бровь, а в глаз – разве можно сходу, за полчаса, с бодуна, поверить в бред собачий, даже если тебя уверяют в его стопроцентной реальности пятеро лучших друзей. Зря я вернулся. В Антарктиде было труднее – физически, но проще для головы – сказано делать – делай, не раздумывай. Всякая работа на международной – необходима. Тем паче, что основные обязанности – журналистику – я там забросил, радовался, что голова ни о чем не болит! Пусть начальство думает, пусть думает Гэм или Томми. Мое дело – сторона. Круглое – кати, плоское – тащи. Все!