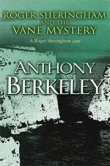Текст книги "Клипп"
Автор книги: Борис Крылов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Крылов Борис
Клипп
Борис Владимирович Крылов
КЛИПП
Самолет с ходу ввинтился в ночные облака, набрякшие дождем, вынырнул из них под купол темно-голубого неба с малиновой окантовкой. Набрав высоту, он медленно двинулся на север. Я внимательно следил за игрой света и тени, пытаясь понять правила, определить – кто за кем гонится. Оставшиеся далеко внизу облака, близнецы льдов, неспешно сдвигались с места, исчезали под корпусом самолета, создавали иллюзию, что мы висим на месте, как воздушный шар.
Свет в салоне притих: полумрак над креслами заполнился воплями и стрельбой из динамиков видеомагнитофона. Я приподнялся, оглядел импровизированный кинозал. Боевик вызвал интерес лишь у трех пассажиров, остальные спали. Я достал наушники, отключил от себя бессмысленную пальбу и скрип тормозов, зажег ночник, продолжил свои записи в дневнике:
"...неспешно обжав своей усталой рукой все правые ладони вновь прибывших, я взвалил на спину рюкзак и медленно, но целенаправленно, неуклюжими утиными шагами-раскоряками, поднялся по трапу. Там, внизу, стоя на гладкой ледяной поверхности, я оставался полярным "зубром", но оказавшись в салоне самолета, распахнув шубу, сбросив ее на кресло, запихнув в рюкзак... откинувшись в кресле, выглянув в очко иллюминатора... я, как ни странно, очутился в привычном мне реально-газетном мире. Пахнуло бесстыдными перспективами шумной городской жизни, сокрытыми в ней возможностями: предельными и запредельными. Разыгравшееся. воображение, окунув в мир иллюзорного железобетонного счастья, навязчиво-приторного, перегорело, как предохранитель. Захотелось вернуться на лед, выскочить на свежий воздух, наружу из самолета... с блокнотом в руках, с плохо заточенным карандашом. А лучше – с микрофоном. Записать интервью с руководителем Антарктической станции, "живым человеком", сделать десяток фотоснимков и вот тогда – домой..."
Надеюсь, вы понимаете мое состояние? И причины, заставляющие вносить в дневник затянутые, никому, кроме меня, не интересные факты? Но встречи не люблю так же, как моменты расставания: ведь они взаимосвязаны, а, значит, фатально безысходны.
"упрек: слова-слова... долгожданный полет – радость перемешалась с сиюминутной болью. Взревели турбины: последние минуты перед расставанием – иавечное прощание с антарктическим поселением. Линия горизонта соединяет три сочных цвета желтый, голубой и белый. На их фоне – десять сборных коттеджей, паутины антенн, силуэты пушистошубых сменщиков, новых обитателей АМС-4. Горло панически сжалось – "жизнь печальна изначально..." – всему наступает осень. Всему и всегда. Летнее знание того, что наступит осень, утренее – что последует вечер,-что жизненный цикл неизбежно заманит в тупик прямоугольной двухметровой завершенности, пусть идеально, с папахой или попоной, оформленной, навевает грусть..."
У-ух! Ну и завернул фразочку! Даже дрожь по телу! А все слова... Поймите – я возвращаюсь домой, в родной город, посему способен напридумывать все, что угодно. Сам себе разрешил.
Я могу... и пауза для поклона... А что, собственно говоря, я могу? А могу я вот что: "... все двери прихожей, называемой Жизнь, закрыты: какую из них толкнуть ногой, заглянуть внутрь, если понравится – войти? Или выйти на лестничную площадку, вызвать лифт – сто этажей в прошлое, двести в будущее. А может, остаться в настоящем? Встать на колени, закрыть ладонями глаза и – ни-ни! Даже не шелохнуться!"
Настоящее для меня – возвращение домой. И единственная возможность – на колени. И бессмысленность ожидания завтра мне тошно, меня никто не ждет!
Кому я нужен? Кто вы, оставшиеся дома? Дед. Боб. Вейн. Сибилла. Милена. Вы меня ждете? Дед? Боб? Вейн? Сибилла? Милена? Ждут, как же. Не дождутся. К сожалению – дождутся. Я не хочу к ним, но вынужден:
"Я спускаюсь всегда,
Я спускаюсь один,
И лечу под откос,
А куда еще деться?.."
"... но! Но: никаких паутинных бумажных антенн, никаких пушистых шуб: чтобы хранить вокруг себя тепло, надо жить мехом вовнутрь. Своя шерсть ближе к коже.
...но – еще одно "Но"! – как звучит, как причмокивается это слово: "пу-шис-то-шу-бы-йе", а? Я вспомнил Деда, я не могу с ним не согласиться – пишу, как живу, сплошной выпендреж. Согласен. Только что еще я могу, кроме как писать штампованные фразы в полярных отчетах? Единственное средство мимикрии – выпендреж. Еще – стихи. Иногда – практические руководства по "Философии Одиночества".
"Я одинок с тех давних пор,
С тех пор, как выпал из гнезда.
На небе вспыхнула звезда
Я вынес из гнезда весь сор..."
Это – лучшее из стихов. А с руководствами печальнее и поучительнее.
история много
Я нажал клавишу, высунувшую нос из подлокотника, откинулся назад вместе с креслом, вытянул ноги, сложил крестнакрест руки, зевнул. Дневник захлопнулся, упал на пол, застеленный ковром– Сон набросился, как из засады, заглотив... Но через пару часов самолет начало бросать из стороны в сторону.
С первыми лучами солнца, как по мановению волшебной палочки, всевозможные воздушные ямы, ухабы, канавы и овраги перестали сунцч-тноннт!,: Добрая Фея подарила нам безоблачное утро. Заодно разогнав мою многочасовую хандру. Она явилась неожиданно: дверь кабины распахнулась – салон наполнился и вспыхнул копной рыжих волос. В нагрузку к ослепительной улыбке – "плиз-направо-плиз-налево" – на выбор прилагались пепси и кофе. Ребята, включая случайно затесавшихся среди нас пассажиров, тупо кивали в знак благодарности, но от кофе отказывались решительно: его запах, к пятидесятому часу полета, вызывал стойкое отвращение. Добрая Фея, записав в миниатюрную книжечку заказы, вернулась через несколько минут, толкая впереди себя раскладной столик с тарелками.
К ремешку небесно-годубого платья, пронзительно очертившего тонкость талии, стюардесса прикрепила крохотный плейер. Из него вытекала многосложная рок-композиция: бодрящему голосу незнакомого мне солиста подпевали Боб, Любен, Вейн и Стас.
Девушка неторопливо обслуживала "антарктических братьев", ритмично, в такт музыке, покачивая бедрами. Гэм, как и следовало, не удержался, подхлопнул удаляющееся платье, чуть ниже ремешка. Стюардесса не вздрогнула, не рассердилась, наоборот, с радостной аккуратностью обнажила ровный ряд зубов. Через несколько минут очередь за улыбкой Доброй Фен сдвинулась к моему креслу. Я осмелился осторожно накрыть плейер рукой, прижавшись к волнующе-теплому бедру: девушка остановилась, вспорхнула ресницами, улыбнулась "пуще прежнего". Сердце тикнуло раз-другой и замерло. Конечно же, мое.
– Потрясающе... – прохрипел я.
– Да, потрясающе... – ответила она, а я так и не понял, о чем она: о бедре или о музыке?
В соседнем кресле, недовольно крякая, заерзал Томми Сандберг, беззвучно выругался, шевеля одними губами. Потом открыл левый глаз, собираясь пожурить меня вслух, но, увидев, кто к нам пришел, лишь кашлянул.
– Ну, так кто я такой? – спросил я и ткнул его в бок.
– Влад, – еще раз кашлянул Томми и произнес незапланированную фразу, – по-моему, это твои друзья из "Континуума".
– Да, – коротко ответил я.
– С Тиллом У., – добавил Томми.
– Друзья? – переспросила девушка, округлив глаза. И легко, как дано лишь небесным ласточкам, опустилась на ручку кресла, осторожно сдвинула мою руку чуть вниз, к колену, но единственно для того, чтобы прибавить звук. Музыка разлилась по салону, а стюардесса вернула пальцы – мои – на прежнее место, на бедро. Композиция длилась минут пять – крепкий джонки-блюз в стиле Боба – я с трудом сдерживался, чтобы не закричать, так жгло ладонь живым огнем, кровь в пальцах пульсировала и стонала. Но девушка, казалось, не замечала моего истинного возбуждения – главное для нее – музыка! Последняя нота повисла в воздухе, растворилась, девушка остановила кассету.
– Гениально! – воскликнула она, – когда... его голос мурашки по телу... мне дважды посчастливилось... ощутить биение его живой музыки... друзья? – вспомнила она.
– К сожалению, я не знаком с Тиллом У. – ответил я, убирая руку, возвращаясь в салон авиалайнера.
– Жа-аль... – протянула девушка, скидывая с лица вуаль Доброй Феи, хмуря брови, – жаль... как жаль... вы не были с... ним знакомы... – она резко поднялась, привычно-манекенным движением поправила прическу и покатила столик, с накрахмаленной над ним улыбкой, в соседний отсек.
– Послушай-ка, Влад, – спросил Томми, тяжело вздохнув, тебя ведь никто не ждет, там, дома?
– Меня? Разве я похож?!...
– Прекрати, – разозлился Томми, – вечно ты пытаешься выкрутиться, уйти от прямого ответа! Я задал конкретный вопрос!
– Меня никто не ждет. С самого детства.
– Ну и дурак же ты! – воскликнул Томми.
– Это почему же? – обидеться или отреагировать на его слова, как на шутку? Обижаться на Томми не принято, значит...
– А потому! – надулся Томми. – Чего уставился? Не мог ей подыграть?
– Этой рыжей лисице?
– Тьфу, – сказал Томми, но плюнул не понарошку.
– Эдакие огнедышащие бестии на дороге не валяются! воскликнул я, передразнивая Томми. – Вот и подобрал бы ее.
– После тебя?!
– Конечно. Или она тебе не по вкусу? Не по размеру?
– Ублюдок... – прошипел Томми. – Для тебя существует хоть что-нибудь... – он запнулся, подбирая слово, – святое?
– Нет! – огрызнулся я. – Всю свою святость и девственность я растерял еще в школе.
– Ублюдок... – повторил Томми.
– Нет, не так, – хмыкнул я. – Не ублюдок, а однолюб! Ты можешь и не знать, но моя Дама Сердца еще ослепительней!..
Сказал и осекся, вспомнив Принцессу Милену, но! Вся моя жизнь – сплошные "Но"!:
– "Но разве дело в деньгах и количестве женщин?"
Томми не ответил – отвернулся и засопел себе под нос.
Минут через двадцать я потянул Томми за рукав:
– Прилетим, сам с ним познакомлюсь, тебя познакомлю, и, если ты так хочешь, эту рыжую Фею Небесных Лисиц...
– С кем познакомишь? – нахохлился Томми, вжав голову в плечи, ссутулился.
– С Тиллом У. – уверенно ответил я.
– Слава Богу, никто тебя не слышит!
– Почему? Он кто – человек или дух святой?
– Послушай, Владислав, – Томми посерьезнел, говорил медленно, задумываясь перед каждым словом, – и вспомни, как ты весь этот год орал на нас, когда мы при тебе включали музыкальный канал, так?
– Так, – согласился я.
– Ты затыкал уши и топал ногами, когда при тебе произносили слово "континуум", будь то название группы или математический термин...
– ... описывающий совокупность всех точек отрезка на прямой или всех точек прямой, так?
– Так, – дернулся-кивнул Томми...
– Продолжай, – улыбнулся я и невинно заморгал, как школьница, попавшая в лапы старшеклассника.
– Опять ты меня сбил с мысли! – Томми всплеснул руками.
– Так точно! – я выпрямил спину и отсалютовал. – Ваше приказание выполнено, сержант Сандберг!
– Идиот... – констатировал Томми.
– Так точно, сержант Сандберг, рядовой Идя Оут по Вашему приказанию прибыл для получения именного наказания!
– Влад, – попросил Томми, – заткнись, хоть на минуту. Я кивнул. Он прав, наш толстячок Томми, пора успокоиться.
– Ты остановился на "Континууме", – напомнил я.
– Вспомни, Влад, как ты увиливал от разговоров, как отказывался отвечать даже на самые невинные вопросы о своих рок-друзьях, так?
– Так, – согласился я, – но что может рассказать простой журналист о лучшей рок-группе года?
– Согласен: ничего, – кивнул Томми. – Вот и я промолчу. Ни слова от меня не услышишь. Кроме одного – Тилла У. больше нет с нами, все. Он среди нас, но не с нами.
– Он умер, но музыка осталась? – спросил я, откидываясь в кресле. Томми не ответил, он закрыл глаза, делая вид, что заснул. Ладно, толстячок, спи." Как там сказала Добрая Фея? "Живая музыка"? Что-то ребята придумали, только что именно? И кто этот мифический Тилл У.?
Спи, Влад, прилетишь – разберешься.
"... голова вспухла от неудержимой телефонной дроби, выдернувшей на край постели. Мягкий гостиничный провал поролона изувечил тело, но оно не смирилось с роскошью дорогих сновидений. Мозг хорошо помнил – сюрпризы ледяной пустыни непредсказуемы..."
– Ну, – хрюкнул я, выжидая. Обострять и усложнять – монополия начальства.
– Алло, Владислав В? Извините за столь ранний звонок, но к вам гость, – промурлыкал в трубке мягкий, заспанный, главное – женский голос. Я облегченно вздохнул – никто не заставит одеваться и вылезать на пятидесятиградусный мороз.
– Это Вейн, – объяснил я, протирая глаза, – пропустите его.
– Он уже поднимается к вам, – мягкое полусонное существо зевнуло и спросило, – завтрак?
– Спасибо, только кофе: побольше и покрепче. А на сладкое, так можете к нам присоединиться...
– Я на службе, – еще раз зевнула трубка и добавила, – десять минут продержитесь?
– Ха! Десять! Продержимся и одиннадцать! Но после двенадцатой нам станет худо, и мы начнем выть, примерно так: "Уа-ууу!" И поднимем на ноги всех ваших постояльцев.
– Профессионал! – восхитилась хранительница ключей. – Воете, как привидение из заброшенного средневекового замка. Проблем с трудоустройством не испытываете? Могу посодействовать.
– Я невероятно дорого оцениваю свой талант... Да-да, примерно в эту кругленькую сумму. Плюс пять миллионов сверху. Кстати, так почем нынче привидения?
– Хо, вы не в курсе? Аа-а, просто морочите мне голову? после чего мы еще раз обсудили оптовые и розничные цены, экспортно-импортные модификации с моторчиками...
– Хорошо-хорошо, уговорили. Забегу взглянуть на чудо природы, – согласилась ключница. – И принесу кофейник.
Вейн ввалился в номер одновременно с девушкой. Мои утренние гости отказались от кофе, я единолично переместил содержимое кофейника в желудок. Удовольствия не получил, но нужного эффекта добился. Вейн натужно молчал. Ключница наслаждалась зрелищем, а я кофеином, добравшимся до мозга. По просьбе черноволосой, коротко подстриженной девушки в малиновом свитере и джинсах, я пару раз завывал, под немое осуждение Вейна. Он – Молчун – молчал, как и следовало, а с ключницей мы сговорились встретиться вечером, после ее дежурства.
– Не надоело валять дурака? – спросил Вейн, когда мы вышли из номера. Я никак не мог попасть ключом в скважину лампы.
– Нет, – огрызнулся я, – и чего вы все меня пытаетесь учить? Помнишь Портоса? Так и я – валяю дурака, только потому, что валяю дурака. Коли не дурачиться – повыть, поржать, полаять – можно свихнуться. А я не хочу сходить с ума, как все остальные. Разве ты не видишь, сколько вокруг шизиков? К тому же, с дурака спроса меньше. "Что-с-него-взять?". И еще: "Дуракам-закон-неписан".
– Прекрати, – скривился Молчун, вталкивая меня в лифт. Мы опустились вниз, до уровня холла: стекло, ковры, ножки. Диванов, столов, стульев, девочек.
– Послушай! – я остановился. – И посмотри вокруг: как их тут преступно много!
– Кого? – не понял Вейн.
– Ну, этих, в платьях, – обрадованно воскликнул я.
– Их всегда много, а иногда – слишком много.
– Разве бывает – слишком? – удивился я, вспоминая мужской коллектив АМС-4.
– Бывает, – ответил Вейн, – сам сказал "преступно много", – ухватил меня за рукав и потащил к выходу.
– Радостная весть, – улыбнулся я, – не тащи, сам пойду.
– Хромого могила исправит, – Вейн махнул на меня рукой. И в прямом и в переносном смысле.
– Правильно, – вырвался я и побежал к двери.
Я вел серебристый "Медиум" Вейна так, как будто писал очередную статью для газеты. Писал, заранее зная, что и она не пройдет. Как и все предыдущие. Мысленно я видел, как на ровном белом поле листа, слева от напечатанного текста, появляется карандашная надпись: "Вычурность, красивость – одно из зол Вашего стиля". С редактором не спорят.
А я не могу писать иначе: будь то статья или запись в дневнике. Мне тесно в рамках строгих литературных ограничений.
Поэтому: "... машина тупорыло петляла, утрамбовывая и без того плотные ватные тампоны тумана, набившиеся в узкие щели меж домов. Солнце, перепутав день и ночь, опорожнило дрожащие надежды утренних мечтателей – они уже не смогут окунуться в одобрительное поблескивание его лучей. Фонари, бледными немощными пятнами, как знаки дороги "наезды-настолбы-запрещены", съежившись, охраняли самих себя. Очередной поворот выбросил машину на набережную. С моря налетел ветер, протиснулся сквозь крохотные щели, наполнил салон густым тинным выхлопом..."
Я закашлялся, автоматически вжавшись в тормоз. "... рядом сидел Вейн, привалившись к дверце, на правый коть: левая рука изредка – лениво приподнималась, указычая, где-когда-куда поворачивать. Черный блестящий ремень" подпоясывал темно-синий комбинезон – униформу "Континуума" и его фэнов – безнадежно пытаясь затянуть животик, приурочить его исчезновение ко Дню Гармонии, к Юбилею Единения Тела,и Духа..."
– Прочитал? – спросил Вейн-Молчун, как умел только он, не разжимая губ.
– Чи-то? – переспросил я, отлично понимая "о-чем-он".
– Книгу Его Стихов, – спокойно ответил Вейн: год назад он заводился с пол-оборота, так не любил повторять и пояснять. Но сегодня он не только пояснил, но еще и добавил: – Притормози.
"... машина прижалась к поребрику, мраморная целостность набережной обрывалась лестницей, стекающей к пляжу. Мотор, выплюнув остатки перегара, затих..."
– Нет, – признался я, – не прочитал.
Вейн ничего не сказал, а я, как нашкодивший юнец перед блюстителем порядка, начал оправдываться:
– Возле трапа меня перехватил Боб и отвез в гостиницу. Мы решили, что наша встреча – прекрасный повод помянуть Старые Добрые Времена. Ты не станешь возражать?
– Не стану. Но меня он разбудил ровно в пять, когда ты еще дрых без задних ног.
– Я всегда дрыхну без задних ног. Я их отстегиваю и прячу под шкаф. Кроме того, вчера я постарался за двоих. Ты же знаешь, какими ветрами меня занесло, – объяснил я, "панорамным взглядом охватывая годичное пребывание на АМС-4".
– Там не поминают Старые Добрые Времена?
– Единственный застольный праздник – Рождество. Все остальные – безалкогольные.
– Вот ты вчера и дорвался. Да еще, наверное...
– Еще – не было.
Вейн хмыкнул – "так-мол-я-тебе-и-поверю" – и протянул книгу: – Читать способен?
– Спрашиваешь?.. – обиделся я и несколько раз просигналил.
"... разбуженные чайки, недовольно гикая, снялись с питательных точек, "взмыли в воздух и растворились в туманных раскатах печального рассвета..."
– Помнится, машины ты водишь даже в беспамятстве, – парировал Вейн и выдавил из себя еще один хмык.
– Она? – удивился я, принимая книгу из его рук, ощущая тяжесть бумаги в зеленом супере.
– Да. Книга Его Стихов.
– Странно. Вчера она выглядела как покетбук, а не как подарочное издание.
– Прямо из типографии? – спросил я.
– Почему из типографии?
– Ну... Боб ничего не говорил о переиздании Книги.
– Переиздания не было. Книгу Его Стихов издали один раз.
Спорить с Вейном, как и расспрашивать его я не стал. Осторожно раскрыв Книгу, разъединил склеившиеся страницы, заглянул внутрь...
– Это что, нелинованная записная книжка?
Вейн с тоской посмотрел на меня, неопохмелившегося идиота, выхватил Книгу, раскрыл, протянул. Я прочитал вслух:
"Легкий взмах руки, румянец на щеках.
Нежное движенье, первой боли страх.
Томные глаза, дрожащие ресницы.
Легкий взмах крыла, страданья дикой птицы.
Поцелуи, пламенные руки.
Бархатные пальцы, фортепьяно звуки.
Шорохи парчи, зашторенные окна..."
Я замолчал, задумался. Что это? Стихи или набор слов для пения внутрь себя? Под рожок, флейту и африканский барабан, обтянутый бесплатной белой еврокожей.
Я повернулся к Вейну, но вопрос так и не задал. Молчун сидел тихо и блаженно улыбался, я смотрел на него, вспоминая...
"... впервые они познакомились лет двадцать пять назад..." Все правильно – мы дружны со школьной скамьи. Наше совместное детство прошло на чердаках и помойках. Мы чистили соседские фруктовые сады, освобождая их от излишек, дергали, как положено, девчонок за косички.
После второго четырехгодичного цикла Вейна выперли из школы за "патологическую неуспеваемость и преднамеренную молчаливость". Единственным человеком, знавшим, почему он закрыл свой рот на замок, был я. Вейн жил с матерью и сестрой. Мать пила, постоянно награждая детей оплеухами и тумаками.
Именно закалка, полученная Вейном во время семейных баталий, помогла Молчуну прозреть: еще в школе он понял, что знания, вдалбливаемые учителями в наши зеленые мозги, ложны и к реальной жизни не имеют никакого отношения. Мы – остальные – катаясь, как сыр в масле, не испытывая ни материальных, ни физических трудностей, заглатывали брехню учителей кусками, не разжевывая.
Молчун на слова, он хорошо пел, правда, не имея собственного репертуара. Я до сих пор храню три кассеты с записями его юношеского голоса. Наши пути разошлись, когда я поступил в столичный Университет, уверенный, что писательству могут "Научить заочно, без практики жизни, стоит только вцепиться в парту, да покрепче. После первого семестра я начал догадываться, что в чем-то мои расчеты ошибочны, и, чтобы набить руку, устроился в газету, совладельцем который был и остается Дед – мой двоюродный дядька – не столь старый, сколь бородатый.
Вейн, два года бродивший по стране вместе с группой хиппи, в итоге загремел в армию, вляпавшись в разгар Островного конфликта. Последствия: госпиталь, малярия, желтуха и ранение в ногу. Я, будучи, студентом, отвертелся от призыва, он – вынес в сердце боль кровавых бессмысленных схваток во имя Чести Господина Генералиссимуса. Вернувшись из госпиталя он начал сочинять сам – злые, откровенные, без промаха бьющие песни... Но очень скоро понял, что в одиночку стену равнодушия не пробить, что единственное спасение – влиться в андеграунд. Что он и сделал. Несколько лет спустя, когда рок легализовался, Вейн вынырнул на поверхность вместе с группой "Гильотина", завоевав титул "Лучшего бас-гитариста". После одного из концертов мы встретились – я к тому времени вернулся в город несолоно хлебавши: бросил учебку на седьмом семестре.
Год спустя успехи "Гильотины" пошли на спад – Вейн никогда не выпендривался перед публикой – и группа развалилась. Почти в то же время Боб "Киндер" начал создавать новый ансамбль, он узнал, что Молчун "развелся", так что первым, кого он пригласил, был Вейн. Я вертелся поблизости и, познакомившись с Бобом на одной из вечеринок, устраиваемых Молчуном, быстро с ним подружился. Боб "Киндер", он же – "Непревзойденный Аранжировщик", пронюхал, что я промышляю не только журналистикой, но и стихами – привлек к работе. Внешне Боб походил на могучего рыцаря, сошедшего с обложки героической фэнтэзи, на Конана-варвара, правда, без волшебного меча или шпаги, и обладал удивительной способностью располагать к себе людей. Вслед за Вейном к нему перешел "Квант" Любен, инженер-программист и клавишниквиртуоз. А спустя еще один день он притащил Сибиллу, голос которой сочетался с потрясающе-откровенной фотогеничностью. Разнообразие в мажорную жизнь группы вносил Стас: он постоянно исчезал вместе с барабанными палочками, посещая сборища коричневых. С последующими, пусть непродолжительными, но профилактически необходимыми отсидками за клетчатыми окнами. Головомойки и внушения на Стаса не действо-. вали, а его убеждения никакому логическому анализу просто не поддавались. Так что год назад, перед моим отъездом, Боб окончательно решил с ним расстаться.
Я исправно рисовал для "Континуума" стихи, – некоторые тут же шли в дело – но петь отказывался наотрез; Зачем? Если есть Боб, Вейн и Сиби? Сиби...
Ребята терзались и круто тосковали, но ни слова упрека. Страдали все, кроме нас с Сиби. Так уж вышло, мы спали вместе и часто. Но на сцене "Континуум" выглядел единым механизмом движения вперед, даже когда Вейн или Боб пели "свое".
Розовые облака растворились в тот день, когда меня представили Дочери Мэтра Города – Принцессе Милене... и я написал: "Чужой любви не замечая, мы любим то, что нам не по зубам..." Строки не пристроились к музыке, остались исповедью бумаге...
"...С тех пор прошли годы!.."
На самом деле не так много. Но! Мы успели постареть и изрядно обтрепаться.
Я внимательно вгляделся в опухшее лицо Война:
"... усталые глаза, нос картошкой, всклоченные волосы, бакенбарды, торчащие перпендикулярно вискам, подбородок, выбритый вчера и торопливо – разрозненные седые щетинки протыкали его с откровенным вызовом..."
– Поброжу по берегу, – сказал он, резко обернувшись, перехватив мой любопытный взгляд. Ткнул пальцем в книгу:
– А ты...
– Договорились, – ответил я. – Иди-иди, не сопи над ухом!
"Хотя я не был на войне,
И не стонал под артобстрелом,
Кровь не сдавал в актив стране,
Не рисовал плакаты мелом:
Я вместе с вами,
Я – как вы – погиб".
Я задумался, силясь вспомнить: чьи это строки? Откуда я их знаю? Неужели Тилл У. сочинил их за тот год, пока я отсутствовал? Слышать не мог, но уверен, что знаю. Ерунда – я их где-то уже читал: знакомые близкие слова.
"Война ушла, распотрошив могилы,
В гробы насыпав градин из свинцовых туч..."
Я суетливо перевернул страницу:
"Печаль и боль, боль и печаль
Затмив и ревность и любовь,
Меня грызет свинец и сталь.
Боль и печаль, печаль и боль
Сталь режет раны,
Горе сыплет соль..."
Слова, сложенные в строки, строки срифмованные в стих. Я пытался сочинять похожее, когда читал Ремарка, Барбюса и Олдингтона.
Глава "Боль прошлого" заканчивалась послесловием автора:
"Почему Война поныне остается Тем придорожным Камнем, возле которого я останавливаюсь и снимаю шляпу? Я не воевал, меня не провожали на фронт мать и невеста, я не мерз в окопе, припорошенном снегом, не истекал кровью. Но я не могу не писать, не петь, не кричать о войне! Всей Душой! Миллионы людей остались лежать в земле... Удобрять землю людьми варварство..."
Громко написано, правильно. Но не многовато ли пафоса? Или во мне говорит привычка всегда и везде посмеиваться над высокопарными фразами? Привычка, всосанная с молоком школьных учителей: восхваляй придуманное, но не думай о настоящем. Оно должно созреть для мифотворчества.
Я вернулся к оглавлению – что там еще? И обнаружил страницу с фотографией: длинные волосы, бородка, серьезные, но усталые глаза – Лик Иисуса. И подпись: "Тилл У. Избранные стихи, песни, статьи". Странно, почему в первый раз, когда я залез в Книгу, не обратил внимания на фотографию и надпись?
"И вывел меня на предельные суффиксы счастья,
И поднял меня на отчаянный подвиг души!"
Может, и красиво, но безжизненно. Я не прав? Напоминает нравоучения в стиле Деда и иже с ним.
Но если я уверен, что прав, зачем уговариваю сам себя? И откуда доносится это неуловимое ощущение, что в строках мои мысли?
– Эй, Молчун! – крикнул я, высунувшись в дверной распах. Но Вейн даже не обернулся, пришлось вылезти. Я направился к нему, а тем временем:
"... ветер, длинным холодным шарфом брызг, намотался на шею. Я медленно приблизился к известному бас-гитаристу – он тихо напевал, забыв о моем присутствии..."
"Возьми меня с собой!
Покажи, как плещется вода.
Дай послушать, как поют золотые рыбки,
Живущие на свободе, а не за кирпичными
стенами аквариума..."
– Что поем? – бодро спросил я, перейдя с письменных цитат на устную речь. Вейн поднял на меня спокойные, уверенные глаза, глаза человека, познавшего Истину, и ответил:
– Песню...
– Свою или Его?
– Ты спрашиваешь так, что можно поверить – не знаешь...
– А откуда мне знать?! – я пожал плечами.
– Стихи и музыка... конечно Тилла У. – и, после музыкальной паузы, разразился монологом: – Ты чувствуешь, как сегодня по-особенному страстно пахнет море?
"Небо впадает в море,
Море ласкает небо.
И чайки на горизонте, и..."
...и еще, и еще, и еще...
Я не верил собственным ушам: Вейн ревниво, как заботливый любовник, описывал достоинства своей Возлюбленной – Природы, которую год назад – в упор не видел! Мы дошли до того, что шутили на счет Молчуна, он, мол, появился с гитарой в руках прямо из утробы матери, доставив женщине незабываемое ощущение...
– Море, – улыбнулся он, потянул за рукав, – ты давно его не видел... А теперь – в путь, только за руль сяду я.
Устроившись на переднем сидении, Вейн приободрился, глаза запылали, как во время выступления. Молчун здорово чувствовал момент начала движения – стоунролл – будь то движение Зала или машины, ему без разницы. Требовалось задать направление, а скорость он мгновенно набирал сам.
Я вернулся в распаренное нутро бензоеда с явной неохотой. Машина резко сорвалась с места, опрокинув меня на заднем сидении. Тормоза жалобно завыли, вписывая "Медиум" в виражи. Я спрятал нос в книгу – разбиться, так хоть не зная "обочто-именно".
Тилл У. выплеснул на меня со страниц ощущения, возникшие минуту назад:
"Мы покинули берег моря,
Облизанные языками пены,
Наполненные мутью тинотемья..."
"Тилл У. – кудесник вокала, основоположник "живой" музыки, волшебник сцены! Больше того – он гений!".
С этих слов начиналось скромное послесловие. А далее:
"Тилла У. надо слушать "живьем", иначе его действие бесполезно для вас. На концерте его "живой" голос навсегда проникает в Вашу Душу. Вы покидаете Зал помолодевшими: надежды и мечты, сила и смелость, любовь и доброта – возвращены Вам!"
Я перелистнул страницу, не дочитав, и заглянул – очень хотелось узнать: кто так сладко расхваливает Тилла У. Заглянул и зажмурился, ослепленный, затряс головой. Бр-ррр!!! Изыди, Сатана! Под послесловием, в правом углу, стояла подпись критика, на дух не-пе-ре-но-сив-ше-го нашу музыку, будь то арт-рок, соул-рок, тем паче, хард-рок...
– Что с тобой? – Вейн остановил машину, повернулся.
– Как тебе это, а? – я показал ему подпись.
– Написано правильно... – Вейн пожал плечами.
– Но кем! Ты статьи его помнишь? Злобные укусы старого кобеля!
– Не кипятись, Влад, – улыбнулся Молчун.
– Что значит – не кипятись? Неоднократно сталкивался с ним в редакции...
– Ты? – удивился Вейн. – Никогда бы не подумал!
– Кто ж еще... – обиделся Влад В. и уткнулся в книгу, в ней еще буйствовало послесловие:
"Его потрясающая музыка удовлетворяет вкусы всех, начиная с трехлетнего ребенка и кончая девяностолетним старцем. Мужчины становятся мужественными, принципиальными, честными. Женщины – нежными и ласковыми. Иногда желание в них перехлестывает фарфоровые края чаши любви – но кому от этого хуже? Любовь – спасение от всех бед..."
Эй, мистер послесловец! А как быть с тем, что вы писали раньше? "Кто не со мной – тот против нас!" "Любовь – Зло, которое разрушает и душу и тело!" И еще: два, три, четыре и далее лет назад для вас существовал лишь один критерий оценки человека – возраст!
Я спешно закрыл Книгу, чувствуя, как внутри поднимается к горлу-злоба; пролистмул:
"Фантазии толпы меня манят,
Kill; iviin oi'iiinwmibix rn.iy.noii..."
И еще раз пролистнул, наугад:
"Граммофонное шипенье старой дамы,
Скрежет покореженной иглы..."
– Приехали, – объявил Вейн.